Анна Сметанникова. «Особенности перевода языка японской экзистенциальной эстетики» (Часть I)
28.02.2012Этот текст не является докладом или эксцепцией из специальной литературы, которой автор, к слову, пренебрегал в пользу художественной, но эссе инициата, увлеченного японской культурой, и искусством в первую очередь. Попыткой рефлексии и личным прочтением восточного метафизического кода, сквозь морфологическую призму эстетико-философского языка дзен, а также попыткой лаконического сопоставления восточной и западной культурной парадигмы, оформленной в окончательном статусе, планируемой второй частью, рассматривающей, соответственно, европейскую эстетическую традицию.
Японский космогонический модус является практическим и универсальным, философским языком, глубоко укорененным, в первую очередь, на синтоистской и буддийской традиции. Центральным аспектом этой модели выступает идея Бытия, реализуемого посредствам ритуализированной этико-эстетической действенной системы. «Бытие», как то, что в китайской традиции обозначается «Великим пределом», представляет собой бесконечно циркулирующий поток мимолетных мгновений, сопряженных процессов «бытия» — актов проявлений существований, непрерывная динамика которых, раскрывается через установление субстрата «отношения» и является фактором инициации самого архэ-универсума.
Ключом к пониманию японской эстетической концепции, является исходная позиция знаменитого коана «Одна рука», т.е. непосредственно тезис хлопка двумя ладонями. Демонстрирующий первичность «отношения» в мирообразующем взаимодействии субъекта-объекта, подобно тому, как хлопок раздается лишь благодаря мимолетному соприкосновению двух ладоней, и исчезает в небытии. «Быть», для японца, означает быть полностью вовлеченным в собственное существование, присутствовать здесь и сейчас, безраздельно находиться в единственном данном мгновении настоящего, исключительно в пространственных рамках которого, проявляется экзистенция. Основанный на осознании и принятии неуловимости универсума, его бесконечной эквилибристике между бытием и неБытием, динамическом единстве бесконечности множества, японский менталитет воспринимает это существование, как ежесекундную самоактуализацию, путем образования «отношения».
«Ты, сидящий передо мной, — вовсе не индивидуальное существо, а лишь частица всеобщего Хаоса. Твой хаос — это и мой хаос. Мой хаос — также и твой. Бытие — это общение. Общение суть бытие»
(Х. Мураками «Охота на овец»)
Для проявления утверждающего «отношения», и задействуется категория прекрасного. Обозначаемое термином «фу-рю» («поток ветра»), оно, таким образом, уподобляется самому потоку универсума, модусу мышления, являясь способом, а не средством существования. В японском языке, существуют, также, специфические аффикс «кана», придающий слову какую-либо эмоциональную окраску или читаемый в качестве восклицательного знака; и иероглифы, выражающие отдельные состояния переживания прекрасного — «любование цветением сакуры», «созерцание полной луны» и др.
Здесь проявляются два коренных принципа японской эстетики – «моно-но аварэ» («очарование вещей») — т.е. умение выявлять прекрасное из окружающей реальности, наслаждаться естественной красотой вещей (так чайная пиала красива не благодаря каким-либо фиоритурам, но тому, насколько ее исполнение, материал, форма отвечают практической функции, насколько приятно держать ее в руках, насколько она сохраняет тепло и вкус напитка и т.д.). И, согласующееся с ним, стремление к природе как таковой, что наиболее отчетливо прослеживается в живописи и поэзии, где преобладают природные образы и метафоры. Отсюда происходит и, не теряющая актуальности, приверженность японца к «ландшафтным» искусствам, и, распространившаяся в стеснённых условиях мегаполисов тенденция обустройства в пространстве жилищ миниатюрных оранжерей, садов-огородов, наконец, создания композиций бансай и икебаны, занимающей одну из центральных позиций в алькове традиционного «алтаря красоты» — «токонома». Также как и правило сезонности, во многом определяющее жизненный уклад японца, от многочисленных празднований, до выбора продуктов питания, в равной степени затрагивающее традиционные искусства.
«Моно-но аварэ», раскрывает и другой дзенский архэ японской эстетики: «татхата» («таковость»), подчеркивающий ее интуитивистский, спонтанный характер, и основанный на представлении о первичности процесса, не направленного на конкретный результат. «Приходящий просто так» — Татхагата – одно из имен Будды. Согласно этому принципу в медитацию может быть обращено любое ординарное действие, при условии исключения априори спекулятивного намерения и полного вовлечения в творящийся процесс осознания прекрасного, инициирующего «сатори» — своего рода состояние проводника, между мгновенным бытием экзистенции и Бытием универсума. Это состояние, в свою очередь, и служит импульсом трансцендентной эманации, превращающей отношения субьекта-объекта в акт генезиса и искусства, но, оставляющее самого «творца» объектом третьей реальности. Так, танец «творит» танцора; цветок сакуры существует только тогда, когда на него направлен созерцающий взгляд, а сам наблюдающий проявляется из этого «вглядывания».
Тогда как для японца не свойственен западный механический образ действий, перфекционизм как таковой, европеец, ориентированный на качественно полярную систему координат, расценивает эту предельную самоотдачу, медитативную погруженность в жизнеутверждающие моменты, как причудливую кропотливость и даже мелочность восточного менталитета.
Само же искусство, таким образом, не может быть ни выявлено как категорийная детерминанта, и изъятая из общего потока действительности область эстетической деятельности; ни рассмотрено в рамках концепций «творчества», «созидания», как намеренное «дело рук человеческих», каковым оно представляется с точки зрения западного мышления. Эта созерцательная позиция «татхата», «не-делания» действия, объясняет ритуализацию японской жизни, жизни — «дао», единственного и универсального искусства.
Японская концепция не предусматривает не только жанровой сегментации искусства, но и разделения его на декоративное и «изящное», прикладное и «высокое». Так же как сам субстрат, питающего ее идейного комплекса, не индексируется координатами полярных величин, как «добро» и «зло», «космос» и «хаос», «человеческое» и «божественное», служащих основанием всей матрицы западной цивилизации. Непрерывный культ прекрасного, превращенный в эстетическую практику бытия, занимает в Японии нишу, отводимую в европейской традиции религии, в качестве духовной, космогонической, нравственно-этической и институциональной категории. Не случайно «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон (подобно нашему Достоевскому), чтятся в Японии программной классикой, являясь своего рода кодексом национальной ментальности.
И, если, западная культура рассматривает искусство, в первую очередь, сквозь призму понятия «мимесиса», то восточная, не подражательным, а, скорее, актом «exsisto» — отражением и воплощением впечатлений, порожденных переживанием прекрасного момента, нахождения в нем, вплоть до трансцендентного «перевоплощения» (что ввиду укоренённости анимистических традиций, вполне естественно для японского мышления), отождествляющего созерцающего с объектом прекрасного. Предаваясь «потоку ветра», японец начинает творить из состояния «сатори» или «кэнсё», по сути состояния «одной ладони». Смысл его творчества заключается не в репродуцировании реальности, а в установлении «отношения», инициирующим акт экзистенциального становления. Само по себе небо не может быть ни волнующим, ни прекрасным, ни грозовым, ни вечерним, оно не может быть, пока поэт не окрасит его эйдосом. Но, чтобы не воспевал поэт, его слова всегда направленные на отдельные проявления сущностей – птица, осень, снег или любовь, — выражают всегда только одно, единственное Бытие. Истину, словами непостижимую, но раскрывающуюся, согласно традиции дзен, по средствам, своего рода, редуцирования сознания бытия, трансформации логического мышления к ассоциативно-абстрактному (отсюда, в частности, происходит и влияние восточной концепции на развитие западного авангарда в искусстве начала ХХ века), отраженной в самой системе коанов. И, в первую очередь, в коане «Му», определяющим одновременно и «да» и «нет», «все» и «ничто», наполненном содержанием, гораздо большим, чем заложено в нем изначально, именно за счет его рафинации до предельной степени квинтэссенции. В буддийских монастырях существуют специальные церемонии, включающие многодневное пребывание в медитации и воздержанности, только по соблюдении которых, монахи приступают к изготовлению мандалы. Японский художник совершает «картину» одним ударом кисти, которому, однако, предшествует внутренняя концентрация. Стихотворение складывается спонтанно, без какой-либо аналитической рефлексии и т.д.
Глубинный конфликт всей японской парадигматической концепции, корениться в синхронном стремлении самоутверждения в мгновении бытия, и осознании невозможности это мгновение преодолеть, т.к. перманентное бытие нивелирует себя, оборачиваясь НеБытием, тождественным безличному универсальному Бытию. Именно эта, доведенная до крайности, амбивалентность, осознание себя лишь безмолвием одной ладони, со всей ее слишком человеческой несостоятельностью и ограниченностью, неполноценностью существования, отринутого своей истинной природой, толкает героя Мисимы к сожжению «Золотого Храма» — аннигиляции несовершенства в потоке беспредельного целого, претворению единицы в единство, бытия в НеБытие и Ничто. Эта коллизия, возможная лишь в рамках сознания личности, но не беспредельности абсолютной природы, служит фундаментальным основанием гнозиса дзен, она же глубоко пронизывает всю национальную культурную матрицу, находя выражение в четырех ее главных принципах, известных как – «ваби», «саби», «сибуй» и «югэн». Воплощается в характерной недосказанности, суггестивности японской эстетики, в ощущении неустойчивости бытия, которую японец находит и стремиться раскрыть во всем, будь то одноразовые палочки для суси, сменные рисовые циновки татами, стихи, воспевающие недолговечность цветения сакуры, само устройство традиционного жилища, подразумевающее возможность свободной манипуляции внутренним пространством, вплоть до замены всех его элементов. Не принятие перманентной, прочной, окончательной формы, в которой японец обнаруживает деструктивное начало, сказывается и в стремлении к асимметрии, и пренебрежении любыми алгоритмами и четкими аналитическими структурами, в противовес западной парадигме, ориентированной на гармонические принципы злотого сечения и космического порядка.
Так же как японский «традиционализм» принципиально отличен, скажем, от более практического и формального анахронизма английской монархической традиции. Сама система эстетического образования в Японии, существующая как неотъемлемая часть общего дисциплинарного процесса, несет в себе принципиально иную задачу, нежели подобные западные институционные механизмы. Если «Институты благородных девиц», «кодексы джентльменов» преследуют в первую очередь цели статусно-социальной реализации, то изучение искусства бансай – не кружек вышивания для одичавших домохозяек и не уроки светского этикета, — но морфема Пути, самоидентификации, естественной необходимости, подобной навыку владения родным языком и письменностью. Каждый японец, воспитанный культом прекрасного, со школьной скамьи становиться художником — постижение сложной каллиграфической техники раскрывает в нем мастерство и живописца, и поэта, и философа, и консолидируется с целым комплексом смежных дисциплин, формирующих общую социокультурную канву японской действительности, через сопричастность к которой и происходит не только социализация, но и самоидентификация японца.
Здесь корениться тривиальная аберрация восприятия японской ценностной системы западным мышлением, одновременно раскрывающая характерную коллизию двух культурных парадигм. Европейская цивилизация, основанная на «противоречии» материалистической диалектики, склонна интерпретировать известный принцип «единства и борьбы противоположностей» в качестве конфронтации и противопоставления полярных полюсов, в том числе личности и массовости. Взгляд европейца, направленный в пространство, обнаруживает в нем множество самоценных элементов, не находя «за деревьями леса». Тогда как японское мышление раскрывает в этой двойственной модели, прежде всего, целостность, выраженную через единство (даже единичность) и взаимодействие («борьба» характеризуется здесь как «отношение»), что подчеркивается практическим отсутствием различия форм единственного и множественного числа в самой японской лингвистике. Медитативный Путь японца, направленный внутрь (не «на») себя, призван обрести собственную истинную природу (своего рода юнговскую «самость», но ни в коем случае не «эго»), через видение которой раскрывается картина всей социокультурной общности.
Таким образом, эгоцентризм, дихотомия личностного и массового в Японии уступают место все той же экзистенциальной концепции процесса взаимодействующего становления микро- и макробытия. Точно также, как «отношение» порождает цветок сакуры, воплощающий, в свою очередь, созерцающего; индивидуальность, оставаясь категорией третьей реальности, проявляется через сопричастность парадигматической общности. Парадокс безраздельности общего, и одновременного выделения из него частного, объясняется тождествованием единичного сумме. Двойка — это только незавершенная функция (не являясь ни целым, ни единичным, ни изоморфным, ни амбивалентным, она представляется диалектически неустойчивой аксиомой, не имеющей никакой самоценности), но единица уже образует абсолютное, неделимое целое.
Если «дао» европейца, это основательное мощение отдельной, но остающейся параллельной общей магистрали, дороги, то Путь японца – это только башмаки на его ногах, покрытые пылью древней автохтонной тропы, едва различимой для глаз чужестранца.
Японскую эстетическую концепцию можно, таким образом, рассматривать как своего рода не императивную, бескорыстную «национальную идею», основанную на эклектичном комплексе апроприаций, получающих путем аутентичного пересмотра абсолютно своеобразную трактовку и тождествующую в себе микро и макрокосмос. Как основание явления Японии и японца, между которыми заложен субстрат «прекрасного отношения».
Продолжение. Выпуск 4 (10) апрель











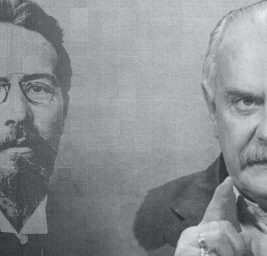


















комментария 2
Ольга Несмеянова
29.02.2012Спасибо за перевод языка японской эстетики — это нам так надо! А то ведь модно, а самим не понять
Вкусный текст, прочитала с удовольствием и надо сказать в первый раз у меня что-то уложилось на эту тему в голове
Хочется так жить, уметь так относиться к жизни и искусству, есть в этом что-то подлинное универсальное в отличие от сиюминутного и конъюнктурного.Думаю, может быть во мне есть что-то японское?)))
Pingback
28.02.2012http://klauzura.ru/2012/01/soderzhanie-vypusk-3-9-mart/