Владимир Глинский. «В поисках термина»
27.04.2012У меня было ощущение, что меня обокрали. Причем, как и все приличные люди, они сделали это деликатно и подперли это всей мощью литературоведческого дискурса. Термин, который я вынашивал в течение последнего года, и которым я собирался обозначить то направление в литературе, которое должно было, наконец, прийти на смену безнадежному петлянию среди пост- и нео- «измов», вдруг оказался уже задействован, причем задолго до меня.
Сочувствие и сопереживание, как ответ на массовую индивидуализацию
Да, именно таким мне виделось то новое направление, что должно было бы вывести нас из этой зазеркаленной комнаты смеха, по которой устало ковыляет современная литература. И это направление высчитывалось мною спекулятивным способом, так же как некогда Адамс и Леверье математически высчитали необходимость присутствия в нашей солнечной системе Нептуна. Исходной точкой являлся мой тезис об ортогональности искусства по отношению к экзистенциальной реальности.
«То есть, если жизнь излишне засушена и мало эмоциональна, то искусство неминуемо должно стать эмоциональным и полным страстей. Если жизнь суетлива, то искусство должно стать медлительным и обстоятельным. Если в жизни нет действия, значит, это действие должно появиться в литературе, театре, изобразительном искусстве. И если в жизни нет сочувствия, значит, этим сочувствием к другому/иному должно наполниться все содержание искусства», — предположил я.
Все это наводило меня на мысль, что новая литература должна стать не взглядом вовнутрь себя, не очередным уходом в раковину индивидуальности, в то же время не растворением в коллективном и не отказом от личных эмоций. Если сформулировать в двух словах – автор, принадлежащий к новому направлению, в противовес рациональности и бездуховности современного мира, должен попытаться обрести единство с этим миром, напитав его своим сочувствием и сопереживанием.
Конечно, тут же мне на память пришел сентиментализм, который когда-то стал ответом на дидактичную размеренность и некоторую социальную гиподинамичность века Просвещения. Сегодня мы имеем диктат рационального и ситуацию остановки социальных лифтов. Вернее, лифты носятся как угорелые, только кнопки вызова почему-то не работают. В результате происходит накапливание человеческого материала, нереализованного и неосознанного посредством социокультурных (к которым относится и искусство) инструментов.
Вспомним несколько основных черт русской литературы сентиментализма: уход от прямолинейности классицизма, подчеркнутая субъективность подхода к миру, культ чувства, культ природы, культ врожденной нравственной чистоты, неиспорченности, утверждается богатый духовный мир представителей низших сословий. Внимание уделяется душевному миру человека, а на первом месте стоят чувства, а не великие идеи. Не возникает ощущения, что именно новой «Бедной Лизы» не хватает нашему читательскому сердцу? Новой «Бедной Лизы», но реализованной инструментарием, который уже прошел обжиг в плавильных печах модернизма и закалку в холодных струях постмодернистской иронии. Возможно ли это? А почему нет? Ранее ведь удавалось. Достаточно посмотреть на преемственность темы «Бедной Лизы» в нашей литературе – Карамзин-Достоевский-Чехов-Шукшин… А вот за Шукшиным образовалась искусственная лакуна: зайдя однажды в комнату смеха постмодернистских зеркал, русская литература уже которое десятилетие никак не может выйти из сладостного состояния ловли мимолетных ярких глюков.
Неосентиментализм
«Неосентиментализм», — нашептывал я себе на протяжении последних месяцев. «Неосентиментализм», — называл я пароль новой литературы. И это мне казалось вполне логичным. Тем более, на фоне определенного готичного романтизма современной культуры, в которой ужастики столь тесно переплетены с гламуром и культом героя. Как заметил поэт Айдар Хусаинов, сегодняшнее литературное пространство строится по принципу: «Я – один д’Артаньян, а кругом сплошные пи..расы». Ранее это называли наличием романтического героя, сегодня толпы одиноких д’Артаньянов бродят по страницам современной литературы, попутно расправляясь с легионами нехороших людишек и моральных карликов, которыми представлен весь остальной мир.
Увы! Достаточно было спросить у Яндекса, чтобы выяснить, что термин этот уже давно, по крайней мере, в 2002 году, использован в статье Наума Лейдермана: «Траектории «экспериментирующей эпохи»» («Вопросы литературы». 2002г., №4). «Что же до «новой сентиментальности», которой М. Эпштейн пророчит будущее в предстоящей культурной эре, то она, будучи прямым продолжением «неосентиментализма», что был прерывистой маргинальной линией в предшествующие десятилетия, действительно становится в 1980—1990-е годы заметной и сильной тенденцией литературного процесса. Достаточно назвать прозу Л. Улицкой, М. Палей, Н. Горлановой, Г. Щербаковой, С. Василенко, драматургию Н. Коляды. «Новая сентиментальность» по пафосу своему противоположна постмодернистскому скепсису, и возвращает она к традициям художественной системы романтического типа» — пишет Лейдерман.
Правда, у меня возникает ощущение, что направление, в котором работают упомянутые авторы, не совсем вписывается в то направление, которое было «вычисленно» мною. Но кто раньше встал – того и тапки. И таким образом, я оказался без термина.
Ах, какая это была книга!
«Ах, какой это был дом. Он не был похож ни на что, виденное мною до четырех лет, а видел я к тому времени хоть и немного, но ведь почти все — в первый раз. Я говорю «почти», ибо некоторые вещи, виденные мною впервые, возбуждали не удивление, а совершенно особенное чувство таинственной и родственной к ним сопричастности: словно небеса, речку, внимательный взгляд щенка, листву дерев или материнскую печаль впервые видели мои глаза, но не впервые — моя душа». Я прочитал первые строчки романа «Инок» и понял: у нового направления, наконец, появился и первый житель. Это именно та книга, которая, на мой взгляд, становится ортогональной нынешней эпохе массового индивидуализма, бесчувственности и томления по тоске по отсутствующему в нас духу святому.
Инок в романе – это и есть сам автор, который, как волхв, волшебством сотворения текста, пытается вновь обрести физическое чувство прикосновенности к своему детству, к ушедшей столь рано возлюбленной, к погибшему где-то под экватором другу, к срубленному другу-тополю, к снесенному дому. Причем, для этого Петр Храмов создает неповторимое ощущение надмирности, инобытия, он смотрит на мир словно бы с обратной перспективой, которая присутствует в православной иконографии. Собственно, поэтому и «инок»:
«Инок – это священник?» — спросил я. «Нет, — отвечала она, — необязательно. Инок – это просто другой, иной человек – и-ной», — сказала она с улыбкою. Ах, Анна Дмитриевна, Вас давно нет на свете – Царствие Вам Небесное. Спасибо Вам за все, за все – я навсегда запомнил Ваши добрые глаза, Ваше справедливое сердце, усталые Ваши руки. Маленькие совсем руки…».
Стилистически эта надмирность задается особым способом сопряжения необыденных словесных и смысловых конструкций. Вот, к примеру, как он описывает обычную торговку в ближайшей забегаловке: «Роковой чертог негоции и сиделицу ютил инфернальную: легендарно грудастая и естественно-румяная Серафима глаза имела медленные и ласковые, немного сонные и весьма мудрые». Этот особый способ сопряжения слов и смыслов чем-то неуловимо напоминает прозу другого русского писателя Андрея Платонова, который писал ее, словно святое писание, божественное свидетельство тоски по отсутствующему в мире духу святому. Если же быть точнее, то по пока отсутствующему, потому что проза Андрея Платонова – это ожидание божественной любви, ожидание дня творения. Это ветхозаветное время, когда несть неба и земли, несть света и тьмы.
А вот несколькими абзацами ниже следует: «Симочка стояла за прилавком, но грудь ее, казалось, была перед ним мерно дышащим облаком, воспаряя над старенькими весами со смотрящими друг на дружку утиными мордочками». Ничего не напоминает? А вот это: «Готовясь нас выслушать, она повернула к нам самое чуткое к звукам место белой и нежной своей шейки»? Не ощущаете в этих цитатах какого-то блаженного юродства, которое было нам явлено в бессмертной поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»? Еще один пример надмирности в литературе, но достигаемый при помощи доведения до абсурда безгрешного страдания и сочувствия. Опять же, если вернуться в парадигму Великой Книги, то это мир Нового Завета, прихода божественного в наш мир, и его страдания.
Мир книги Петра Храмова находится между Богом-Отцом Андрея Платонова и Богом-Сыном Венедикта Ерофеева. Может, именно поэтому она действительно до последней своей запятой переполнена любовью и жалостью, неимоверным усилием памяти и сопереживанием. Эта книга своей чистотой тонов может и обязана послужить камертоном для зарождающейся сегодня в потаенных от современной критики и читателя уголках великой русской литературы. Я уверен, что книга требует обязательного ее осмысления как события не столько уфимской литературы, и даже не только российской, но и общемировой литературы.
Интросентизм
Появление книги потребовало нового поиска термина, потому что «Инок» никак не хотел находиться в одном ряду с означенными выше неосентименталистами. Мне показалось возможным отсечь от термина отсыл к ментальности «мент» и суффиксом «интро» ввести направленность интенции и ее временной характер. Ибо это сопереживание дается внутрь вещи и как бы за мгновение до ее Божественного сотворения. Но здесь я остановлюсь, потому что открытие двери из этого затхлого мира постпостмодернистких забав, отняло слишком много усилий. Просто процитирую Наума Лейдермана. По-моему, он довольно чутко обозначил мои предощущения от пространства, которое ожидает нас за порогом этого нового направления.
«Какой будет эта новая концепция Космоса? Будет ли это возвращение к уже известным моделям — реализму, сентиментализму, классицизму, — оснащенным приставкой «нео»? Или будет сформирована принципиально новая, ни на что не похожая художественная концепция, соединяющая в себе потенциалы различных художественных систем? Не обернется ли установление Космоса новым нормативизмом, проступающим в столь любимых массовым потребителем культуры «мыльных» телесериалах, которые, несмотря на разные национальные корни, типологически мало чем отличаются от приснопамятных соцреалистических моделей («сказочная быль»)? Или это будет Космос, знающий о своей хрупкости, необъективности и условности, Космос, не забывающий о соседстве с Хаосом, не отделяющий себя от Хаоса и ведущий с ним не прекращающийся ни на секунду философский диалог?».






















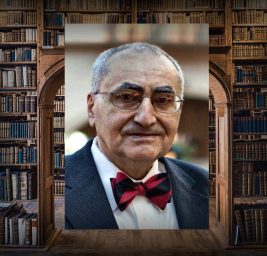



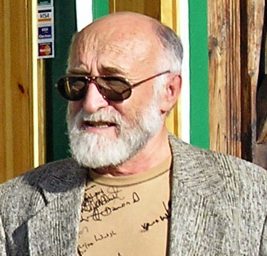





комментариев 5
Pingback
02.10.2013http://klauzura.ru/2012/01/vladimir-glinskij/
Pingback
27.05.2012http://klauzura.ru/2012/05/olga-nesmeyanova-kitch-kak-stil-masskultury/
Валентина Лунева
20.05.2012Интереснейшая статья!Большущее спасибо за приглашение!
Ольга Несмеянова
27.04.2012Насчет термина.
Не страшно, если вы его будете употреблять в своем значении или близком наряду с кем-то. И не факт что надо обязательно придумывать что-то новое, если есть то, что удобно употреблять. Впрочем, почему бы нет?
Хотя конечно пост- и нео- везде задолбали и наводят на мысль на отсутствие фантазии у авторов и то, что нового все равно ничего нет
Сама по себе идея искусства, ортогонального жизни и выводы о новой сентиментальности и ее проявлениях(готика, гламур, некоторые формы китча и пр.), последовательно продвигаемая автором, кажется мне рациональной и глубокой. Мне кажется она шире,чем область литературы, а распространяется не только на все виды искусства, но и на мировоззрение, образ жизни. Ее проявления везде очевидны, как только автор указал на явление и теперь можно на это обращать особое внимание, а не проходить мимо с досадой, что искусство опять плохое и не такое как хотелось бы
Pingback
27.04.2012http://klauzura.ru/2012/03/soderzhanie-vypusk-5-11-maj/