Нина Щербак. «Изумрудные волны». Рассказ
05.06.2024
/
Редакция

Крейслер недоверчиво засмеялся:
— Мадам, должно быть актриса…
Он думал о том, в какой ситуации он оказался на сей раз, терпеливо перебирая в памяти эпизоды своей жизни, и с удивлением косясь на своего нового знакомого, который сидел с ним за одним столом на фоне изумрудного моря, за завтраком, и попеременно рассказывал о трудностях общения со своей хорошей знакомой.
— Нет, даже не говорите мне этого, — продолжал спутник Крейслера.
— Почему? – Крейслер поправил свой белый накрахмаленный воротник, ерзая на месте, понимая, что долго разговаривать с его собеседником просто не получится.
— Потому что вы никогда не поймете, что именно она собирается сделать в следующий раз.
— Уж так никогда и не пойму?
Крейслеру не нравилось общение. Господин напротив него ему тоже не особо нравился. Он терпеть не мог, когда знакомых, тем более женщин, обсуждали вот так открыто, в компании, среди друзей. Ему казалось это чем-то странным, даже не то, что «невоспитанным», а каким-то выворотом, странностью души.
— Она… – господин, казалось бы, словно набирал обороты. – Она…
Крейслер встал, чинно откланялся и медленно пошел вдоль по белоснежному балкону, в сторону моря, то и дело стряхивая пепел со своего рукава. Ветер словно мешал ему докурить сигарету, заставив его, наконец, размахнуться и выбросить ее прочь.
Погода стояла восхитительная, бриз гладил по лицу шершавым песком, словно пытался заново начать и оживить, наконец, прошлое.
Крейслер в этом абсолютном раю моря и летнего ветра вспоминал многое. Ощущение невероятного внутреннего подъема и радости было сопряжено с двумя вещами. Во-первых, как всегда, с мыслями о Марианне, которая снова присутствовала в его жизни, своим терпеливым молчанием давая понять, что их отношения не завершились, а только начались.
Другой важной причиной внутреннего восторга Крейслера, оборотной стороной которого становился холод, было понимание того, что он движется в правильном направлении, обнаруживая еще более скрытые отроги смыслов и жизни в каждом мгновении своего замечательно проложенного пути.
Кристина не отвечала, озабоченная своей жизнью. Крейслер, проходя мимо ее квартиры, всегда подолгу смотрел в ее сторону, вспоминая о том, как она спасла его тогда от неминуемой аварии, какая она была красивая, искрометная, улыбающаяся, и бесконечно добрая. Закрывая глаза перед сном, он с удовольствием вспоминал, как она поддержала его, как ухаживала за ним, и как быстро пошло его выздоровление. Он тогда, несмотря на весь ужас произошедшего, ощутил невероятную, просто нечеловеческую радость от ее присутствия. Он часто возвращался мысленно к этой важной части своей жизни, думая о том, что, наверное, не мог бы сделать для Кристины ничего полезного, но, ощущая, что столкновение с ней, изменило в нем все, привнеся в жизнь ощущение справедливости и подлинной красоты.
Кристина была очень красива, хорошо об этом знала, и совершенно не заботилась о том, чтобы другие думали о ней то, что она сама хотела. Она была необыкновенно терпелива и добра, лучезарна, и внутренне стойка.
Когда Крейслер познакомился с ней, он совершенно не ожидал увидеть такого рода человека, ощутить такой прилив сил и внутреннего восторга, о котором он знал лишь в каком-то потенциале своих чувств и отношений. Он словно закрывал глаза и вновь видел ее, полную энергии, дающую и смелую во всем, что бы она ни делала, и от этого осознания, энергия, уже начинающая угасать, снова била в нем ключом, и этот внутренний восторг был сродни чему-то совершенно юношескому, далекому, о чем он только мечтал, когда в детстве уезжал на море, и катался на катамаранах по соленой глади своих снов и миражей.
Когда он задумывался над тем, что Кристине приходилось преодолевать в связи с ее профессией, он даже мысленно не мог смириться с мыслью, что она была способна на такую внутреннюю силу, на такое благородство. Это служение было, как совершенно точно видел Крейслер, настолько невозможным, насколько естественным проявлением стойкости и невероятной доброты. С подобным Крейслер не сталкивался никогда, такого сочетания красоты и жертвенности, он не видел, поэтому мысленно, закрывая глаза, он вновь и вновь проходил мимо квартиры Кристины, считая ее кем-то приближенным Богу, женским воплощением Христа и эталоном прекрасного одновременно.
Марианне он тоже не мог помочь, хотя очень хотел. Марианна, казалось бы, была всей его жизнью, всем его существованием, радужным, или нет, и именно она показала Крейслеру всю глубину мироздания, ее бездонность, сложность. Когда Крейслер впадал в состояние неуверенности и слабости, в которых он никому не могу признаться, он мысленно сравнивал себя с другими знакомыми Марианны, удивляясь тому, насколько разными они были, и насколько многим она нравилась совершенно и абсолютно.
Понятие «роковой» было скорее чем-то женским, сродни мифологии, мужской ум никогда не воспринял бы женщину, снабдив ее таким эпитетом, и все же, нет-нет, но эта мысль в отношении Марианны приходила Крейслеру в голову, особенно, когда он ощущал невероятную от нее зависимость, и ту благодарность, которую, в общем-то не испытывал ни к кому в жизни, кроме Кристины.
Марианна была единственным человеком, который его слушал, слушал внимательно. Так Марианна слушала и других мужчин, в чем он был совершенно уверен, потому что Марианна была необыкновенно умна, и видела человека таким, какой он есть, без каких-либо вариантов или собственных предвзятых отношений.
Магия Марианны была совершенно особой. Увидев Марианну впервые, Крейслер даже не поверил, что столь сильные натуры бывают и существуют, так его удивила ее размеренность и внимание к деталям. Крейслер когда-то зачитывался Набоковым, внимание писателя к деталям было чрезмерным. Он даже буквы видел необыкновенным цветом, словно слыша и видя их в воздухе, окрашенные в разные цвета радуги. Марианна словно сочетала в себе это внимание и точность мысли, обладая невероятной, совершенно нечеловеческой проницательностью. Марианна видела на сто лет вперед, могла с легкостью увидеть любого человека насквозь, и при всем при этом, была ранима как ребенок, по гениальному искренна, во всем, что она делала.
Сочетание опытности и детскости восприятия не то, что ранило Крейслера, но оставило метку и след во всем его сознании, не говоря уже о теле. Теперь он радовался, бесконечно радовался одной мысли о встрече с ней, каждый раз удивляясь, что его воспоминания о Марианне никогда не могли идти в близкое сравнение с ней живой, совершенно реальной, во всей сложности своих улыбок, походки, взгляда и действия.
Он удивлялся, что Бог мог создать такую Марианну, удивлялся тому, что в ней было столь много сложности, столь много глубинных особенностей, словно она была маленькая Вселенная, и похожая, и совершенно непохожая на других людей.
Находясь на отдыхе, Крейслер словно обращался заново ко всему своему опыту, подытоживая главное, отбрасывая второстепенное, в попытке закончить историю, которая совершенно не заканчивалась, а только начиналась заново.
***
Ариадна тормошила его утром, обвязанная белоснежным полотенцем и в халате, и он чувствовал, как она напряглась, чтобы разбудить его, словно возвращая к реальности.
Крейслер смотрел на Ариадну с невероятным удивлением, словно не веря, что она оказалась здесь, столь уверенная, и столь открытая во всем, что она делала.
Ариадна, похоже, совершенно не отдавала себе отчет, ни в существовании Марианны, по которой Крейслер сходил с ума лет десять, ни о Кристине, которая спасала его жизнь, и которая занимала в его сознании немаловажную нишу. Ариадна даже не рассуждала на этот счет, а она просто была здесь, рядом с Крейслером, и всем своим видом показывала, что скоро окажется в этом номере навсегда, куда бы он не отправился в будущем.
Крейслер с любопытством наблюдал на Ариадной, ее прыткостью, открытостью, с удивлением вспоминания, что именно с подобной открытостью на него самого смотрел Крох, близкий друг Марианны, не осознавая, что Марианна, столь преданная ему, Кроху, так неожиданно встретит человека, который покажется ей, Марианне, еще более надежным, и важным, чем стопроцентно достойный и монолитный Крох. Для Кроха тогда это было настоящим откровением. Он был столь уверен в своем превосходстве над всеми, своем положении, хорошо продуманных деталях жизни, что совершенно опешил, осознав, что Крейслер был тем человеком, который превосходит его во всем, включая интеллект, просто раньше эти параметры превосходства, Кроху просто не приходили в голову.
Ариадне тоже не приходило в голову, сколь невозможным были ее взаимоотношения с Крейслером, и даже их короткая встреча на взморье, вряд ли могла что-то изменить, несмотря на то, что общаться обоюдно, легко и свободно, им обоим очень нравилось.
Крейслер вспоминал свою юность, как учился на инженера-механика, как много работал, и как потом путешествовал по всем странам мира. Практической жилкой он не был обделен, однако, вторжение в жизнь других миров и вселенных казалось ему чем-то гораздо более важным.
Вот и сейчас, ведя с Ариадной долгий разговор о кофе и апельсинах, он вдруг понял, что Ариадна, несмотря на все свое очарование и молодость, не видела что-то важное, что было за миром этой комнаты, а он хорошо осознавал и видел, и не мог ей никак об этом сообщить.
Надвигалась гроза, которая на море встречалась очень часто. Она напрягала весь белый город, словно доводила его до какого-то своего, природного экстаза. Море волновалось, превращаясь из изумрудного в бледно-пепельное, шквалистый ветер дул откуда-то снизу, приводя в движение песок и гравий.
Ариадна вся выгнулась словно пантера, и теперь сидела напротив окна, попивая кофе, и глядя за окно, в поднебесную даль приморского городка.
— О чем ты думаешь? – напряженно спросила она.
Крейслер засмеялся, ее самоуверенности и отчаянности. Стал рассказывать о своих студенческих встречах, о кафе и ресторанах, ночных работах и бесконечных надеждах. Потом встал, скинул белый пиджак, и принялся заваривать кофе, сдвигая внутренние тумблеры, чтобы сделать его совсем крепким и пробуждающим, добавляя вовнутрь свежемолотый перец, для вкуса и запаха.
— А я всегда общалась только с писателями, — грустно сказала Ариадна.
— Писатели? Но ведь они такие скучные, — Крейслер засмеялся снова.
— Скучные?
— Ужасно скучные. Только читают книги, чтобы найти там информацию для своих рассказов, и с людьми знакомятся для этой цели. У них нет своей жизни! Вы разве не замечали?
— Неправда! – с энтузиазмом продолжала Ариадна. – А вы? Неужели и вы так?
— А я? – Крейслер задумался. – Я…. Я – исключение, конечно! – он снова засмеялся, и уже хохотал, не столько над Ариадной, сколько над собой.
Ариадна снова что-то говорила, спрашивая у Крейслера о нем, и о его прошлом. Он ощущал легкую скуку, и ему снова и снова хотелось уйти в свои далекие миры, которые почему-то пропадали из этой странной комнаты, словно гроза силилась и силилась своими слабыми поднебесными силами, и так и не могла разрешиться.

Крейслер вышел на улицу, и в его рафинированный нос неожиданно ударил запах сирени, бог весть как оказавшейся на этом взморье. Это был запах совершенно дурманящего лета и зноя, такой пронзительно терпкий, что он даже почувствовал, как медленно качнулся, несмотря на свой огромный рост и мощность внутренней натуры.
Он прошелся по берегу, ощущая его силу и дивный запах, запах соленого моря, с разноцветными камнями, прибоем, прозрачной зябкостью песка и со дна идущего света. Пару раз ему позвонили, но, сделав над собой усилие, от внутренне отказался продолжать эту привычную тягомотную попытка совмещать на отдыхе свою работу.
«Нет, нужно от всего отключиться», — спокойно сказал себе он и вернулся в номер.
Ариадна сидела в номере несколько обиженная, и он даже понимал, почему.
— Вы такая … – начал было он, но осекся, осознавая всю несуразность их диалога.
В какой-то момент Крейслер понял, что в течение этого дня выедет из этого номера, но также осознавал, насколько некрасивым было бы такое поведение. Алкоголь Крейслер не пил, и не мог серьезно признаться себе, что подобную ситуацию не сможет разрулить.
— Ариадна, какие планы на сегодня? — бодро спросил он.
Ариадна смотрела на Крейслера с признаками явной обиды, словно укоряя его за то, что он совершенно не могу найти ей в этой жизни никакого места.
«А почему я собственно должен?» — мысленно вторил ей Крейслер, раздражаясь на какую-то долю секунды, а потом снова пытаясь найти выход из странной ситуации их совместного отдыха.
— Хотите пойдемте на экскурсию, — неожиданно для себя сказал Крейслер, и запнулся.
— Прекрасно! – сказала Ариадна, словно взяла себя в руки.
Во время автобусной поездки Крейслер внимательно смотрела на ее миловидный профиль и мягкую улыбку. Особенно ему нравилось, что Ариадна все время пребывала в хорошем настроении, словно не давала повода отправить ее по добру по здоровому.
Крейслер удивлялся ситуации не меньше своей жизни. Ему казалось, что именно Ариадна, юная и сильная девушка должна была бы ухаживать за ним, с его сложностями и проблемами. Его антураж знаменитости предполагал, как ему казалось, именно такое отношение. Ариадна, напротив, даже не думала этого делать, считая, что Крейслер, судя по всему, должен был не только заботиться о ней, но обожать и лелеять ее с первобытным рвением.
«А что же я хотел?» — с раздражением думал Крейслер, осознавая, что снова просчитался, и что нормальной жизни ему не видать, как своих ушей.
Вечером напряжение было столь тягостным, что его никак нельзя было разрядить. Молчание тяготило обоих. Крейслер не спал всю ночь, вслушиваясь в шум морских волн, сосредотачивая свои мысли на несправедливости бытия и особенностях морского климата. Ариадна спала в соседней комнате, слегка приоткрыв рот. Он ощущал ее легкое, прерывистое дыхание, и в глубине его души зарождалась былая нежность, к ее слабости и даже наивности, которую он лелеял, словно пытался сохранить в себе хорошего человека.
«В конце концов лучше так, чем …» — думал он и острая горечь вновь пронзало все его нутро, словно ножом вырезая что-то давящее и мертвящее.
«Давай! Давай же, наконец!» — сверлило и сверлило в его мозгу, пока он вновь ощущал привычную пустоту соприкосновения с кем-либо еще кроме Марианны.
«Ради Марианны можно, кстати, и быть человеком!» — вновь уговаривал себя Крейслер, осознавая, что все равно поставил крест на всем человечестве, и что Ариадну он все равно обидел своим присутствием изначально, и любое его действие, или отсутствие его, все равно повлечет за собой что-то несуразное и пошлое.
***
За завтраком господин все также продолжал рассказывать о своих знакомых красавицах, и Крейслер, слегка наклонившись к Ариадне, делал вид, что они давно знакомы, и что у них уже четверо общих детей. Тепло и запах цветов были по истине райскими, но Крейслер вновь и вновь осознавал, что он никуда не движется в новом направлении, не пойдем и не сможет никогда, и что единственное, на что он способен – это вспоминать о Марианне и почти как этот ужасный господин за соседним столом – рассказывать о ней первому встречному.
Всю ночь в отеле показывали парад мод, странные люди в мешках маршировали по подиуму, подчеркивая этим всю глупость современного человечества, его несуразность. Крейслер осознавал это особенно четко, понимая, что Ариадна даже не обратит внимание, насколько появление темы моды идет вразрез с современной жизнью, совершенно не соответствует представлению о том, что этой жизнью является.
К концу дня Крейслер начал раздражаться. И тут и здесь, ему мерещилась Ариадна в ее нарядах, с глупой улыбкой на губах, молодая и непонимающая. Она словно уничтожала в нем все самое дорогое, что он любил и ценил, напоминая ему о том, что он должен был что-то хотеть и куда-то двигаться для достижения цели.

Крейслер пытался сохранить в себе джентльмена, но ему удавалось это все хуже и хуже. К концу третьего дня, насладившись солнцем и морем, он понял, что готов сделать что угодно, только не быть с Ариадной, готов задушить ее просто за то, что она не была Марианной, никогда не станет Кристиной, не понимает ничего в жизни, и даже не может стать актрисой.
«Но ведь ее обманули»… — снова говорил он себе. – «Ее обманули, лишив ее идеалов и цели, лишив ее нормальной жизни. Она живет предвкушениями любви и встреч, не осознавая даже на секунду, в каком состоянии трагизма находится человечество».
Под конец пятого дня Крейслер после ужина, выпив белого вина, вдруг почувствовал свою невероятную, ни с чем несравнимую жестокость по отношению к Ариадне. Он вдруг остро понял, что лишил ее человечности, так грубо оттолкнув от себя, и раз уже она оказалась с ним здесь, не было пути назад, и он обязан был согреть ее своим даже не существующим теплом, просто потому, что иначе быть было просто не должно и невозможно.
«Противно роду человеческому!» — сказал он про себя, осознав, что на какую-то долю секунды он снова стал стопроцентным русским, с поисками и метаниями души, воспоминаниями о бани и воронах, дожде и голытьбе, избах и прочего коллективно-бессознательного опыта, который вторгался в его мозг, волей неволей, хотел он того, или нет.
Крейслер обнял Ариадну, прижал ее к себе, поцеловал в губы, ощущая ее соленой тепло, и почувствовал, как она вся поддалась. обмякла и внутреннее и моментально все ему простила.
У него не было возможности больше думать, он только осознавал еще больших трагизм происходящего, когда целовал Ариадну, пытаясь забыться в ее тепле, пытаясь собрать воедино все свои разбросанные, раздробленные усилия. Она вся вывернулась, собралась и теперь он только монотонно ощущал внутри свои собственные токи, бьющие в виски, и напоминающие о смерти.
«Не могу же я, черт побери, прогнать женщину просто потому, что я люблю. Разве любовь о таком разрушении?» Крейслер собирал внутренние усилия, ощущая каждоминутный взрыв внутри. Потом он снова собрал свои усилия, и заставил себя думать о завтра, терпеливо упаковывая в сознании разрозненные мысли.
Когда он вышел на берег, солнце уже садилось. Он собирал камни, лежащие на остывающем, желтом песке и старательно закидывал их в море, как бывало в детстве.
«Ты еще скажи ей, что ты любишь другую!» — вновь сообщал себе Крейслер, попеременно подбрасывая ногой белые камешки и любуясь красотой морского побережья. Он вспомнил, как сосед по столику рассказывал всем во всеуслышание за завтраком, как один его приятель, когда-то в юности, сообщал девушке о том, что он «принял дружбу за любовь», и что теперь это человек – директор известного института. От этого сравнения Крейслеру стало смешно и грустно одновременно, и он решил не нарушать идиллию.
Он шел по берегу вперед, глядя на солнце, улыбаясь ему, ощущая его желто-оранжевые лучи и тепло прилива. Он шел по берегу моря вперед, жмурясь от солнца, и вдыхая всеми легкими соленый воздух и ощущение простора, которое брызгами ударяло в лицо, рассыпаясь внутри алмазами боли и смысла, которые он не мог ни заглушить, ни понять до конца, откладывая момент постижения на неопределенный срок.
Он знал, что вернувшись домой, он первым делом позвонит Марианне, и что он все равно никогда ни с кем не будет кроме нее. Но он также знал, что жизнь имела смысл только благодаря тому, что он пытался ради нее остаться человеком, и забыть о себе. Именно этому она всегда учила его.













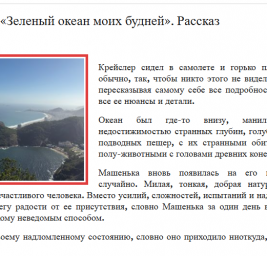






















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ