–Т—Л –Ј–і–µ—Б—М: –У–ї–∞–≤–љ–∞—П /
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ /
–Ц–∞–љ–љ–∞ –©—Г–Ї–Є–љ–∞. «–Р–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –§—С–і–Њ—А–∞ –°–Њ–ї–Њ–≥—Г–±–∞ ¬Ђ–Ь–Х–Ы–Ъ–Ш–Щ –С–Х–°¬ї»
–Ц–∞–љ–љ–∞ –©—Г–Ї–Є–љ–∞. «–Р–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –§—С–і–Њ—А–∞ –°–Њ–ї–Њ–≥—Г–±–∞ ¬Ђ–Ь–Х–Ы–Ъ–Ш–Щ –С–Х–°¬ї»
29.03.2017
/
–†–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П
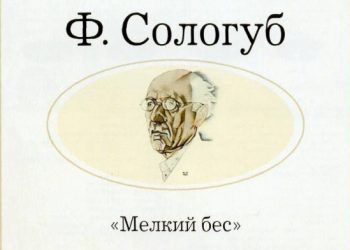
–Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —А–∞–±–Њ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ — –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, —Б–Ї—А—Г–њ—Г–ї–µ–Ј–љ—Л–є —А–∞–Ј–±–Њ—А, —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ–∞. –°–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А, –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ вАЬ—Б –љ–∞—В—Г—А—ЛвАЭ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –Њ–њ—Л—В —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–≤—И–Є–є, —З—В–Њ —Г –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –±—Л–ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Л (–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Г –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤–∞ — –љ–µ–Ї–Є–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –°—В—А–∞—Е–Њ–≤, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, вАЬ–±–Њ–ї–µ–µ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–є, —З–µ–Љ –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—И–µ–і—И–Є–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б —Г–Љ–∞ –≤ 1898 –≥–Њ–і—ГвАЭ), —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —Н—В–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї: вАЬ–Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ–∞ — –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –Њ–±—Й–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М. –≠—В–Њ –Є –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –±—Л—В –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвАЭ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б—Г—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ–∞ –µ—Б—В—М вАЬ–ґ–∞–ї–Ї–Є–є –Є —Б–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є–є –±–µ—Б –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—И–ї–Њ—Б—В–ЄвАЭ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–µ–љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–є —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –ї–Є–љ–Є—П –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л — –°–∞—И–Є (—Б—О–і–∞ –ґ–µ –Њ—В–љ–µ—Б—Г –≤—Б–µ—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Г—О –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Г –Р—А–і–∞–ї—М–Њ–љ—Г –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Г –Є –µ–≥–Њ вАЬ—Б–≤–Є—В–µвАЭ). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Н—В–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –Є —П—А–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞.
–≠—В–∞ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–µ—Б—В—С—А –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Л—Е –Є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–∞ –°–∞—И–Є –Я—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Б–µ–±—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —П–Ј—Л—З–љ–Є—Ж–µ–є –Є —Е–Њ—В—П –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—С—В—Б—П, —З—В–Њ –≤–ї–µ—З—С—В –µ—С –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–љ–µ—И–љ—П—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –±–µ–Ј –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–є –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ –љ–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є-–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і—Г—И вАЬ–њ—А–Є–≤–µ—В–∞вАЭ –Є–Ј –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ. –≠—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ/ –Ї –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ –ї—О–і–µ–є.
–Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П —В—А—Г–і –§. –Э–Є—Ж—И–µ вАЬ–†–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –Є–Ј –і—Г—Е–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–ЄвАЭ (вАЬdie Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der MusikвАЭ von Friedrich Nietzsche) –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і—Г—Е —Н–ї–ї–Є–љ–Њ–≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –і–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ — –∞–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ: вАЬ–Р–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ, —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–∞, –µ—Б—В—М, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, ¬†—Б—В–Є—Е–Є—П —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є–Є —Н–Ї—Б—В–∞–Ј–∞, –≥–і–µ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤–Є–і–µ–љ–Є–є –Є –Њ–њ—М—П–љ–µ–љ–Є—П. –Р–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ — вАЬ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –Є–ї–ї—О–Ј–Є—П –≤–Є–і–µ–љ–Є–євАЭ –Є вАЬ—В–∞–є–љ–∞ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—З–∞—В–Є–євАЭ. –≠—В–Њ — вАЬ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Є–і–µ–љ–Є–є вАЬ, — –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞, вАЬ–≤—Б–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–∞–ЉвАЭ –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ вАЬ–љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–ЊвАЭ. –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ —Б–љ–∞—Е –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л. –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –і–∞–ї–µ–µ –њ–Є—И–µ—В: вАЬ–Ш –љ–µ –Њ–і–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ, –ї–∞—Б–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П <…> –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —П—Б–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–µ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є: –≤—Б—С —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ, —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–µ, –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –Љ—А–∞—З–љ–Њ–µ, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–Є —Б–ї—Г—З–∞—П, –±–Њ—П–Ј–ї–Є–≤—Л–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—А–Њ—З–µ — –≤—Б—П вАЬ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—ПвАЭ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –µ—С Inferno, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В <…>; –Є, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Љ–љ–µ, –њ—А–Є–і—С—В –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—П—Е –Є —Г–ґ–∞—Б–∞—Е —Б–љ–∞ –њ–Њ–і—З–∞—Б –љ–µ –±–µ–Ј —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –Њ–±–Њ–і—А—П–ї–Є —Б–µ–±—П –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ: вАЬ–Т–µ–і—М —Н—В–Њ —Б–Њ–љ. –І—В–Њ –ґ, –±—Г–і—Г –≥—А–µ–Ј–Є—В—М –Є –і–∞–ї—М—И–µ!вАЭ
–Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л —Б–љ—Л –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—В –µ—С –≤—Б—О –љ–Њ—З—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–Њ–Љ –Я—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ: вАЬ–Ґ–Њ –≥—А–µ–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –µ–є, —З—В–Њ –ї–µ–ґ–Є—В –Њ–љ–∞ –≤ –і—Г—И–љ–Њ –љ–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Є—Ж–µ, –Є –Њ–і–µ—П–ї–Њ —Б–њ–Њ–ї–Ј–∞–µ—В —Б –љ–µ—С, –Є –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–µ—В –µ—С –≥–Њ—А—П—З–µ–µ —В–µ–ї–Њ, — –Є –≤–Њ—В —З–µ—И—Г–є—З–∞—В—Л–є, –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–є –Ј–Љ–µ–є –≤–њ–Њ–ї–Ј –≤ –µ—С –Њ–њ–Њ—З–Є–≤–∞–ї—М–љ—О, –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ–ї–Ј–µ—В –њ–Њ –і–µ—А–µ–≤—Г, –њ–Њ –≤–µ—В–≤—П–Љ –µ—С –љ–∞–≥–Є—Е, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –љ–Њ–≥вА¶
–Я–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М –µ–є –Њ–Ј–µ—А–Њ –≤ –ґ–∞—А–Ї–Є–є –ї–µ—В–љ–Є–є –≤–µ—З–µ—А, –њ–Њ–і —В—П–ґ–Ї–Њ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≥—А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є —В—Г—З–∞–Љ–Є, — –Є –Њ–љ–∞ –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –љ–∞–≥–∞—П, —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –≥–ї–∞–і–Ї–Є–Љ –≤–µ–љ—Ж–Њ–Љ –љ–∞ –ї–±—Г. –Я–∞—Е–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ—О –Ј–∞—Б—В–Њ—П–≤—И–µ—О—Б—П –≤–Њ–і–Њ—О, –Є —В–Є–љ–Њ—О, –Є –Є–Ј–љ—Л–≤–∞—О—Й–µ—О –Њ—В –Ј–љ–Њ—П —В—А–∞–≤–Њ—О, — –∞ –њ–Њ –≤–Њ–і–µ, —В—С–Љ–љ–Њ–є –Є –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є, –њ–ї—Л–ї –±–µ–ї—Л–є –ї–µ–±–µ–і—М, —Б–Є–ї—М–љ—Л–є, —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤—Л–є. –Ю–љ —И—Г–Љ–љ–Њ –±–Є–ї –њ–Њ –≤–Њ–і–µ –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є, –Є, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —И–Є–њ—П, –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П, –Њ–±–љ—П–ї –µ—С, — —Б—В–∞–ї–Њ —Б–ї–∞–і–Ї–Њ, —В–Њ–Љ–љ–Њ –Є –ґ—Г—В–Ї–ЊвА¶
–Ш —Г –Ј–Љ–µ—П, –Є —Г –ї–µ–±–µ–і—П –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞–і –Ы—О–і–Љ–Є–ї–Њ—О –°–∞—И–Є–љ–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –і–Њ —Б–Є–љ–µ–≤—Л –±–ї–µ–і–љ–Њ–µ, —Б —В—С–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ-–њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–ЄвА¶
–Я–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—Б–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ <…> –Є —В–Њ–ї–њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–є –љ–∞–≥–Є–µ, —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Њ—В—А–Њ–Ї–Є, — –∞ –Ї—А–∞—И–µ –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї –°–∞—И–∞. –Ю–љ–∞ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, –Є –љ–∞–≥–Є–µ –Њ—В—А–Њ–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–µ—О –њ–Њ–Њ—З–µ—А—С–і–љ–Њ –±–Є—З–µ–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї –°–∞—И—Г, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—О –Ї –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ, –Є –±–Є—З–µ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –∞ –Њ–љ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П –Є –њ–ї–∞–Ї–∞–ї, — –Њ–љ–∞ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—Е–Њ—З—Г—В –≤–Њ —Б–љ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–і—А—Г–≥ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±—М–µ—В—Б—П —Б–µ—А–і—Ж–µ, — —Б–Љ–µ—О—В—Б—П –і–Њ–ї–≥–Њ, –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ, —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—П –Є —Б–Љ–µ—А—В–ЄвАЬ.
–£–ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –њ—А–Є—Б—Г—Й—Г—О –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–∞ —Б—В–Є—Е–Є—О —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–≥ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤, –≥–і–µ –±–Њ–ї—М –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В (–∞, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В) –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –≥–і–µ —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–µ —А—Л–і–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–∞—О—В—Б—П –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ—Л–Љ —Е–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ, –≥–і–µ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Г—О –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Є — –љ–∞–Ј–∞–і; –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Ж–∞—А–Є—В –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ –і–Њ–љ—Л—И–Ї–∞ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Б–љ–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є, —В–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–љ—Л. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ —Б–љ–∞ –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–Љ–µ–є. –Я–µ—А–≤–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Г –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ — –Ј–Љ–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б–Є—В–µ–ї—М — –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–∞ –Ї –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—О–ґ–µ—В—Г, —З—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–є —А–Њ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –°–∞—И–∞ (—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г) –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Є–≥—А–∞—В—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤–Њ–є. –Т –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Ј–Љ–µ–є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б–≤–Њ–µ–є –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–µ–љ. –Т –љ–µ–Љ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є — –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –Ч–Љ–µ—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–∞ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–∞ (N.B!); —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ — –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –∞–љ—В–∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В, –≤—А–∞–≥ –Є —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ —Б–љ–∞ –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л, — –ї–µ–±–µ–і—П. –Т –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Є –њ–Њ —Б–Є—О –њ–Њ—А—Г –ґ–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –ї–µ–±–µ–і–µ –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–µ —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –Є –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є; –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Ы–µ–±–µ–і—М, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–Љ–µ–є, –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–љ–Њ –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–µ–љ: —Б–Є–ї–∞ –Ї—А—Л–ї—М–µ–≤ –њ—В–Є—Ж—Л —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –µ–≥–Њ –≤–љ–µ—И–љ—П—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М — –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ. –®–µ—П –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –ї–µ–±–µ–і—П, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ, — –Ј–љ–∞–Ї —Д–∞–ї–ї–Њ—Б–∞ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ — –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ы–µ–±–µ–і—М, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ –±–Њ–≥—Г –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ—Г –Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є —Г –Ј–Љ–µ—П, –Є —Г –ї–µ–±–µ–і—П вАЬ–°–∞—И–Є–љ–Њ –ї–Є—Ж–ЊвАЭ, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞: –∞–љ–≥–µ–ї — –ї–µ–±–µ–і—М — –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Є—Б–Ї—Г—Б–Є—В–µ–ї—М (–і–µ–Љ–Њ–љ) — –Ј–Љ–µ–є — –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ—Л–є –њ–ї–Њ–і, –њ–Њ—А–Њ–Ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ-–ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є–Ј —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Я—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ–Є: —В–Њ –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –°–∞—И–∞ — –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ—В–∞—П –±–∞—А—Л—И–љ—П, —В–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤–∞ –≤ –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–Є –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–∞ –Њ–±–ї–∞—З–∞–µ—В –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —П–њ–Њ–љ–Ї–Є. –Э–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є, —Б—З–Є—В–∞—О, –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ. –Т –љ–µ–Љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Є –±–Є—З—Г—О—Й–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –Њ—В—А–Њ–Ї–Є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–∞—И–µ –≤—Б–µ—Е –°–∞—И–∞ — –њ—А—П–Љ–∞—П –∞–ї–ї—О–Ј–Є—П –љ–∞ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ф—А–µ–≤–љ—О—О –У—А–µ—Ж–Є—О.
–У–µ–љ–і–µ—А–љ–∞—П –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ/ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї –Њ—В—Б—Л–ї–∞–µ—В –Є –Ї —В–µ–Љ–µ –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї–∞ (–Ј–і–µ—Б—М: –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–∞). –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–∞—П –Є –Њ–±–Њ–±—Й–∞—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–µ—Б—М —Б—О–ґ–µ—В, –≤—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ —Г –°–Њ–ї–Њ–≥—Г–±–∞ –µ—Б—В—М –≤–µ—А–±–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї. –Т —Б–≤–Њ–µ–є —Н–њ–Њ—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ вАЬ–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –†–∞–±–ї–µ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—ПвАЭ –Ь. –С–∞—Е—В–Є–љ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В—Г –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Г—О —А–Њ–ї—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Г—О –Є–≥—А–∞–ї –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Я–Њ –С–∞—Е—В–Є–љ—Г, вАЬ—П–і—А–Њ–ЉвАЭ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–і–µ—П –Њ–± вАЬ–Є–љ–≤–µ—А—Б–Є–Є –і–≤–Њ–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–євАЭ; –≥–Њ–≤–Њ—А—П —П—Б–љ–µ–µ — –Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –±–Є–љ–∞—А–љ—Л—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ї–Њ—А–Њ–ї—С–Љ –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї–∞ –Ю–С–ѓ–Ч–Р–Ґ–Х–Ы–ђ–Э–Ю —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —И—Г—В –Є–ї–Є –і—Г—А–∞–Ї (—Б—А.: –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤). –Ь–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ: –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –љ–∞–і–µ–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б–Ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В (–°–∞—И–∞ –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Ж–µ–љ–µ –§–Р–Ъ–Ґ–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–У–Ю –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї–∞ = –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–∞, –љ–Њ –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П вАЬ–Њ–Ј–Њ—А—Б—В–≤–∞ —Б –Ы—О–і–Љ–Є–ї–Њ—З–Ї–Њ—ОвАЭ).
–Я—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –і—Г–Љ–∞–µ—В: вАЬ–Ґ–Њ—З–љ–Њ —Б—В—Л–і–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М —В–µ–ї–Њ!вАЭ
–≠—В–Њ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Њ—В—Б—Л–ї–∞–µ—В –≤–љ–Њ–≤—М –Ї –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є, –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ –Є, –Њ–њ—П—В—М, –Ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ—Г (—Б—А.: вАЬ–Ъ—А–∞—Б–Є–≤ (—Б—В—А–Њ–µ–љ) –Ї–∞–Ї –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ!вАЭ).
–Ф—А—Г–≥–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–∞ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–∞ –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —В—Г, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ — вАЬ–±–Њ–≥ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї, —В–≤–Њ—А—П—Й–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–ЄвАЭ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–∞—И–Є –Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л вАЬ–њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—ВвАЭ, –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–∞—П –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–≥ — –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ –°–∞—И–∞ –Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ вАЬ—В–≤–Њ—А—П—ВвАЭ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б–≤–Њ—С —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Т—Б—П –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М — —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–Ї—В. –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –Ш–љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Г–±–Њ–≥–Њ–Љ—Г –Є —Г–љ—Л–ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В: вАЬ–Р–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А—Л, —Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ—Г–і—А–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—ПвАЭ. –°—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ, –љ–Є –Ї–Њ–Љ—Г-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј –µ—С —Б–µ—Б—В—С—А —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А—Л –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є. (–Я—А–Њ –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ вАЬ —Б–≤–Є—В—ГвАЭ –Ј–і–µ—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ —З—Г–ґ–і–∞ –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Є–є—Б–Ї–Њ-–і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П (–Є —Б—В–Є—Е–Є–є–љ–Њ—Б—В—М).
–Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А—Л –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В –Ы–∞—А–Є—Б–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞–Љ—Г–ґ–љ—П—П –Є–Ј —Б–µ—Б—В—С—А –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Л—Е. –Э–Њ —Н—В–Њ, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, –љ–µ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –±—Г–і—Г—З–Є –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞–±–∞–≤–∞—Е —Б–µ—Б—В—С—А, —З—В–Њ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Љ–µ—И–∞–µ—В –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –µ—С –љ–∞—В—Г—А—Л. –Ш, –±—Г–і—М –Њ–љ–∞ –≤ –Є–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Ј–Њ—А—ГвА¶
–†–µ–ї–Є–≥–Є—П –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–∞ –∞–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ—Г. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ, —З—Г–≤—Б—В–≤ –Є –Є—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ —П–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –±—Г—А–љ–Њ –Є –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В –≤—Б—П–Ї—Г—О, –њ—Г—Б—В—М –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ—Г—О –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ–∞–Ї –Њ вАЬ—З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ–Њ–Љ —Г–ґ–∞—Б–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї–µ–љ–Є–є вАЬ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ–µ –§. –Э–Є—Ж—И–µ, –∞ –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ вАЬ–і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ —В–µ—А—П–µ—В —В–Њ –Њ—В—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є —Б—А–µ–і–Њ—Б—В–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –µ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–Љ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В—Г—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –Є –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г–Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ — —Н—В–Њ вАЬ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤ –љ–µ–і—А–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л <…> –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –Њ–њ—М—П–љ–µ–љ–Є—П. –Ы–Є–±–Њ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—В–Ї–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–Є–Љ–љ–∞—Е –≤—Б–µ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і—Л, –ї–Є–±–Њ –њ—А–Є –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–Љ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–Љ –≤—Б—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б–љ—Л, –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—О—В—Б—П —В–µ –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ –њ–Њ–і—К—С–Љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—П вАЬ.
–Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –§. –Э–Є—Ж—И–µ, –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –і–∞–ї–µ–µ –њ–Є—И–µ—В: вАЬ–С—Л–≤–∞—О—В –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є —В—Г–њ–Њ—Б—В–Є —Б –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–Њ–є –Є–ї–Є —Б —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –Т –°–Ю–Ч–Э–Р–Э–Ш–Ш –°–Т–Ю–Х–У–Ю –°–Ю–С–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ю–У–Ю –Ч–Ф–Ю–†–Ю–Т–ђ–ѓ, –Њ—В –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є–є, —Б—З–Є—В–∞—П –Є—Е вАЬ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П–Љ–ЄвАЭ; –±–µ–і–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї–∞—П —В—А—Г–њ—М—П –±–ї–µ–і–љ–Њ—Б—В—М –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–Њ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ–Њ –Њ–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ –≤–Є—Е—А–µ–Љ –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–µ–Ј—Г–Љ—Ж–µ–≤. <…> –Я–Њ–і —З–∞—А–∞–Љ–Є –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Љ—Л–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—О–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–∞–Љ–∞ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П, –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–∞—П –Є –њ–Њ—А–∞–±–Њ—Й–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–ї—Г–і–љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ — —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ЉвАЭ.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л –§.–Э–Є—Ж—И–µ, –Р. –Ы–Њ—Б–µ–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В: вАЬ–Ф–Є–Њ–љ–Є—Б –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±–µ–Ј –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–∞. –Ю—А–≥–Є–є–љ–Њ–µ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ, —П–≤–ї—П—П—Б—М –њ–ї–Њ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ—З–≤–Њ–є –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –Є–Ј —Б–µ–±—П –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, –і–µ–ї–∞—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–ЉвАЭ.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–њ–ї–∞–≤, —Б–Є–љ—В–µ–Ј –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї —П–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –≥–µ—А–Њ–Є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—О—Й–Є–µ —Б—О–ґ–µ—В–љ—Г—О –ї–Є–љ–Є—О, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—С—Б—В—А—Л –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Л –Є –°–∞—И–∞ –Я—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–•–Њ—В—П, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є, —Б—В–Њ–Є—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї—П –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –Є –°–∞—И–Є. –°—С—Б—В—А—Л –ґ–µ, –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є, — —Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–µ –Є —П—А–Ї–∞—П (—З–∞—Б—В–Њ вАЬ—П—А–Њ—Б—В–љ–ЊвАЭ —П–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П) —Б—В–Є—Е–Є—П –±–Њ–≥–∞ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞. –†–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ вАЬ–≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—ЕвАЭ, — –≤—Б—С —Н—В–Њ —З—Г–ґ–і–Њ (–Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—Г–ґ–µ–†–Ю–Ф–Э–Ю) –Є –Ф–∞—А—М–µ, –Є –Т–∞–ї–µ—А–Є–Є, –Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, –Ы–∞—А–Є—Б–µ. –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Ъ–Њ–Ї–Њ–≤–Ї–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –°–∞—И–µ–є –Є –Ј–∞—Б—В–∞—С—В —Б–µ—Б—В—С—А –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞ —И–µ—А–Є-–±—А–µ–љ–і–Є –Є —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є —Б —П–±–ї–Њ–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—А–µ—Е–∞–Љ–Є –Є —Е–∞–ї–≤–Њ—О. –Ю—Е–Љ–µ–ї–µ–≤—И–∞—П –Ф–∞—А—М—П –њ–Њ—С—В. –І—В–Њ —Н—В–Њ? –°–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї? –†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–Є? –Э–Њ –љ–µ—В! –°—Г–і—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –і–∞–ї—М—И–µ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—Б–љ–Њ: –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ вАЬ–±—Г–є—Б—В–≤—Г–µ—ВвАЭ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Њ—А–≥–Є–є–љ–Њ–µ –±–µ–Ј—Г–Љ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –љ–µ —З–µ—В—Л—А–µ –і–Њ–±—А–Њ–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–≤–Є—Ж—Л-—Б–µ—Б—В—А–Є—Ж—Л, –∞ –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤—Л–µ –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Ї–Є, –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Ї–Є –Є –ї—О–±–Є–Љ–Є—Ж—Л –±–Њ–≥–∞ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞:
вАЬ–Ф–∞—А—М—П –њ–µ–ї–∞ –Є –њ–ї—П—Б–∞–ї–∞, –Є –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ—С, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ, –≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –µ—С –Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї—А—Г–≥–∞–Љ –Љ—С—А—В–≤–Њ–є –ї—Г–љ—Л. –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Е–Њ—Е–Њ—В–∞–ї–∞ <…>. –Т–∞–ї–µ—А–Є—П —Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М —В–Є—Е–Њ, —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ-–Ј–≤–µ–љ—П—Й–Є–Љ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ <…> —Б–Љ–µ—П–ї–∞—Б—М, —В–Њ—З–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–њ–ї–∞—З–µ—В.
–Ы–∞—А–Є—Б–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М, –њ–Њ—И–µ–≤–µ–ї–Є–ї–∞ –њ–ї–µ—З—М–Љ–Є, — –Є –≤–Љ–Є–≥ –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ —Б–µ—Б—В—А—Л –Ј–∞–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–і–µ–љ–Є–Є, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–±—К—П—В—Л–µ —И–∞–ї—М–љ–Њ—О –њ–Њ—И–∞–≤–Њ—О, –≥–Њ—А–ї–∞–љ—П –Ј–∞ –Ф–∞—А—М–µ—О –≥–ї—Г–њ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –і–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—Г—И–µ–Ї, –Њ–і–љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–µ–ї–µ–њ–µ–µ –Є –±–Њ–є—З–µ–µ. –°—С—Б—В—А—Л –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л, –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Є—Е –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ –Є –і–Є–Ї–Њ, — –≤–µ–і—М–Љ—Л –љ–∞ –Ы—Л—Б–Њ–є –≥–Њ—А–µ –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ–Љ—Г —Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і—ГвАЭ.
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В–Њ: вАЬ–Ь–µ–ї–Ї–Є–є –±–µ—БвАЭ — —А–Њ–Љ–∞–љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–ї—М—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–µ—Д–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –§. –°–Њ–ї–Њ–≥—Г–±–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ–Њ–є, —А–Њ–Љ–∞–љ –њ–µ—Б—Б–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ, –ї–Є—З–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б—С –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ. –Я–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, —Д–Є–љ–∞–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ–± –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ: –љ–µ –Њ –≤—Б–µ–≤–ї–∞—Б—В–Є–Є —Г–љ—Л–ї–Њ–є, –њ–Њ—Б—В—Л–ї–Њ–є, –ґ—Г—В–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ—Л, –∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ґ–і—С—В –µ—С –Ї–∞–Ї —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ, –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ –µ—С –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–Є–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Й–µ—А–±–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –њ–Њ–љ—П—В—М, –Њ—Й—Г—В–Є—В—М вАЬ–љ–∞ –≤–Ї—Г—БвАЭ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –≤–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є —Г–Љ –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ –і–∞—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–µ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Ж–∞—А—О —Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ы–Є–Ї—Г—А–≥—Г, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞ –±–Њ–≥–Њ–Љ. –Ч–µ–≤—Б, –Љ—Б—В—П –Ј–∞ —Б—Л–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ы–Є–Ї—Г—А–≥–∞ —Б–ї–µ–њ–Њ—В–Њ–є (—В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї вАЬ—Б–ї–µ–њвАЭ –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥). –Р —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Ы–Є–Ї—Г—А–≥, –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ –≤–ї–∞—Б—В—М –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞, –≤–њ–∞–ї –≤ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ (–Ї–∞–Ї –Є –Р—А–і–∞–ї—М–Њ–љ –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤).
–Э. –С–µ—А–і—П–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–∞—П –∞–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —П—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—Л–≤—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –≤—Б—С –µ—С —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ вАЬ–Р–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ — —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞вАЭ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –њ–Є—И–µ—В: вАЬ–†–Њ—Б—Б–Є—П — <…> —Б–∞–Љ–∞—П –∞–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ.
–†–Њ—Б—Б–Є—П — —Б—В—А–∞–љ–∞ –Ф–£–•–Ю–Т–Э–Ю–У–Ю –Ю–Я–ђ–ѓ–Э–Х–Э–Ш–ѓ.
–С–Њ–≥ –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ, –±–Њ–≥ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –≤—Б—С –љ–µ —Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –†–Њ—Б—Б–Є—О. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–Ј–Љ — –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є–є, –∞ –љ–µ —Н–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є вАЬ.
–° –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ —Б—Ж–µ–љ–µ –≤–∞–Ї—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–ї—П–љ–Є—П —Б–µ—Б—В—С—А –†—Г—В–Є–ї–Њ–≤—Л—Е.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, вАЬ–њ–ї–Њ—В—М –Њ—В –њ–ї–Њ—В–ЄвАЭ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—П–Ј—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—И–ї–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ, –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ (–і–ї—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –Є–±–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –њ—А–∞—Е —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–µ—В—Б—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П) –Є, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є (–і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Њ–є, –Є–±–Њ –≤ —Б–ї–Є—П–љ–Є–Є –Є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ –∞–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Ъ—А–∞—Б–Њ—В—Л) —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Н—В–Є –і–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞.
–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —Н—Б—В–µ—В–Ї–∞, –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Ї–∞ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ; –њ—А–Є—З—С–Љ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Й—Г—В–Є–Љ–Њ–≥–Њ, –≤ –њ–ї–Њ—В–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ: вАЬ–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –ї—О–±–Є–ї–∞ –і—Г—Е–Є, –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–∞ –Є—Е –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Є—Е. –Ы—О–±–Є–ї–∞ –∞—А–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В—Л. –Х—С –≥–Њ—А–љ–Є—Ж–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–ї–∞ —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М, — —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є, –і—Г—Е–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Б–љ–Њ—О, —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ–Є –њ–Њ –≤–µ—Б–љ–µ –≤–µ—В–≤—П–Љ–Є –±–µ—А–µ–Ј—ЛвАЭ. –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ—В –љ–∞—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П –Є —Е–Њ—В—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В –µ—С –Ј–і–µ—Б—М –≤–љ–µ—И–љ—П—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞. –С–Њ–ї—М—И–µ —В—Л—Б—П—З–Є —Б–ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Ы—О–і–Љ–Є–ї–µ –µ—С –≥–Њ—А—П—З–∞—П –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М –°–∞—И–µ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞–Є–≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П: вАЬ — –Ы—О–±–ї—О –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г. –ѓ–Ј—Л—З–љ–Є—Ж–∞ —П, –≥—А–µ—И–љ–Є—Ж–∞. –Ь–љ–µ –±—Л –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Р—Д–Є–љ–∞—Е —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П. –Ы—О–±–ї—О —Ж–≤–µ—В—Л, –і—Г—Е–Є, —П—А–Ї–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л, –≥–Њ–ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –µ—Б—В—М –і—Г—И–∞. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞. –Ф–∞ –Є –љ–∞ —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ? –Я—Г—Б—В—М —Г–Љ—А—Г —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —А—Г—Б–∞–ї–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —В—Г—З–Ї–∞ –њ–Њ–і —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ —А–∞—Б—В–∞—О. –ѓ —В–µ–ї–Њ –ї—О–±–ї—О, —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ, –ї–Њ–≤–Ї–Њ–µ, –≥–Њ–ї–Њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П вАЬ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В —А–Њ–±–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—В: вАЬ — –Ф–∞ –Є —Б—В—А–∞–і–∞—В—М –≤–µ–і—М –Љ–Њ–ґ–µ—ВвА¶вАЭ
–Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞, —Б –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–є –µ–є —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П: вАЬ — –Ш —Б—В—А–∞–і–∞—В—М, –Є —Н—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–ЊвА¶ –°–ї–∞–і–Ї–Њ –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М–љ–Њ, — —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л —В–µ–ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞–≥–Њ—В—Г –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г —В–µ–ї–µ—Б–љ—Г—ОвАЭ.
–Т —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—П –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П: –Ї—А—Г—В–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—Б —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –µ–≥–Њ –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–µ–є—И–Є—Е –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П—Е (–Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ) –Є —П—А–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ–љ–∞—Б—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –ґ–Є—В—М, –Ї—А–Є—З–∞ —В–Њ –Њ—В –±–Њ–ї–Є, —В–Њ –Њ—В —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –≤–њ–∞–і–∞—П –≤ –Њ—А–≥–Є–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї—Б—В–∞–Ј, –Є—Б—Е–Њ–і—П –љ–∞ –љ–µ—В (–Ф–Є–Њ–љ–Є—Б)… –Ш, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –ї—Г—З—И–µ, —П—А—З–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Н—В–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –љ–µ–є –∞–њ–Њ–ї–ї–Є–љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ —Б –°–∞—И–µ–є –Я—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ –Љ–Њ—С–Љ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–Є —А–Њ–Љ–∞–љ вАЬ–Ь–µ–ї–Ї–Є–є –±–µ—БвАЭ — –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ вАЬ–ґ–∞–ї–Ї–Њ–Љ –Є —Б–µ—А–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –±–µ—Б–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—И–ї–Њ—Б—В–ЄвАЭ. –Э–µ—В, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ґ–µ, –љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, — —Н—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –ї—О–±–≤–Є. –Ы—О–±–≤–Є –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–ї–Њ–і –Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–Њ–і—Г, –ї—О–±–≤–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–∞–љ–Ї–Њ–є, –Њ–±–µ—Й–∞—О—Й–µ–є –і–Њ—Б–µ–ї–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µвА¶
–Э–∞ —Д–Њ–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –±—Г–і—В–Њ –љ–∞—А—П–і—Л –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Е–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –і—Г—Е–Є –µ—С, —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Я–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є вАЬ—Б–≤–Є—В—ЛвАЭ –µ–≥–Њ, –Є—Е вАЬ–Љ—Л—Б–ї–µ–євАЭ, вАЬ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–євАЭ, вАЬ—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–євАЭ –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В —В—Й–µ–і—Г—И–љ—Л–Љ–Є, —Г–±–Њ–≥–Є–Љ–Є, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ш —Д–Є–љ–∞–ї —А–Њ–Љ–∞–љ–∞, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Н—В–Њ.
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞:
–Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤ –Х. –Ь–µ–ї–Ї–Є–є –±–µ—Б. –°–Я–±., 2002.
–С–∞—Е—В–Є–љ –Ь. –Ь. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –†–∞–±–ї–µ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П. –Ь., 1999.
–С–µ—А–і—П–µ–≤ –Э. –Р. –°—Г–і—М–±–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –°–±. —Б—В–∞—В–µ–є (1914-1917). –Ь., 2007.
–Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤ –Р. –Ш–Ј–Љ–µ–ї—М—З–∞–≤—И–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ь–µ—Д–Є—Б—В–Њ—Д–µ–ї—М –Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–љ–Њ–≤—Й–Є–љ–∞. –°–Я–±., 2002.
–Ы–Њ—Б–µ–≤ –Р. –§. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Ь., 1993.
Nietzsche F. Die Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der Musik. Leipzig, 1872.
–°–Њ–ї–Њ–≥—Г–± –§. –Ь–µ–ї–Ї–Є–є –±–µ—Б. –°–Я–±., 1999.
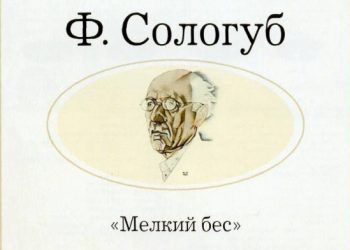































–Э–Р–Я–Ш–°–Р–Ґ–ђ –Ъ–Ю–Ь–Ь–Х–Э–Ґ–Р–†–Ш–Щ