Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Александр Балтин. «Новогодняя ёлка, как ретроспекция жизни». Рассказ
- Елена Сомова. «Выравнивание вирусами». Философское эссе
- Путеводитель по краю листа
- Евгений Хохряков. «История с лопухами». Рассказ
- Елена Сомова. «Пришелец». Рассказ
«Всё так, да не так»…
29.05.2024
Печальную повесть написал Александр Нежный. Печальную, мудрую, честную… И как тут не вспомнить: «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Всё так. И в жизни, и в повести, которая называется «Один». И это не о скандинавском боге, это об одиночестве. И о любви. А если более точно – о жизни и смерти «простого советского человека», именно так принято было называть всех нас, чей путь по карьерной лестнице не достигал начальственных вершин. Еще точнее и шире – о гибели эпохи советских людей на примере главного героя книги – учителя русского языка и литературы, доживавшего в одиночестве свой век на окраине Москвы, да и всей жизни. Он постоянно вспоминает и сравнивает «то, что было с тем, что стало». И ведь, было, казалось всё неплохо, даже хорошо. Молодость, светлые идеалы («один за всех, и все за одного», «человек человеку друг, товарищ и брат»…), родители, верившие в победу этих идеалов и наделившие этой верой своего сына… Всё было так, как сам отмечает герой повести, да не так. Лицемерие, циничное двуличие, несоответствие лозунгов реальной жизни разрушало веру в идеалы, подтачивало основы великой эпохи, как моральные, так и материальные. Говорили одно, думали о другом, а делали третье…
«…Бедная мама. Она была страстная патриотка, и убогость их быта — а жили втроем на шестнадцати метрах в квартире с двумя соседями — не способны были поколебать ее веру в лучезарное будущее советской Родины. Ей грезились коммунизм, бесклассовое общество, светлые здания, парки и прохаживающиеся по их аллеям счастливые люди. Неурядицы она сравнивала с еще не до конца возделанным полем, на котором еще поднимется пшеница с колосьями, полными золотых зерен и вырастут райские сады. Мамино влияние на него было так сильно, что и на мир вокруг лет, наверное, до двадцати трех он смотрел ее глазами»…
От выдоха до вдоха – проходит только миг. Но целая эпоха в глазах твоих, моих… От счастья до кручины сквозь миг, сквозь жизнь, сквозь век иду я, дурачина, советский человек. И все мое наследье, хорош я или плох – томительный, последний мой выдох или вдох…
Но еще была любовь, которая помогала мириться со всем происходящим. Любовь, волшебное чувство, которое посчастливилось разделить с той, которая стала судьбой, родив детей и раскрасив почти тридцать лет жизни согласием и счастьем, уютом и взаимностью. Так казалось всегда. И даже после смерти любимого человека, после отъезда за рубеж дочери и окончательной размолвки с сыном, воспоминания согревали душу и примиряли с невеселым и нещедрым бытом, в который скукожилось когда-то безгранично заманчивое бытие. И вот в один момент всё рухнуло, уничтожилось. Это случилось во время домашней уборки, когда, собираясь выбросить давно не нужные старые вещи, учебники, тетради, в одной из них обнаружил дневник покойной жены. В нем она описывала свою многолетнюю (как выяснилось) любовь к неизвестному ему, постороннему человеку. Для него это стало сродни смертельному взрыву бомбы. Предательство самого близкого и родного человека (любимого!!!) подкосило и лишило жизненной опоры. Сделало одиночество невыносимым.
«Нечего ждать человеку, если он остался один. Как странно, мучительно и странно, что все миновалось так быстро. Оглянуться не успел, а уже увидел себя на краю жизни, беспомощно всматривающимся в ожидающую его ночь и пытающимся угадать, что его там ждет. Единственным светом была Мила — но ее свет погас, отчего впереди стало еще темнее… Но в самом деле — что ему делать? Как ни в чем не бывало жить дальше? Но зачем? Что принесут ему годы, отделяющие его от могилы? Какие могут случиться перемены в его жизни? Он горько усмехнулся. Все уже случилось. Если прежде его жизни придавала смысл любовь, а потом память о ней, то теперь вместо любви и памяти пустое место. Бурьян вырос. Зачем он жил»?
Не слова, не отсутствие слов… Может быть, ощущенье полёта. Может быть. Но ещё любовь – это будни, болезни, заботы. И готовность помочь, спасти, улыбнуться в момент, когда худо. Так бывает не часто, учти. Но не реже, чем всякое чудо.
Чуда не случилось. Вернее, оно было и исчезло. Жизнь без чудес тоже возможна. Но скучна и беспросветна. Остаются только воспоминания (увы, горькие), размышления (не слаще) и попытки осознать, понять. Зачем же всё это было, почему случилось именно так (да не так). И витали в сознании два извечных вопроса; «Что делать?» и «Кто виноват?»…
«Вот он, Николай Маркович Абрамов, учитель на пенсии, честно отработавший сорок лет. Он учил великому русскому языку. Но сейчас! Прислушайтесь. Семилетние отроки и отроковицы говорят преимущественно матерными словами… Он учил любить и понимать литературу. И ему случалось достигать волшебного состояния, когда общий восторг, благоговение овладевали и учителем, и учениками — но очень скоро все это меркло, огонь погасал… Все так, да не так, говаривал когда-то его приятель, наделенный острым умом и живыми глазами, зеленый цвет которых становился ярче — в прямом соответствии с количеством выпитой им огненной воды. И, вспомнив его, он вздохнул и повторил: все так, да не так, что вовсе не означало его смирения перед жизнью, но означало признание своего бессилия перед ее слепым беспощадным потоком».
Лежит судьба, как общая тетрадь, где среди точек пляшут запятые, где строки то прямые, то косые, и где ошибок мне не сосчитать. где у меня сквозь низменность страстей, невольную печаль воспоминаний таранит, разбивая жизнь на грани, строка любви, парящая над ней.
Строка любви – это, в том числе, и о пристрастии к хорошим книгам, которые в прошлую эпоху ценились почти как драгоценные металлы. Книжный дефицит при миллионных тиражах был поразительным явлением. Вот уж действительно, читать было модно. Или, по крайней мере, делать вид, что читать любишь, и это должны были подтверждать домашние стеллажи с классиками и современниками. Очереди с перекличками, дающие возможность подписаться на собрания сочинений (кого угодно, лишь бы подписаться), книжные рынки и «балки», вдумчивые субботние обходы букинистических магазинов, поиски макулатуры, которая потом конвертировалась в вожделенные модные книги… Приобрести нужную книгу было непросто. Но это только доказывало, что книги были важным элементом и духовной, и общественной жизни. Жаль, что этот элемент не оказался спасительным для рухнувшей эпохи.
«…За большой том Пастернака он отдал пятитомник Ильфа и Петрова (который выменял у одного умника за потрепанную «Жизнь пчел» Метерлинка), присовокупив к нему «Фаворит» бешено популярного тогда Пикуля (выменял на «Зарубежный детектив»), и, право, не помнил, когда был столь же счастлив!.. А теперь? Книг — на все вкусы… Почему мимо них, стыдливо пряча глаза, пробегает торопливый гражданин, тогда как раньше влез бы в долги… Останавливает не цена, догадывался Николай Маркович; останавливает завладевшее нами равнодушие. И в самом деле, кого сейчас мучает жажда истины? Кто не спит, не ест оттого, что не в силах ответить на главнейший вопрос о смысле своей и всего человечества жизни?.. Куда ни глянь — везде одна только пошлость. Царь подземелья — крот — все реже отпускает прекрасную ласточку в синее небо».
Вновь время мертвых душ. Цена им грош… Жизнь далека от праведного слова. Тем более, и тень уже свинцова. А думалось «уж замуж невтерпеж»… На праздники встречались за столом и обсуждали тайны винегрета. И лишь сейчас понятно: было это у времени под ангельским крылом…
Однако не все было благостно и под ангельским крылом. Единая общность «советский человек» так и не стала столь монолитной, как хотелось бы и теоретикам, и практикам построения светлого будущего. И классовые (даже без присутствия буржуазии), и национальные, и имущественные различия никуда не делись. И, хоть, проявлялись они, в основном, на бытовом уровне, но были крепки, как гвозди, которые забиваются в последнее прибежище человека, независимо от его классовой или национальной принадлежности. И Александр Нежный пишет об этом, не приукрашивая историю и не искажая.
«Папа был еврей, о чем Николай Маркович узнал во дворе, когда его окружили мальчики лет от восьми до двенадцати, все его приятели, и, приплясывая, принялись орать: еврей! Абрам — еврей! Абраша, ешь кашу! Он крикнул изо всех сил: я не еврей!! я русский! Тогда Женька Макаров с презрением сказал: какой ты русский! у тебя отец еврей! Он явился домой в слезах и с порога спросил отца: папа, ты еврей? Папа смиренно кивнул: еврей. А ты, мама, ты тоже еврейка? Ты с ума сошел, отвечала мама. Я родилась на Волге, в Балаково, у меня в роду все русские. Николай Маркович помнил, что при этих словах мама презрительно глянула на папу, а тот молча опустил голову».
Никого по отдельности нет. Все впрессованы в родственный лёд – и повенчанный с ночью рассвет, и закат, давший ночи развод. Лёд, случается, тает порой, обнажая греховность обид. Вновь скрепляет всё только любовь, Даже тем, что внезапно молчит.
«Зачем я это делаю? — вдруг подумал он. Зачем я хочу убить себя? — и безмолвный этот вопрос привел его в ужас. Какая бы ни была жизнь, она прекрасна, и ее даже нельзя сравнить с тем ледяным мраком, который ожидает его… В конце концов, сколько ему осталось? Один год или десять лет, но даже полгода, да что полгода! — прожить еще месяц было бы великим счастьем… Не-ет, никто больше не обманет его. Какая красота? Это вечные уловки; обман, который смущает слабого человека, искушение… Он представил вереницу ожидающих его дней, однообразные заботы, безрадостные дни, тягостные ночи, не сулящие никаких надежд утра, тоскливые вечера, страдания, болезни и смерть — и твердо сказал: я не хочу. Он подумал: я плачу вовсе не от того, что мне жаль уходить из жизни; я плачу от того, что так и не узнал, зачем я жил»…
Очень жаль героя повести. Впрочем, и себя, и всех нас, «советских людей», которым судьба подарила столько перемен и разочарований на пути от развитого социализма до дикого капитализма, от одной страны до другой, от надежд на стабильность до разрушенных мечтаний. А, если при этом еще и рушилась любовь, то жизнь становилась невыносимой. Автор не осуждает своего героя. Он ему сочувствует. Он его понимает. И, прощаясь с ним, автор вместе с читателем размышляет над тем, что понять невозможно. Зачем и почему всё так происходит в этой прекрасной жизни, на финише которой каждый остается один. Независимо от общественного строя, климатических и политических условий, наличия или отсутствия материальных благ, для которых нет багажника в последнем приюте. Печальную повесть написал Александр Нежный. Но честную. И это главное.
Нелепая смерть, как нелепая жизнь, в которой работал, влюблялся, дружил настойчиво и бестолково, и где, как в пословице, съел тот, кто смел. А ты оглянуться еще не успел, и даже последнее слово еще не придумал, еще не узнал, какой из себя он, последний вокзал, ан, вот уже – раз и готово. Прощайте, талоны на сахар-песок, прощай, колбасы несъедобной кусок, румынский костюм, почти новый, основы марксизма, его миражи. Нелепая смерть и нелепая жизнь, как памятник этим основам.
Владимир Спектор
______________
Александр Нежный «ОДИН»,
Повесть, журнал «Знамя» № 3, 2024 год.










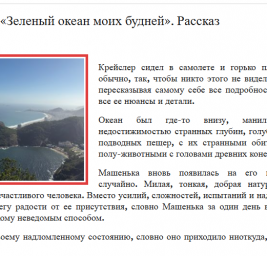





















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ