Вы здесь: Главная /
ЛИЧНОСТИ /
Василий Тредиаковский (1703-1769) — русский поэт, мыслитель, один из первых основателей силлабо-тонического стихосложения в России
Василий Тредиаковский (1703-1769) — русский поэт, мыслитель, один из первых основателей силлабо-тонического стихосложения в России
09.02.2025
/
Редакция

Светлой памяти
Василия Кирилловича Тредиаковского,
русского поэта, переводчика и филолога
XVIII века
посвящается
—
—
Василий Кириллович Тредиаковский
замечательной русский поэт, мыслитель, один из первых основателей силлабо-тонического стихосложения в России, сыгравший ключевую роль в развитии русской литературы, также активный переводчик на русский язык произведений западноевропейских классиков
(1703-1769)
Детство, юность, образование
I.
Василий Кириллович появился на свет 22 февраля 1703 года в Астрахани. Его семья имела духовные корни: отец Кирилл Яковлевич был священником соборной Троицкой церкви, а дед также служил в церкви. Их род происходил из Вологды, а впоследствии переселился в Астрахань в 1697 году.
Жизнь в семье была весьма нелёгкой: прихода и доходов от церковной службы едва хватало на содержание многочисленных домочадцев. Вынужденный заботиться о пропитании семьи отец занимался садоводством и огородничеством. Однако финансовые трудности не обошли Кирилла Яковлевича стороной: из-за долгов в 1717 году он был вынужден продать и свой сад, и огород. Василий с самого детства помогал отцу: служил певчим в архиерейском доме, а также прилежно выполнял различные домашние и хозяйственные обязанности.
С 1710 года в Астрахани начала свою деятельность католическая миссия ордена капуцинов, в рамках которой через три года стала работать и латинская школа, где Василий и получил свои первые знания. Его учителями были Бонавентура Челестини и Джованбаттиста Примавера, которые к тому времени, в 1716 году, прибыли в Астрахань. Кстати, в церковнославянской грамматике, переписанной Василием в 1721 году, сохранилось его предисловие, подписанное «Basilins Trediakovckii», а также и ранние стихи, которые подтверждали его литературные способности.
Забегая вперед, следует заметить, что впоследствии Василий Кириллович стал блестящим реформатором русского языка и стихосложения, которое было построено на его акцентной системе. Для коротких стихов поэт сохранил силлабику, а силлабо-тоническую систему стиха он описал в трактате «Новый и краткий способ к сложению российских стихов».
…В 1722 году Тредиаковский подал прошение о выдаче ему паспорта для поездки в Киево-Могилянскую академию с целью более глубокого изучения латинского языка. Однако по какой-то причине он так и не поехал в Киев, а продолжил обучение у капуцинов. Согласно легенде, летом того же года миссию посетил Пётр I. Побывал он и в скромном Троицком училище, где несколько юношей — дети лиц духовного звания — учились читать и писать по-церковнославянски. Петру Алексеевичу представили лучших учеников, в их числе был и сын приходского священника отца Кирилла, девятнадцатилетний Василий Тредиаковский.
Пётр долго молча смотрел на оробевшего юношу, а потом изрёк: «Вечный труженик, а мастером не станет». Прослышав о такой аттестации, отец Кирилл опечалился, но сказал: «О мастерстве потом речь будет. Поезжай, сыне, в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию». Знал отец Кирилл, что живёт в сыне неистребимая тяга к знаниям, а потому выделил из скудных своих доходов малую толику и проводил сына в Белокаменную…
Примерно в 1723 году Тредиаковский оставил родной город и отправился в Москву, где, несмотря на противоречия и всевозможные трудности, активно занялся литературой. Его творчество на сей раз включало и первые пьесы: «Язон» и «Тит, Веспасианов сын», которые, к сожалению, не сохранились.
…Академия располагалась на Никольской улице, в Китай-городе. Все было по соседству: и Красная площадь, и торговые ряды. Есть куда пойти, но как найти искомое?.. Некий здоровенный детина в длиннополом кафтане объяснил Василию, как найти Академию, и сказал, что мог бы проводить новичка, только вот надобно денежку заработать. Василий пошарил в кармане, вытащил какие-то медяки и сунул их детине.
Академия занимала помещение бывшего Заиконоспасского монастыря: толстые стены, низкие своды, маленькие окна, полутёмные классы. За длинными столами ученики вслух учили латынь и правила риторики. Народ был самый разномастный: отпрыски дворян, молодые монахи, дети стряпчих и бедного приходского духовенства, а также дети посадских, мастеровых и типографских рабочих.
Рассказывали, что царь Пётр охотно посещал этот монастырь, бывал на диспутах, а также давал различные поручения наставникам Академии по переводу научных и технических книг на русский язык. Ходили слухи, что Пётр помышлял о преобразовании Академии в политехническую школу, «ибо надобно, чтобы из неё выходили люди на всякие потребы: и в церковную службу, и в гражданскую, а также знали и строение, и докторское врачевание».
В Академии Василий Тредиаковский учился охотно, поскольку и преподаватели, и товарищи признавали не только его усердие, но и блестящие способности в филологии и изучении различных языков. На третий год обучения Василия перевели в риторический класс с отличием, где он в совершенстве овладел курсом риторики, пиитики и красноречия. К концу учебы ему стали заказывать переводы для опер, а также для их постановок на русской сцене.
1725 год явился для России траурным годом, ибо не стало императора Петра Алексеевича. Тредиаковский написал «Элегию» на смерть Петра I, а ученики Академии в белых стихирях, с венками на головах и ветвями в руках исполнили торжественный хорал.
…Следует заметить, что обучение Василия в Академии проходило на его собственные средства, но, вероятно, и капуцины продолжали оказывать ему материальную поддержку. Основатель миссии Патриций Миланский в это время находился в Москве и, возможно, тоже содействовал молодому литератору.
II.
В 1725 году Тредиаковский завершил обучение в риторическом классе, что соответствовало получению среднего образования. Однако буквально через год он бросил Академию, что впоследствии было удостоверено справкой, выписанной по запросу Святейшего Синода три года спустя. В своем письме в святейший Синод Василий выразил желание продолжить обучение за границей, особенно в Париже, который он считал центром науки и культуры. Таким образом, возникла возможность выехать в Европу ещё во время своего обучения в Москве.
***
…Зима. Синеет, струится холодный свет. Сотни свечей усиливают фантастическое сияние сказочного ледяного дворца. Он пуст. Невидимые музыканты играют нечто долгое и тоскливое. Тычут пальцами, дергают, срывают одежду, выламывают руки… Вот морда, напоминает Бирона, а другая – Артемия Волынского, кабинет-министра Анны Иоанновны. Кабинет-министр повелевает: «Снять с шелкопряда шпагу, оборвать всего, положить и бить палкой! Сто ударов!». Хочется закрыть голову руками, убежать, но руки и ноги неподвижны, и крик застревает в горле: «За что?!..»
Разбитое в кровь лицо вспухло, истерзанное тело и мороза не чувствует. Трудно встать… Избитого Тредиаковского бросили в холодный амбар. Вдруг заскрипел засов, и Питирим, дворовый человек, шагнул внутрь.
— Василий Кириллович, вставай. Их светлость Артемий Петрович велел стихи сочинить срочно. И чтоб сам ты читал их в потешной зале государыне!..
Что делать?.. Какое дело ему, ученому, до жестоких забав вельможных невежд?! «Чудище обло…стозевно…». И где найдёшь управу на зверя, раз сама Анна Иоанновна не по злобе, а по скуке раздает «всемилостивейшие оплеушины» своему придворному поэту? Дескать, не забывай, что ты чернь, хоть и при дворе.
В древности у греков, у эллинов, поэзия на пользу государству была, а в наши дни времена у поэзии отняты, как и все оные столь высокие преимущества. Теперь стихи нужны «поколику фрукты и конфекты на богатый стол на твердых кушаньях», — пиши, поэт, на потеху шутовские стихи к дурацкой свадьбе! Вон Анна Иоанновна всю зиму скучала, и Бирон с камергером Татищевым придумали ей развлечение — на берегу Невы изо льда дворец построить, да маскарад в нём учинить, да сыграть там свадьбу дворцовой уродки-шутихи с князем Голицыным. Князь привёз из Рима жену-католичку, вере христианской изменил. Анна Иоанновна не посчитала сей брак действительным и в наказание приказала Голицыну готовиться к новой свадьбе. Повелела к маскараду сыскать в многоликой России «каждой твари по паре» и выписать представителей всех народностей в Петербург для участия в карнавале.
«Не писать шутовских стихов — убьют совсем, — размышлял Василий. — Бросить все, убежать в родную Астрахань, к рыбакам…» Да ведь не убежишь: не для того кончал Сорбонну, не для того многие языки выучил. Он ученый, и у него своя стезя. России ох как нужны грамотные люди, нужны и гении, нужны и честные «вечные труженики». Смеются многие, что царь Петр I «вечным тружеником» Василия назвал. Да что ж тут постыдного?..
Судя по его письму в Синод 1(12) декабря 1727 года, Тредиаковский «получил оказию выехать в Голландию». Причиной было «…превеликое желание окончить образование в Европейских краях, а особлево в Париже: для того, как всему свету известно, что в оном наиславнейшия находятся». По всей вероятности, возможность выехать за рубеж была ему предоставлена ещё в Академии, о чём свидетельствует содержание «Песенки, которые я сочинил ещё, будучи в Московских школах на мой выезд в чужие края».
Перед отъездом Тредиаковский написал стихотворение, посвящённое своему путешествию в чужие края, что говорит о его искреннем стремлении к знаниям, а также к культурному росту. Таким образом, начальные годы жизни Василия Кирилловича представляют собой череду упорных усилий и стремлений, несмотря на весьма тяжёлые жизненные обстоятельства. Все эти качества стали основой для его последующих успехов, как ученого, писателя, а также блестящего переводчика.
Европа
(Гаага, Париж, Гамбург)
Пребывание Тредиаковского в Европе плохо документировано, ибо «содержит массу неясных эпизодов»; тем не менее имеющиеся источники позволяют выстроить хронологию его передвижений. Согласно письму в Синод, до осени 1727 года Василий Тредиаковский «при полномочном министре, Его Сиятельстве Графе Иване Гавриловиче Головкине обретался»; было это в Гааге, в этом же городе он овладел и «французским языком».
В ноябре 1727 года Тредиаковский добрался до Парижа, где первое время жил у князя А.Б. Куракина — главы русской дипломатической миссии во Франции. По позднейшим его письмам, относящихся уже к 1743-1744 годам, Василий Кириллович прибыл в Париж «с крайним претерпением бедности, и куда дошел (…) пешим из самого Антверпена». В столице Франции он жил по-видимому, до осени 1729 года. Согласно автобиографической «ведомости» 1754 года, Тредиаковский слушал курсы по математическим и философским наукам в Парижском университете, а также — курс богословия в Сорбонне, но в документах 1730-х годов упоминались только богословие и свободные искусства.
По его собственному утверждению, Василий Кириллович имел публичные, очень содержательные диспуты в «Мазаринской коллегии», записи которых, к сожалению, были утрачены при пожаре его имения в 1746 году. Биограф Тредиаковского Е.П. Гречанная, отмечала, что Колледж Мазарини был создан специально для иностранных студентов, а курс философских наук на факультете искусств служил основой для специализированного образования и длился два года. Философия изучалась исключительно по Аристотелю, хотя ощущалось и значительное влияние картезианства и янсенизма.
Списки студентов в Парижском университете в те времена не велись; поэтому ничто не указывало на то, что Василий Кириллович мог держать там испытание на степень бакалавра.
Следует подчеркнуть, что Тредиаковский неоднократно жаловался на стеснённые материальные условия: экзамены были платными, а его покровитель граф А.Б. Куракин после смерти своего отца также был ограничен в средствах. В письме, которое Василий Кириллович отправил в Синод, он описывал свое тяжелое положение (сгорел дом, приходилось снимать для семьи чужую жилплощадь и т.д.) и просил определить ему казённое жалованье для завершения образования за границей. Но это прошение осталось без ответа…
Лекции по философии в Сорбонне он мог посещать как вольнослушатель, поскольку в XVIII веке лекционные курсы были открыты для публики. Позднее Василий Кириллович своим главным учителем называл Шарля Роллена, однако после 1720 года тот уже не преподавал в университете, а читал лекции на латинском.
Академический год в Колледже де Франс начинался в ноябре; таким образом, Тредиаковский, посещая лекции и в других учебных заведениях, так и не сдал экзаменов, хотя и был допущен к диспутам.
…За два года пребывания в столице литературы он познакомился с новым для себя культурным явлением — французским классицизмом. Однако едва ли русский неофит за столь короткий срок мог глубоко проникнуться французской культурой. Возможно, он начал ориентироваться в именах и важнейших событиях французской литературы, но вряд ли понимал обсуждаемые во французской филологии и критике проблемы. Из Парижа Тредиаковский вывез лишь одно подлинное пристрастие, но уже на всю жизнь, это — историк Шарль Роллен…
Следует заметить, что Василий Кириллович в силу своего социального, а также имущественного положения был лишён возможности бывать в парижских салонах, и знакомился как с классической, так и с галантной литературой по многочисленным светским романам эпохи, посвященным правилам хорошего тона.
С ноября 1729 года Тредиаковский перебрался в Гамбург, где жил до августа 1730 года. О времени его жизни в Германии подробности весьма «скромные»: известно, что он довольно долго был связан с князем А.Б. Куракиным, который всячески ему помогал. В частности, Тредиаковский сопровождал имущество князя, загодя отправленное в портовый город, когда Куракина направили в дипломатическую миссию Пруссии.
В Гамбурге Тредиаковский написал «стихи в честь свадьбы А.Б. Куракина с княгиней А.И. Паниной», состоявшейся 26 апреля в Москве, а также активно участвовал и в коронационных торжествах по случаю восшествия на престол царицы Анны Иоанновны. Времени хватало и на учение, и на занятия, и на общение с гамбургскими интеллектуалами, а также существует версия, что Василий Кириллович активно учился и у композитора Георга Телемана, и у поэта Бартильда Брокеса.
В Россию Тредиаковский вернулся в сентябре 1730 года морским путём, о чем прямо говорится в его трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» (1755).
Отношения с духовенством
Отношения Тредиаковского с духовным сословием после возвращения из Европы были неровными. Прежде всего, это объяснялось изданием «Езды в остров Любви», которое некоторыми духовными персонами было названо «безнравственным» и вызывало нападки. О состоянии духа Василия Кирилловича в тот период свидетельствует письмо Шумахеру от 18 января 1731 года со следующими оценками книги:
«Суждения о ней различны соответственно различию людей, их профессий и вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди духовенства одни ко мне благожелательны; другие обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить, утверждают, что я первый развратитель российского юношества, тем более что до меня оно совершенно не знало чар и сладкой тирании любви. (…) Но оставим этим святошам их бешеное суеверие; они не принадлежат к числу тех, кто может мне вредить. Ведь это – подлые твари, которых в просторечии называют попами»
Несомненно, Василий Тредиаковский должен был искать покровителей и в среде высшего духовенства. Результатом стало то, что он оказался в ближайшем окружении Феофана Прокоповича. Свидетельства об обстоятельствах их знакомства не сохранилось, но к 1732 году Василий Кириллович был принят в доме владыки Феофана. Существует предположение, что к их знакомству имел отношение и князь А.Б. Куракин. Кроме того, Феофан пользовался большим авторитетом в Академии и мог в той или иной степени способствовать карьере Тредиаковского, их могла сближать и общая культурная программа. «Езда в остров Любви» была переведена на разговорный русский язык, а в предисловии к ней Тредиаковский цитировал «Духовный регламент» самого Феофана.
Протекция Феофана Прокоповича имела большое значение при столкновении Тредиаковского и архимандрита Платона Малиновского. С о. Платоном Василий Кириллович должен был пересекаться ещё в Славяно-греко-латинской Академии, в которой архимандрит с 1724 года исполнял должность префекта.
Встречались они в Москве в 1731 году, когда во время приёма у ректора Славяно-греко-латинской академии архиепископа Германа Копцевича о. Платон обвинил Тредиаковского в отказе от православия. В позднейшем отчёте говорилось, что Василий Кириллович был опрошен:
«…каковы учении в чужих странах он произошёл?.. и Тредиаковский-де сказывал, что слушал он филозофию. И по разговорам об объявленной филозофии по окончании пришло так, что та филозофия самая житейская, якобы Бога нет. И слыша-де о такой филозофии, рассуждал он, Малиновский, и означенной епископ Герман, что оный Тредиаковский, по слушании той филозофии, может быть во оном не без повреждения»
По мнению Б.А. Успенского[1], речь в данном контексте могла идти как об изучении Тредиаковским картезианской философии в университете, так и о католическом богословии, курсы которого он слушал в Сорбонне.
…Следующее столкновение Платона и Тредиаковского произошло уже в Петербурге, из-за некой «псалмы», сочинённой Василием Кирилловичем, которую он осмелился пропеть в присутствии духовных особ в Александро-Невском монастыре. По мнению Б.А. Успенского, Василий Тредиаковский спровоцировал конфликт сам, ибо «псалма», текст которой не сохранился, была лишь частью духовного концерта, посвященного Святой великомученице Екатерине, который был исполнен в присутствии членов Синода; автором его также был Тредиаковский. Далее в том же концерте по просьбе Феофана Прокоповича, Василий Кириллович публично прочел сатиру А. Кантемира, направленную против митрополита Стефана Яворского, сторонника реставрации патриаршества в России.
Архимандрит Платон и поддерживающий его архимандрит Евфимий Колетти были политическими противниками владыки Феофана и сторонниками митрополита Стефана. Уже на следующий день Платон был вынужден просить прощения у Поэта. В августе 1732 года были арестованы и архимандрит Платон, и его коллега Евфимий.
Помимо Феофана Прокоповича, Тредиаковский поддерживал отношения с Петром Смеличем, который в описываемые годы был архимандритом Александро-Невского монастыря и первым советником Синода, и вообще являлся одним из самых влиятельных православных иерархов.
Существуют свидетельства, что по его приглашению, Василий Кириллович поселился в монастыре и жил там даже после отъезда Петра в Белгород. Именно в монастыре около 1732 года Тредиаковский перевёл и первый том «Древней истории» Роллена, которым впоследствии занимался в течение 30 лет. В 1738-1739 годах, оказавшись в весьма стесненных жизненных условиях, Тредиаковский поддерживал короткие отношения с архиепископом Феодосием (Янковским), с которым познакомился по-видимому, также в Белгороде.
В дальнейшем Синод санкционировал его стихотворный перевод «Псалмов» и перевел всю прибыль от продажи издания в полное распоряжение автора. По тем временам, это было совершенно беспрецедентным явлением в середине XVIII века.
Творчество
I.
Литературный путь Василия Тредиаковского начался ещё в годы учёбы в Славяно-греко-латинской академии. Его самые первые работы, такие как силлабические стихотворения, свидетельствуют о раннем увлечении поэзией и языковыми экспериментами. Важную роль в формировании его стиля сыграло изучение латинской литературы, что дало ему прочную основу для работы с классическими текстами.
Василий Кириллович Тредиаковский внёс значительный вклад в развитие литературы XVIII века. Это был замечательный поэт и филолог своего времени. Он сформулировал основные принципы стихосложения в русском языке.
С критикой стихосложения, предложенного Василием Кирилловичем, выступил Ломоносов, который оспорил утверждение Тредиаковского, согласно которому в стихах могут использоваться не только женские рифмы, но также – мужские и дактилические рифмы. В целом, Поэт принял систему, предложенную Ломоносовым, и даже переписал несколько своих прежних од, с тем, чтобы они соответствовали новым правилам стихосложения.
Одним из первых значимых трудов Тредиаковского стал перевод аллегорического романа «Аргенида», выполненный им в 1724-1726 годах, который спустя четверть века он перевёл заново. В «Предуведомлении» к изданию 1751 года Тредиаковский поместил некоторые воспоминания о своих давних московских «штудиях». Согласно ведомостям академии, Тредиаковский был «своекоштным студентом», то есть, обучался за собственный счёт, материально ему помогали, видимо, и капуцины.
Основатель Астраханской миссии Патриций Миланский с 1722 года по 1725 работал в Москве.
Роман «Аргенида» является по своему идеологическому наполнению протоколическим и полемизирующим с кальвинизмом, на этот аспект перевода Василий Кириллович обращал особое внимание читателей в предисловии к опубликованному изданию. По мнению Б.А. Успенского, миссионеры-капуцины могли заказать перевод только Тредиаковскому!..
Главным вкладом Василия Кирилловича в русскую литературу стала его деятельность по реформированию стихосложения. В 1735 году он написал трактат «Новый и краткий способ к сложению стихов Российских», в котором изложил основы силлабо-тонической системы. В своем труде для определения различных жанров сонета, рондо, эпистолы, элегии, оды и прозы Тредиаковский также приводит многочисленные примеры. Там же он ввёл понятие стихотворной стопы, а на её основе – понятия ямба и хорея. Этот труд стал важным шагом и обновлением русской поэзии и послужил основой для последующих работ Михаила Ломоносова и Александра Сумарокова.
II.
Литературное наследие Тредиаковского охватывает как оригинальные произведения, так и переводы. Среди наиболее известных его переводов — роман Поля Таллемана «Езда в остров Любви» (1663). В 1730-е годы это была единственная в России печатная книга такого рода и одновременно — единственный светский роман русской литературы того времени.
Роман «Езда в остров любви» стал своего рода энциклопедией любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, поданных в аллегорической форме, и стал своеобразным кодексом эмоционального и любовного поведения русского человека новой культуры. Кроме того, Тредиаковский активно переводил произведения французских и латинских авторов, включая оды, трагедии и философские трактаты.
Несмотря на то, что ранние пьесы Василия Кирилловича «Язон» и «Тит», Веспасианов сын» не сохранились, драматургические опыты свидетельствуют о его стремлении всячески развивать русский театр. Он экспериментировал с жанрами и формами, вдохновляясь как античной традицией, так и европейскими образцами.
Тредиаковский был не только поэтом, но и философом, что особенно заметно в его поздних трудах. Его сочинения касались вопросов языка, логики и эстетики. Он стремился обосновать теоретические принципы литературы, выделяя роль гармонии и красоты в художественном творчестве.
Следует подчеркнуть, что творчество Тредиаковского весьма нередко подвергалось критике современников. Его стремление к новаторству вызывало сопротивление, а некоторые работы воспринимались как излишне сложные и оторванные от традиций. Однако все эти споры так или иначе способствовали развитию русской литературы, делая её более открытой к новым идеям.
Таким образом, Василий Кириллович стал одной из ключевых фигур эпохи, внёсших вклад в становление русской литературы как самостоятельного явления. Его работы, полные интеллектуального поиска и творческих экспериментов, оставили неизгладимый след в истории русской культуры.
Именно Тредиаковский впервые ввёл: гекзаметр в арсенал русских стихотворных размеров; впервые в русском языке и литературе теоретически разделил поэзию и прозу, а также ввёл эти понятия в русскую культуру и общественное сознание.
Тредиаковский – музыкант и композитор
Музыкальное творчество Василия Кирилловича известно сравнительно мало, поскольку почти все нотное наследие сохранилось в рукописных сборниках, в большинстве случаев уникальных и труднодоступных; часть материалов, видимо, утрачены, но в 1952-1958 годах они были опубликованы.
В 1980-е годы в фондах Центральной научной библиотеки Украинской СССР были найдены рукописи 6 или 7 духовных концертов Тредиаковского, чье исполнение неоднократно описывалось современниками. Все рукописи снабжены указанием авторства, наибольшее количество музыкальных произведений Василия Кирилловича и переложений его стихов осталось в 1730-1740 годах, то есть, периода наибольшей известности его как поэта и композитора.
…Первоначальное музыкальное образование Тредиаковский получил от отца-священника. В латинской школе капуцинской миссии музыка преподавалась наравне с риторикой и языками; это было так называемое «портесное пение».
Уже в стиховедческих работах 1730-х годов Василий Кириллович прямо указывал на связь между стихосложением и музыкальным искусством, а также писал, что «тонический принцип был введён в русское стихосложение под влиянием народной песни».
Первые музыкальные опыты Тредиаковского были предприняты ещё до отъезда его в Европу в 1720-е годы, и неотделимы от попыток тонировки стиха. Некоторые опусы увидели свет в «Стихах на разные случаи» — своеобразным поэтическим приложением к переводу «Езды в остров Любви». Самым известным его произведением была песня «Начну на флейте стихи печальны», которая входила в список двенадцати самых известных песен XVIII века и сохранилась, как минимум, в 36 рукописях.
Текст песни был впервые опубликован в составе книги «Езды в остров Любви» под названием «Стихи похвальные в России» (1730), но в одной из последующих рукописей Поэт внёс другое название — «Псалом России».
В Государственном историческом музее сохранился «трёхголосый песенник», содержащий 23 стихотворных переложения. Сравнительный анализ стихотворных переводов с портесными многоголосными сочинениями (духовными концертами) демонстрирует родство «нотного почерка» и близость использования ритмико-интонационных приёмов. Концерты были написаны в 1730-е годы, а сохранившийся сборник кантов датирован 1742 годом. Позднее Тредиаковский предпринял также переложение псалмов, которые во многом были отличны по музыкальному складу от своих предшественников по жанру.
Вклад Василия Кирилловича в развитие русской музыки был двояким. С одной стороны, он активно переводил первые итальянские интермедии и первую оперу, поставленную в России. Его главной задачей в этом отношении было — донести до русского слушателя различные жанры итальянской оперы 1730-х и последующих годов.
В этом отношении Тредиаковский положил начало всем последующим этапам развития русского музыкального драматического театра. Важнейшим для него самого был русский кант во всех связях и разновидностях. Своим самостоятельным творчеством Василий Кириллович подготовил основы для развития русской вокальной лирики и её жанровых форм.
Личная жизнь писателя и поэта
Личная жизнь Василия Кирилловича была тесно связана с семейным окружением. Его родители, будучи представителями духовенства, передали ему строгое воспитание и высокую нравственную планку, что оказало сильное влияние на его взгляды и характер. Однако путь к самостоятельности сопровождался значительными жизненными и строгими переменами.
В очень молодом возрасте Василий вступил в брак, его избранницей стала Федосья Фадеева, дочь сторожа губернской канцелярии. Этот союз состоялся около 1722 года, ещё до окончательного отъезда Тредиаковского из Астрахани.
Брак с Федосьей, несмотря на весьма ограниченную информацию о семейной жизни молодых, был частью стремления Тредиаковского к стабильности и созданию домашнего уюта, что было особенно важно в условиях непростой материальной ситуации.
Личные записи и свидетельства современников не содержат подробных описаний семейных отношений Тредиаковского с женой. Однако можно предположить, что период его активного творчества и образовательной деятельности мог вносить весьма непростое напряжение в их семейные отношения. Постоянные перемещения по стране, а также финансовые трудности и углубленная занятость научными изысканиями, вероятно, сказывались и на его отношениях с женой, которая «подарила» мужу единственного сына. Более того, личная жизнь Тредиаковского нередко становилась объектом обсуждения среди его коллег и современников. Его стремление к реформам в литературе вызывало как восхищение, так и критику. Василий Кириллович не избегал полемики, активно отстаивая свои взгляды, что нередко порождало конфликты и в профессиональной среде. Несмотря на это, он умел находить поддержку среди единомышленников, включая и представителей духовенства, и просвещённого дворянства.
Личная жизнь Тредиаковского была неразрывно связана с его интеллектуальной деятельностью. Он проводил значительную часть времени в общении с учёными, писателями и переводчиками, что формировало круг его близких знакомых. Однако о его тесных дружеских связях и эмоциональной стороне жизни известно весьма немного. С возрастом Василий Кириллович все больше погружался в размышления и творчество, что, возможно порождало в нем поиск внутренней гармонии и смысла. Личная жизнь Василия Кирилловича, переплетённая с общественной и творческой, была весьма сложным и многогранным процессом, характерным для человека, находящегося в постоянном поиске идеала.
…Последние годы жизни Василия Тредиаковского прошли в условиях относительной изоляции. Его здоровье, подорванное годами напряженного труда и частыми конфликтами с оппонентами, а также с близким окружением, постепенно ухудшалось. Несмотря на это, он продолжал работать, создавая литературные произведения, занимаясь и переводами, а также углубляясь в научные исследования. Однако к концу жизни его отношения с современниками, в том числе и с ученым сообществом, значительно осложнились из-за его неуступчивого характера и склонности к спорам.
Василий Кириллович скончался 17 августа 1768 года в Санкт-Петербурге. Его уход из жизни не был неожиданным для близких, поскольку состояние здоровья известного Поэта и переводчика давно вызывало опасения.
Причиной смерти, согласно мнению современников, стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями, которые развились у него на фоне переутомления и постоянного стресса.
Василий Тредиаковский был похоронен в Санкт-Петербурге, однако точное место захоронения осталось неизвестным. Уже этот факт подчеркивает трагичность его судьбы: фигура, стоявшая у истоков реформ русской литературы, не получила при жизни заслуженного признания, а после смерти оказалась на периферии общественного внимания.
Несмотря на это, вклад Тредиаковского в развитие русской культуры стал очевиден в последующие десятилетия. Его работы вдохновили поколения писателей и ученых, которые отмечали его новаторский подход к стремлению и совершенству стихосложения. Жизнь и творчество Василия Кирилловича стали примером самоотверженного служения искусству и науке, оставив значительный след в истории русской литературы.
Светлая память и заслуги Первого русского теоретика стихосложения Василия Кирилловича Тредиаковского.
-
Первый русский теоретик теории стихосложения в России В.К. Тредиаковский считается первым теоретиком стихосложения в России. Его трактат «Новый и краткий способ к сложению стихов Российских» положил начало переходу от силлабического стихосложения к силлабо-тоническому, что сделало русскую поэзию более ритмически разнообразной.
-
Первый светский роман. Переведенный Тредиаковским роман Поля Таллемана «Езда в остров Любви» (1730) стал одним из первых светских романов на русском языке. Использованные в романе аллегории и элементы античной мифологии на тот момент несомненно явились новаторскими для русской литературы.
-
Отношение к реформам Петра Великого. Стихи Василия Кирилловича, посвящённые Петру I, и участие в торжественных панихидах в память о царе подчеркивают его восхищение преобразованиями, направляемыми на сближение России с европейской культурой.
-
Многозначительность. Тредиаковский в совершенстве знал латинский, французский, итальянский и немецкий языки, что делало его одним из самых образованных личностей своего времени. Эти знания позволяли ему не только переводить тексты, но и анализировать литературные традиции других стран.
-
Легенда о встрече с Петром I. Согласно апокрифическому преданию, лета 1722 года Петр Алексеевич посетил Астрахань, где и встретился с молодым Тредиаковским, назвав его «вечным тружеником». Хотя эта история не имеет документального подтверждения, она отражает признание заслуг Поэта даже в легендарном контексте.
-
Эксперименты с жанрами. Помимо поэзии, Василий Кириллович занимался драматургией. Его пьесы «Язон» и «Тит, Веспасианов сын», несмотря на то, что они не сохранились, стали одними из первых попыток создать оригинальные русские драматические произведения на основе античных сюжетов.
-
Споры с современниками. Василий Тредиаковский часто вступал в споры с Михаилом Ломоносовым и Александром Сумароковым, несмотря на их критику, его идеи о литературных реформах в значительной степени повлияли на развитие русской поэзии XVIII века.
-
Покровительство капуцинов. Василий Кириллович находился под серьёзным влиянием католических миссионеров ордена капуцинов, которые способствовали его обучению в юности. Этот факт объясняет его глубокую связь с европейской культурой, а также и прокатолические взгляды в некоторых произведениях.
-
Перевод «Аргениды». Его перевод романа «Аргенида» стал не только литературным достижением, но и важным идеологическим шагом. Тредиаковский обратил внимание читателей на прокатолические идеи текста, что вызывало неоднозначную реакцию в российском обществе.
-
Скромный конец жизни. Несмотря на огромный вклад в литературу, последние годы жизни Поэта прошли в относительной изоляции. Его смерть в 1768 году осталась почти незамеченной современниками. Лишь Александр Пушкин, который очень ценил творчество Василия Кирилловича, посвятил ему стихотворение:
Не стало уж много городов по свету,
Где чтут домбристов, кобзарей, поэтов,
Их отливая в бронзе на века.
Гляжу на монументы не без грусти.
Где памятник тебе, великий русич?
Звучала здесь бы хоть бы одна строка
Из языка нерусского, чужого,
Когда бы не твоё простое слово,
Которым и меж собою говорим?
Гекзаметра российского раскрыты
Услышали над Волгою закаты
И покорились им Париж и Рим.
Важна народов дружба, кто же спорит?
Немало было на Земле историй,
Сокрытых ныне пред Троицким Собором
Предтече поклониться должен город
Ведь он его рожденьем знаменит!
Да будет памятник под сенью сводов
Тебе, творитель первой русской оды,
Вам, реформатор русского стиха!
Тредиаковский – Астрахана слава!
Он памятник, не мудрствуя лукаво,
Воздвиг уже и тем, что речь его легка!..
…Впоследствии памятник Василию Кирилловичу был поставлен в его родной Астрахани, в парке, на мраморном пьедестале, возле которого всегда его любимые цветы — розы.
Однако ныне есть предложение: поставить памятник Поэту на Лубянке, ибо веселое и полное любви русское барокко в лице Василия Кирилловича Тредиаковского должно быть воплощено в достойном его гению и стойкости памятнике, ибо справедливость должна восторжествовать!..
_______________________
[1] Борис Андреевич Успенский (род. 1 марта 1937, Москва) — советский и российский филолог, лингвист, семиотик, историк языка и культуры, теоретик искусства.


























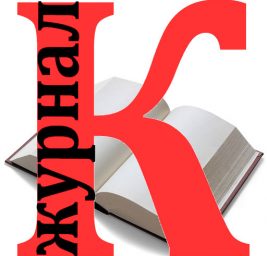





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ