Новое
Философский взгляд на лингвистику
14.04.2025
О монографии Ю.М. Малиновича «Антропологическая лингвистика: Человек. Язык. Культура». Лингвофилософские исследования». Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2025, 336 с.
Лингвистика своим происхождением обязана философии. Да-да, она и зародилась в её недрах как ответвление, отсек, отпрыск философского знания, и это действительно так, хотя и не всегда учитывается современными исследователями. Вот почему мы однозначно приветствуем лингвофилософские исследования, коих на сегодняшний день немного, и монография Ю.М. Малиновича относится к их числу. В книгу вошел ряд ведущих идей иркутского ученого: языковая онтология внешнего и внутреннего мира человека, семантика эгоцентрических категорий, языковое сознание, концепты, категории и константы как выражение русского, немецкого и английского культурных кодов. Юрий Марцельевич Малинович сравнительно недавно, в 2015 году, ушёл из жизни, и эта монография составлена доктором филологических наук, профессором Хакасского университета И.П. Амзараковой и профессором М.В. Малинович, супругой ученого, по недоконченной книге Ю.М. Малиновича, а также по другим книгам, статьям, лекциям, материалам, черновикам, запискам и устным высказываниям учёного. Скажем сразу же: такой совокупный, такой мощный фонд как раз и раскрывает стройное существо сложнейшей проблемы антропологической лингвистики.
Театр начинается с вешалки, а книга с предисловия. И мы отдадим должное Марии Васильевне Малинович, написавшей такое развёрнутое, полное глубоких мыслей и чувств предисловие к упомянутому изданию. Не так часто (или вообще это редкость?), чтобы о научной книге в предисловиях к изданиям высказывались самые близкие люди, но кто, как не жена, жившая рядом бок о бок многие годы, олицетворяла собой, действительно, вторую половину учёного? «Можно даже сказать и так: в каком-то смысле написать о книге – это наиболее интенсивный способ её прочитать» (Ольга Балла).
Итак, оглавление: числовой код, истина, клятва – это в третьей главе; игра, «кажимость», совесть, воля, эмоции раскрывает вторая глава книги, а первая естественно посвящена понятийному базису проблемы. При этом антропологические понятия даются в тесном сопряжении с языками, в основном с русским и немецким, приводятся отрывки из текстов как известные, но заставляющие нас заново переосмысливать сказанное, так и неизвестные, интригующие читателя своим содержанием.
Философская работа лингвиста привлекательна по ряду причин, попробуем их обозначить.
Во-первых, перед нами действительно философия, философия в целом, когда анализу подвергаются самые разные точки зрения и это делается весьма убедительно и обворожительно: ни один автор не выставляется на общем фоне. Мысль Ю.М. Малиновича постоянно работает, то оспаривая отдельные положения философов, то соглашаясь с доводами, приводящими к авторской мысли. Философия предстаёт в едином ключе, ознаменовавшем всё то, что впоследствии назовут антропологической лингвистикой. Процитируем: В самом начале приведены позиции трёх учёных-философов: М. Хайдеггера, Г. Шпета и М. Бубера.
М. Бубер называет три сферы, в которых строится мир отношения, в следующей последовательности: жизнь с природой, где отношение застывает на пороге речи; жизнь с людьми, где отношение оформлено в речи, жизнь с духовными сущностями, где отношение не обладает речью, но порождает её.
Цитируются Н. Хомский и Г.П. Щедровицкий, М. Хайдеггер и Д. Дэвидсон, Г. Пауль и М. Блумфилд, В. Звегинцев и Р. Фрумкина, Н. Кузанский и Е. Кубрякова, В. Постовалова и Л. Выготский… И всё это подробно и грамотно сделано. Вот характерная цитата:
«Наиболее полное и, на наш взгляд, исчерпывающее определение сознания содержится в следующей формулировке: «Моё отношение к моей среде есть моё сознание» (К. Маркс, Ф. Энгельс). Учёный не побоялся весомо сказать о бывших подвижниках философии и науки. Это всё «во-первых».
Во-вторых, философский взгляд на лингвистику сопровождается вниманием к языку, постоянным вниманием. После первой главы, завершающейся такими наработками, как «Семантика эгоцентрических категорий» и «Семантика личностной пристрастности», после теорий констант и концептов следует великолепный анализ бытия антропоцентризма в языке. Это константы «совесть», «кажимость», «игра» на материале текстов. Концепт «игра» анализируется на примере рассказа В. Распутина «Уроки французского», а константа «кажимость» проведена по трем дискурсам: научному, политическому и художественному.
«Мне кажется порою, что солдаты…». «Мы вас подождём! – говорили нам пажити, «Мы вас подождём!» – говорили леса. Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса (К. Симонов, 1941).
Проведена эта мысль на трёх языках, то есть лингвофилософия соотнесена с различными языками – не только с русским. Сравнивая позиции Г. Фреге и Г.-Х. Гадамера, Ю.М. Малинович пишет:
«Предпочтительным, на наш взгляд, является второй подход – от эмпирических фактов к обобщениям», осмысленные тексты сами говорят о фактах. «Обсуждая проблему кажимости, следует с чрезвычайной осторожностью подходить к концепции У. Эко об отсутствующей структуре. Она может отсутствовать в реальности, но присутствовать в сознании (в воображении)».
Как видим, даже такая проблема, как «кажимость», потребовала совмещения различных философских установок, и так во всей книге.
В-третьих, внимание к языку конкретных произведений у Ю.М. Малиновича всегда сопровождается философскими обобщениями, как видно из только что приведённого примера, и это же философское прочтение присутствует и в третьей главе.
Рассмотрим детальнее подрубрику про числовой код и реализацию этого кода в романе Достоевского «Униженные и оскорблённые». О трудности интерпретации числа писала Н.Д. Арутюнова, подчёркивая несовпадение естественно-языковой и абстрактной систем. На это же указывал и Б. Тошович. Ю.М. Малинович добавляет к этому еще две трудности: проблему семантической ценности цифр в различных культурах и проблему перевода названий произведений художественной литературы. Здесь же приведены два перевода: «Разгром» Фадеева и «Судьба человека» Шолохова.
«Суть лексикографических трудностей состоит и в толковании таких понятий числа как: семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа = семь Я; события – Тридцатилетняя война в Германии (продолжалась в течение 30 лет)».
Учёный подходит к числовому коду не просто аналитически, а с позиций размышления о «коде» числа в различных языках. Но и это не всё. Ставится вопрос о «маленьком человеке» и приводятся многочисленные свидетельства из Тургенева, Григоровича, Достоевского (в цитате из Г. Поспелова), указывается и зарубежный источник Ганс Фаллада. Важнейшим критерием неразложимости этого мотива является его целостность (упоминается в связи с этим историк литературы А.Н. Веселовский). В романе «Униженные и оскорбленные» Ю.М. Малинович устанавливает три мотива: числовой код, страх и личную пристрастность повествователя к изображаемым героям. Здесь правят бал «целые числа одна комната; собирательные весь день, целый день; порядковые: во-первых, во-вторых, двадцать второго. В имплицитной форме присутствует цена квартиры: как можно дешевле». Далее вводится понятие страха и трепета, говорится о Кьеркегоре, его трактовке, но цитируется Анна Вежбицкая и Г. Лейбниц. Автор придерживается позиции В.М. Хоминской, отмечавшей, как чуток был писатель к вопросам личной пристрастности и социальной справедливости.
«Специфика числового кода проанализированного нами романа заключается в его диффузности. Её суть состоит в неопределённости в конкретном числовом исчислении таких понятий, как: «Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру». «В первое время после ухода из дому она и Алёша жили в прекрасной квартире. Небольшой, но красивой …».
Так были рассмотрены в романе Достоевского все три кода: полная парадигма числового кода, страх и трепет и личная пристрастность в восприятии судьбы маленького человека.
Зачем мы всё это рассмотрели? Чтобы показать, как естественно вплетаются философские начала в художественную ткань произведения, как они обогащают наше восприятие прочитанного: как соотносится числовой код с глубинными идеями текста.
Четвёртым привлекательным признаком монографии является язык описания – понятный и научный, хорошо ложащийся на сознание читателя и преисполненный интересными наблюдениями, скромный и вместе с тем запоминающийся, входящий в сознание будущих продолжателей дела – исследователей философских ключей. В этом (и не только в этом) плане Ю.М. Малинович является учеником выдающегося лингвиста В.Д. Девкина. Почему мы пишем о языке изложения? Потому, что в ряде современных работ появляется странная тенденция – так подавать материал, что и понять его непросто, и пересказать проблематично. Но не будем о грустном. Нас бесконечно радуют публикации, которых можно читать как новую, занимательную книгу, то есть читать с пользой и удовольствием.
Наконец, пятая особенность анализируемого труда – это как раз то, с чего и следовало начинать наш обзор. В конце издания дан список трудов, в которых излагается сама проблема антропоцентризма, начиная с 1974 года (здесь же 2007 год) и «кончая» 2011 годом. Получается, что Ю.М. Малинович опередил введение антропоцентризма в лингвистике, когда писал о роли человека в языке задолго до начала XXI века, и это весьма примечательно и ценно. И его теория полна живых наблюдений. Представим некоторых из них.
Модульный принцип при обсуждении семантики эгоцентрических категорий предпочтителен потому, что он позволяет соединить мир человека как микромир с природой и космосом как макромиром и возможными мирами.
Несмотря на то, что целый ряд семантических категорий эгоцентрической ориентации получил должное освещение, исчисление и изучение таких категорий далеко неполно. Клятвы и заклинания, долг и совесть, честь и бесчестье, два мира: мы и они, вера, надежда, любовь и целый ряд других.
То, что в настоящее время воспринимается как метафора, в своё время воспринималось как реальная действительность.
Семантика личностной пристрастности всегда предикативна, поэтому значительная роль в её организации принадлежит синтаксису.
Проблема статуса интонации стала актуальной в коммуникативной грамматике, прежде всего, в двух аспектах: имеет ли интонации непосредственное отношение к смыслу предложения и является ли она синтаксически значимой.
Истина и Правда являются тем постоянно ускользающим идеалом, с которым связаны духовность и нравственность – понятия, уходящие своими корнями в античность и христианскую философию.
Терпение – это одна из типологических характеристик русского менталитета, особенно проявившееся и продолжающее проявлять себя на рубеже нового тысячелетия и в настоящее время.
Нет, мы не будем пересказывать книгу, её надо читать, изучать, поскольку она из тех современных работ, в которых новая мысль рождается в сопряжении ранее высказанных мыслей и самого учёного, и его предшественников – лингвистов и философов. Но это благодарное чтение, поскольку оно одаривает нас действительно философским взглядом на все те процессы, которыми преисполнена современная прекрасно развитая лингвистика.
В.К. Харченко
Скачать бесплатно монографию
Ю.М. Малинович
«Антропологическая лингвистика: Человек. Язык. Культура»






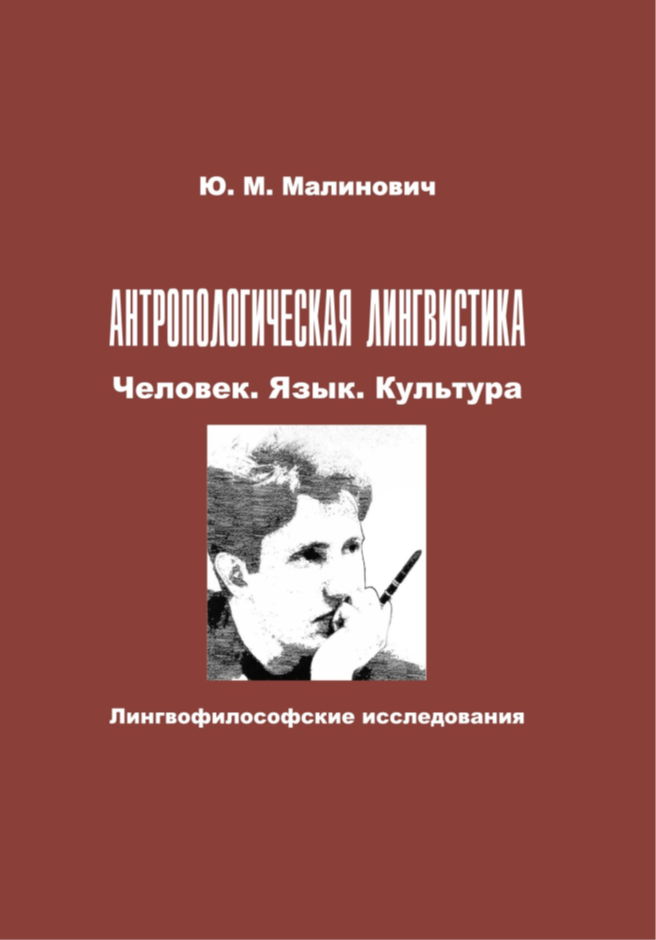



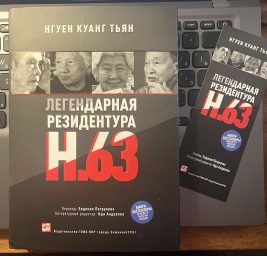






















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ