Нина Щербак. «Коктебель». Рассказ
24.12.2020
/
Редакция

Завтра был его день рождения. В общем-то, очень многие истории вновь возвращали в это самое прошлое, за которое не стоило так сильно держаться, как будто бы маятник часов, застывал на одно мгновение в крайней точке своего пути, а потом покорно падал, выводя на привычную орбиту своего возрождения.
Когда она с ним познакомилась, он был похож на пилота. Пилота английских ВВС. Бравый. Хотя, нет. Он был скорее даже не бравый, а просто уверенный. Сильный торс и небывалое спокойствие, именно об этом и говорили. Не был он и решительным. Просто был – другим, непохожим на милых, улыбчивых юношей, которые ее обычно окружали. Интеллектуал, ирландец, что означало – очень хорошая семья, и очень хорошее воспитание.
Познакомились они с Настей на автобусной остановке, в небольшом английском городке. В этом городке все было тихо и спокойно, как часто бывало и бывает в Англии. На весь город только одна улица, центральная, по которой медленно едут машины. Привычные маршруты автобусных линий.
Тогда была осень, и было много разного, того, что хотелось и не хотелось сделать. Опадающие листья с высоких платанов, рано темнело. По вечерам в Соборе звонили колокола, совсем неподалеку. В общем-то, был и определенный настрой «непротивления».
Честер был, действительно, решительным. Прямой, в чем-то, видимо, и даже точно — одинокий. Заговорил он с ней сам. Обо всем, о себе. О погоде, как обычно в Англии разговаривают. Потом пошел дождь, и она слушала-слушала его, уже и не слышала, а думала о своем, всю дорогу на автобусе в центр. Потом Честер пригласил ее на обед. Сидели они в торговом центре, говорили, улыбались друг другу. Порция была большая, с салатом. Было ей в этом маленьком городке не то, что одиноко, но как-то странно еще. Помнилось то, что осталось далеко, дома, все то радужное и юношеское, что всегда воспринималось как обыкновенное. Так внезапно и так быстро оставленное. Отрезанное, может быть, не навсегда все-таки, но, как она понимала, на долгий промежуток времени. А здесь, здесь еще ничего не было. Не успело быть или даже начаться. И вдруг — что-то новое. Совсем новое.
Она даже не задавалась вопросом, интересно ли или нет ей с этим как будто бы офицером. Тем более, что он давно занимался исключительно делом гражданским, то есть работал в офисе и много читал.
Теперь они часто ездили по английским поместьям, на выходные. Он заезжал за ней на белой роскошной машине. Останавливался около небольшого домика с английскими трубами, с видом на поля и горы. Останавливался и терпеливо ждал. Она, наконец, быстро выходила из дома, захлопнув громко входную дверь. Вскакивала в машину. Он всегда оглядывал ее с ног до головы. И всегда оставался этим своим взглядом доволен. Потом они долго ехали по дороге, вдоль английских пастбищ. А потом, доехав до места назначения, гуляли по слегка обветшалому, но освещенному солнцем небольшому музею-поместью, рассматривали картины в золоченых рамах, животных, застывших на своих местах в качестве экспонатов. Подустав, пили чай в уютной чайной из красивых, узорчатых чашек, а потом – обедали. Обязательно не в открытой солнечной чайной, а в другом месте. Он любил шутить, и она улыбалась его этому желанию. Еще он любил рассказывать о своих подругах, рассказывать с понимающей улыбкой. Это ей нравилось чуть меньше, но время проходило как-то правильно, четко отсчитывая минуты, и оставляя возможность существовать дальше.
Потом он возил ее на какие-то английские ярмарки книг, печально разложенных, и уже кем-то прочитанных. Книги – бич ее окружения, каждый из знакомых не просто их читал, но тщательно «вылавливал» на базарах, в магазинах, искал на выставках. Интереса к книжному миру у нее никогда не наблюдалось, но теперь Честер так трогательно стоял около книжных стендов по три часа, читая и читая, страницу за страницей, облупившиеся бумажные версии чьих-то жизней, что совсем игнорировать литературу было попросту невозможно.
И вот они ехала снова. И снова было ощущение того, что время проходит, а ей уже совсем не одиноко жить.
А потом был объявлен праздник, чей-то день рождения, и, конечно, он выпал на воскресенье. Русских заграницей, особенно в маленьких городах, было совсем немного. Все друг друга знали и помнили. Когда он приходил, каждый из присутствующих в небольшой квартире, где собирался многонациональная компания бывших аристократов, преподавателей, домохозяек и бизнесменов, приподнимался. Ей казалось, что каждая из русскоговорящих девушек, а их бывало там – больше всего, просто сейчас бросится на него, повиснет на шее, и никогда не отпустит. Насте очень хотелось двинуть каждой из этих девушек, и, хотя она не была ярко и особо влюблена, внимание к его сильному торсу и социальному положению, нравились и одновременно ужасно ее раздражали.
Ярким были и посещения Лондона. Иногда она просто уезжала туда одна, никого не предупредив. А иногда они ехали туда поездом вместе, обязательно первым классом, где совсем никого народу, тихо, и кондуктор проверяет билеты, не словно вы забыли его купить, а как будто бы рад с вами познакомиться. Впрочем, это была полуправда, так как кондукторы разговаривали в Англии так, как будто встретить вас была большая честь, — всегда и вне всякой зависимости от класса билета. Потом разъезжали даже не по ночному городу, а по вечернему. Он легко махал проходящим такси, и они снова погружались в какой-то странный мир вечерней жизни, огней и чистого воздуха. Один ресторан на Пикадилли она особо хорошо помнила, там время текло еще дольше обычного, совсем замирало. Там же она всегда оказывалась вечерами, сразу после того, как, распрощавшись со всеми дома, садилась в самолет, и опять летела в Лондон.
В каком измерении этот странный отрезок жизни?
Спустя пять лет, уже после той, другой, такой яркой встречи, все изменилось, почти за один день. Перевернулось и рухнуло, поменяв критерии, подорвав законы. Снова был Лондон, снова была улица Пикадилли, снова — огни, Академия Искусств, Общество Английских ВВС. А потом какой-то высокопоставленный прием, паркет, свечи, где-то рядом гостиница Ритц и роскошно раскинутые на километры безбрежные парки (выбегала, чтобы пробежать по покрытым инеем аллеям, когда становилось темно). После приема она шла по коридору в темном платье, мимо шикарно одетых дам и джентльменов, почему-то брала у официантов, расставленных у дверей, бокалы с вином, и громко бросала их об пол.
Потом она лежала на своей кровати в номере и громко плакала, а Честер, находясь в соседней комнате, тоже лежал на кровати, скрестив руки на груди как покойник, и уже два дня молчал. Как-то ему тоже не везло. Предыдущая подруга была немного странной. Он как раз тогда начал писать рассказы. В этом его рассказе, который назывался Carried but Not Worn речь шла о пилоте английских ВВС, у которых подруги были почему-то как перчатки. Не в том смысле, что их меняют, но в том смысле, что их – не носят. Это известный факт, кстати. Английским пилотом полагаются для формы – белые перчатки. Вот их и полагается носить с собой, но не полагается надевать. Carried but not worn.
Знаете, какой Лондон? Лондон – провинциальный город. Он тихий. Вечерами люди ездят там на велосипедах. Много выставок, много театров. Много огней. Спектаклей много до такой степени, что можно просмотреть всю историю жизни человечества, от Шекспира до наших дней, и за один вечером. Если быстро передвигаться, меняя маршруты. Темза большая, широкая, свободная, слегка грязная, особенно если помнить история, начиная от римлян. Мосты. Дышится, и за одно мгновение, взобравшись быстро наверх по железной и крутой лестнице, которая бывает обычно только в старых домах, вы оказываетесь перед панорамой столетнего города, освещенного громадного Биг Бена, Зданий Парламента, черных от копоти, печального грозного Тауэра, и светящейся пышными огнями гостиницу Савой. Все видно и сразу, так странно продуман и запланирован этот город. Там совсем нет места, поэтому все известные строения выглядят совершенно гигантскими вблизи.
А потом еще была замечательная поездка на закрытую базу. На базе Честер сдавал экзамены и получал академический диплом. Он его получал, когда закончил обучение, чему был несказанно горд.
Вечера в Англии очень спокойные. Разные. Закаты там теплые. Они гуляли по зеленому газону, где были расставлены тонкие деревянные столы, на которых жарилось мясо. Вот эти люди в красивых формах и розовыми лицами приветствовали друг друга, пожимая руки, или, как ей казалось, отдавая честь.
Почему она возвращалась к этому странному времени, которое было теперь, как в тумане, к этому вечеру при свечах на этой закрытой территории, на которой она оказалось так внезапно, и как будто бы случайно. Она точно понимала, что ее жизнь должна обязательно пойти по-другому. Это не была ее история. Эта была история кого-то из другой жизни. Она случайно оказалась здесь, заменив кого-то еще. Кого? Она помнила, что почему-то обняла его тогда, и даже поцеловала, а потом – отстранилась. Совсем. А проснулась утром от запаха кофе и от того, что в окно ударил как будто камешек, тихо, едва слышно, словно пролетая мимо незнакомый дрозд коснулся ветки неловким желтым клювом.
«Я обязательно, обязательно буду счастливой», — подумала она тогда.
***
А потом он приезжал много раз, и она даже не помнила, как долго это длилось. Почти до того момента, наверное, как внезапно появился Курляндский. Курляндский появился быстро и основательно, предстал перед ней во весь свой статный рост, и, как казалось, с этим совершенно ничего нельзя было поделать. Курляндский был иногда несчастный и брошенный, очень усталый, откровенный, а иногда – очень земной. Это поражало ее больше всего. Курляндский хорошо знал, что живет на Земле, а не на Марсе, или Венере, и это прельщало ее невероятным образом, так как каждому было ясно, насколько он – ее полная противоположность. Он даже и не говорил ей ничего, просто стало сразу ясно, что все свое время она будет с радостью отдавать только ему. Иначе не получалось. Время, мысли, идеи. Все концентрировалось исключительно на нем, каждодневно и ежеминутно.
Был опять Лондон. Был даже Оксфорд. Они вместе гуляли, отбрасывая тени на старых двориках, раскрывших свои двери колледжей. Что-то вспоминали. Курляндский много и долго рассказывал. И также долго молчал. Молчал он особенно хорошо, и она уважала его за это еще больше. Говорящий мужчина, рассказывающий о своей жизни, заслугах, и окружающих, вызывал в ней не просто удивление, а явный и тотальный ужас. Курляндский был совершенно противоположен говорун, хвастунам и романтикам. О том, что станет потом их общим прошлым он тоже умалчивал. Его мысли приходилось читать по его лицу, которое их никогда не выражало. У нее всегда было хорошее воображение, а Честера она с тех пор так и не видела.

***
Спустя много лет Настя сидела за столом в квартире Курляндского, старой профессорской квартире на Островах, что в самом центре Петербурга, а он разливал красное вино и раскладывал наспех приготовленный, ароматный, тщательно продуманный, салат.
— Так и ушла? – спросила, наконец, Настя, еще не собравшись с мыслями.
Курляндский молчал, быстро раскладывая все тот же нескончаемый салат из хрустальной вазы в свою и ее тарелку, как будто приготовил его на всю оставшуюся жизнь, а она все всматривалась в его красивую шевелюру, зачесанную назад, фиксировала внутренним чутьем неловкие движения его огромных рук, затянутых в красивую, голубоватую с отливом рубашку.
— Так и ушла? — спросила снова Настя, на минуту подумав, что спрашивала вовсе не о его подруге, а о себе.
Долго приступали к главной теме разговора. Потом приступили.
Говорили о Наташе. Ушла. Правды не говорила. Года четыре не говорила.
Настя уже почти что сквозь сон чувствовала, как он весь внутренне сжимается, злится, обижается. Даже рассказывать не может, так обижается. Ей тоже было очень обидно за него. Столько лет с Наташей, все эти совместные Новые Годы, дни рождения. Даты. Слайды. Поездки на залив и на кладбище. Снова залив. Старый деревянный дом. И снова как будто бы остановленное время, когда легкое вино, за окном летний дождь сквозь скрипучие рамы, если попытаться открыть. А там – запах сирени, и черная пустота. И снова бесконечные разговоры обо всем и сразу. И снова – так много сирени.
Знакомые все уже давно были общие. Общие знакомые, общие проблемы. В первом поколении, во втором. Жизнь, которая начинается, жизнь, которая течет себе, а потом — раз, и проходит. А теперь ее, этой Наташи, совсем другой, не такой, как они, просто не было и все. И не было жизни. Привычной, или нет. Полетело все. Полетело – в тартарары. Он ходил по квартире и неспешно показывал Насте все те бесконечные покупки, которые Наташа успела сделать за это время. Туфли в цветочках. В огромных количествах. Шубы – в количествах. Сумочки. Как этого всего было много в этой старой квартире, и как от этого было теперь нестерпимо тяжело.
Новый приятель Наташи был почему-то непривлекательный и старый. Настя глазам своим не верила, что подруга Курляндского, почти жена, могла так запросто свернуться головой. Новый ее приятель, похоже, обитал в России последние лет десять. То ли француз, то ли – американец.
«Ты не понимаешь, это не измена», — говорил Курляндский, вдумчиво глядя в окно, как будто бы вновь и вновь пытался понять. – «Он ей – интересен! Это ведь еще хуже, чем если просто «ушла», да»?
Настя не знала, что было хуже. Что здесь вообще можно было знать.
— А у тебя? У тебя, как? – наконец, спросил Курляндский.
— А у меня… — Настя запнулась, и снова тогда внимательно посмотрела на него.
«У меня все очень хорошо», — подумала она.
Она вновь и вновь рассказывала ему что-то. Про проекты, про работу, про семью. Он снова не слушал ее, а только все твердил про Наташу, которая так запросто вдруг – раз, и – ушла.
«Может быть, вернется?» — спросила Настя уже под самый конец разговора. Спросила как-то неожиданно оптимистично, даже для самой себя.
Он не ответил.
Когда она вышла на улицу из квартиры Курляндского, то сразу набрала его номер. Хотела позвонить, словно заново проверить, видела ли его только что. Хотела запомнить его голос. Доли минуты думала, зачем звонит. Но вдруг, почти интуитивно испугалась, как он, где он, там ли еще. Вот и предлог нашелся. Так она и начала бояться за него. Он тогда снял трубку, и сказал, что скоро приедет к ней, и они расстаются всего на несколько дней.
«Можно и подождать», — подумала Настя.
***
Всю ночь она не могла уснуть. Не могла она уснуть, и все тут. Сказать как-то даже неудобно совсем было. Нельзя же говорить, что кино важнее жизни, а сны их главная составляющая. Смотрела когда-то один фильм неплохой, давно. Очень давно. В Геленджике еще. Кинотеатр был под открытым небом. Деревянные скамейки, почти как в шекспировском театре. Лето жаркое. А фильм – как мечта какая-то несбыточная. Легкий, мягкий.
«Ты, знаешь, Курляндский» …
Она снова и снова обращалась к нему мысленно.
«Ты, знаешь» …
Он знал, в общем-то — все, и очень хорошо. Такое у него было свойство у этого человека. Нет, не прозрачный. Он был весь наполненный красками и мазями. Содержанием. Он был весь в красках. Так ей казалось. Совсем не такой, как был только что на кухне в своей профессорской квартире. Другой. Волшебный. Стоило с ним расстаться на несколько часов, или дней, он таким и становился потом, преображался. Сколько красок, разных, сильно пахнущих, одеколоном, конечно, и этим резким запахом настоящей краски, которую можно купить в простом магазине для декораций квартиры. Когда она видела его, то тонула просто. Снова и снова тонула в нем. Он был как будто бы из другого тела, совершенно какого-то другого. Живого, но одновременно и магнитного какого-то. Мускульного. Мускулистого. И все в нем было как будто бы продуманным. Как будто бы специально придуманным. Она раньше даже не знала, что тело может быть до такой степени продуманным. Теплым, эластичным. Живым. Как у простого, обыкновенного человека, но все равно другим. Не человеческим все-таки. И менялось оно, от одной мысли даже менялось. Как море во сне, в котором каучуковые водоросли. Как сказка, которая снится, а потом просыпаешься, и все равно – здесь. Такое странно-знакомое, такое удивительно – давнее и близкое ощущение.
Иногда ей хотелось громко закричать, даже требовать чего-то. Она злилась на него ужасно. Ее эта любовь пресловутая, вновь проснувшаяся, вдруг начинала страшно трансформироваться в ней же самой, становилась каким-то демоно-образным кобристым существом внутри. Да, как кобра внутри, такая ехидная и ужасная. Что-то, что очень хотелось отторгнуть и унять. Ужасное это было чувство нетерпения.
Вспомнила белый город. Вот тогда только с Курляндским познакомилась, и сразу поехала в этот город. Нет, у нее не было еврейской крови, ну, почти не было. А город у нее все-таки был. Старые улочки. Странные, углубленные перегибы. Древний город. Стена, за которой Бог… Именно там ей тогда сказали, на одной из экскурсий, что от мозга до сердца – тридцать сантиметров. Самый трудный путь прохождения. В городе этом она встретила девочку одну – русскую, которая там, в этом городе, давно жила, и давно – болела. Вместе по городу и гуляли. Девочка эта была — одно лицо с ее подругой, с которой, вот, когда-то, очень давно, вместе ездили на выставку в Лондон и общались с одним ирландцем, который от их общества просто преображался весь, как будто бы волшебное кольцо из старинной ирландской саги надевал. Даже и на работу уже не шел, как требовали правила международных выставок, а только в паб, пить ирландский виски.
Последний раз в белом городе было очень тепло и хорошо. Жарко. Там весь город – наверху, вы долго идете по мощенным веками узким улочкам. Мечеть далеко, где тот камень, на котором Авраам хотел голову Исааку, отрезать. И оттуда же, с этого камня Мухаммед так здорово летал на небо, чтобы спросить, сколько раз надо молиться. Город белый, как на тех фотографиях, которые она Курляндскому всегда посылала. Вот там, недалеко, под жгучим солнцем, — магазинчики, маленькие восточные лавки, с приторным запахом и золотыми старинными монетами, которые в этом городе нашли. Там, собственно, и сказал Пророк … «Что Вы делаете в доме Отца моего?» Тем сказал, кто там торговал, да и тем, кто просто книжки читал, о правилах. Там же, чуть дальше, вход в пещеру. А перед входом – то место, где… Да, то место, где… Там теперь — плита. На плите можно освятить любой предмет. Когда-то рассказывали киношники одну историю Насте … Когда-то рассказывали, что камеры в этом храме во время службы — потухли, выключились. Все четыре камеры погасли. Потому ли, что энергетика особая, или по другой причине. Пророк шел по этому городу белому очень давно, но, видимо, каждый раз идет с вами, когда вы туда сами направляетесь. Все дальше и дальше идет. Впереди был храм белый. Его, по-моему, арабы открывают каждое утро. Земля, где Храм стоит, кому-то принадлежит из богатой и знатной семьи. А нашла этот Храм когда-то давно, открыла и обновила супруга Константина. Она, собственно, все и возродила.

***
Над Настиным столом в квартире на Ланском шоссе в Петербурге теперь было много фотографий и рисунков. Самое главное – рисунки Саши и Курляндского. Разноцветные, с таким вкусом и умением сделанные.
А на стене в столовой у нее дома висела еще одна, очень большая картина. На этой картине была нарисована огромная бабочка. Дело в том, что Насте эту картину подарил Курляндский. Он сам ее и нарисовал. В какой-то момент, уже после их знакомства, он вдруг работу свою оставил. В одночасье оставил, как будто бы у него произошло что-то очень важное в жизни. И вот, поскольку у него образовалось много свободного времени, он начал ходить к Насте в ее Институт, на Невском проспекте, ждать ее, разговаривать с ней, общаться, а параллельно он, ничего ей не говоря, начал искать для себя еще более хорошую работу, чем у него была раньше, и – рисовать. Так и шло время. А потом он взял и подарил Насте картину под Новый Год. Совершенно неожиданно. Оказалось, что не просто картину он ей подарил, а картину, где были нарисованы шахматы и огромная бабочка, во всех деталях, с мельчайшими подробностями крыльев, изгибов, как будто бы видел Курляндский ее не обычным взглядом, а под микроскопом, совершенно особым виденьем. Так он сам ей и сказал. Сказал, что он не дарит копии, а только оригиналы. Настя тогда эту картину везла в маршрутке на дачу, чуть молоко на нее не пролила, от радости, и даже ужаса, странного трепета, удивления. Бабочка на картине была очень большая и красивая, рельефно выполненная. Все детали подписаны и выписаны, разными оттенками туши проработаны, и крылья обозначены, словно продуманы или придуманы им, сконструированы. Можно не только носить, но и – надевать. Сarried and worn.
***
Настя снова мысленно возвращалась к тому времени, когда была последний раз в белом городе. Ей всегда хотелось там быть. Там ведь такая энергетика, бешенная совершенно. Когда Настя, пройдя вдоль стены, выходила в тот раз из старого города, на выходе кто-то, (ей показалось, что раввин, потому что он, как пророк, был в длинном одеянии) остановил ее. Наклонил ей голову, как будто бы благословил, и стал что-то шептать на ухо, как молитву. Потом спросил про мужа, то есть — замужем ли она. И стал ей снова что-то тихо-тихо говорить, как будто бы имел на это право. Попросил немного денег потом. Она отдала, сколько было. Было немного.
А потом? Что было потом? Потом все наладилось и преобразовалось в ее жизни. Все встало на свои места после этой самой поездки и встречи с Курляндским. В пустынях иногда совсем нет песка, или его очень-очень мало, только трава редкая и сухая.
А Курляндский? А Курляндский подарил ей крылья.




























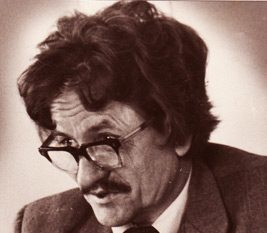






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ