Владимир Аветисян. «Портрет Сталина»
27.04.2012
/
Редакция
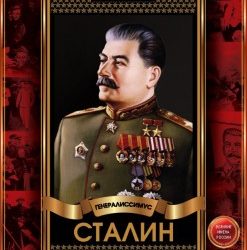
В конце марта на прилавках московских магазинов появились школьные тетради с парадным портретом Сталина в золотой рамке и при всех орденах. Представители издательства, выпустившего тетради в новой серии «Великие имена России», посчитали, что личность Сталина нельзя вычёркивать из истории. При этом на обложке, помимо его изображения, помещена историческая справка. «Для одних он — исчадие ада и чуть ли не сам Сатана, для других — величайший вождь всех времён. Всего за годы правления Сталина было расстреляно более 640000 человек, 2400000 было отправлено в лагеря, 765000 было выслано. Однако в эти же годы проводились в жизнь — правда, опять суровевшими методами — две программы, которые позволили преодолеть вековую отсталость России — коллективизация и индустриализация. Страна получила мощную промышленность, промышленность произвела современное вооружение, вооружение сделало армию СССР одной из сильнейших в мире».
Общество реагировало на это «нововведение» довольно неоднозначно. К примеру, Сергей Волков, член Общественной палаты и главный редактор издания «Литература», заявил, что «если появляется изображение этого человека, то, на мой взгляд, это сродни изображению свастики Гитлера»! А председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов добавил, что портретам политиков в принципе не место на школьных принадлежностях, — «есть фигуры, не вызывающие политических споров — это наши писатели, композиторы, ученые — их портреты не вызовут конфликтов. Думаю, портрет Пушкина на обложке никому не помешает». Как всегда резко отозвался на эту тему член Общественной палаты, телеведущий Николай Сванидзе: «По моему мнению, продавать школьные тетради в роскошном издании со Сталиным на обложке — это морально-нравственный разврат, — сказал он. – Есть законы зрительного восприятия, когда ребенок видит эту роскошную обложку с красивым и усатым Сталиным, то он уже для него герой. В чисто воспитательном плане — это просто полный разврат».
В связи с означенной темой, а также близостью великого праздника — Дня Победы, мы решили познакомить читателя с очередной главой из биографической повести-лексикона «Гнездовье Жар-птицы» нашего постоянного автора Владимира Аветисяна. В №1 журнала «Клаузура» за текущий год читатель уже имел возможность ознакомиться с одной из глав этой книги — «Сарьян и хохлома». На этот раз в живых и ярких воспоминаниях замечательного народного мастера, патриарха хохломской росписи Фёдора Андреевича Бедина предстаёт сложная и противоречивая личность Сталина. Глава так и называется: «Портрет Сталина».
__________________________________________________________________________________________
ПОРТРЕТ СТАЛИНА висел у меня в доме: обычный, парадный образ вождя из довоенного номера журнала «Огонёк». Не то, чтобы я уж очень боготворил его, — просто это было связано напрямую с моей профессией: я должен был хорошенько изучить и запомнить это лицо до самой последней чёрточки, так как мне приходилось выводить его на пресловутых юбилейных вазах с хохломской росписью. Скажу честно: я ужас как боялся юбилеев партийных вождей, и особенно юбилеев Сталина. Чуть ли не обязательной была традиция, когда все народные промыслы готовили к юбилею вождя особые подарки. Лично я не пропустил ни одной пятилетки в деле выполнения «ответственного задания партии и правительства» — расписывал большую хохломскую вазу или панно с живописным портретом Сталина, традиционно утопающим в золотых цветах и узорах. И каждый раз после завершения дела я умирал от страха: что если вождя вдруг не устроит какая-нибудь деталь, мелочь?! Всё! Пиши пропало! Был у меня один знакомый старый коллекционер Арся Левинзон, который с ужасом рассказывал о вероломном сталинском характере. Сталин, зная, что Рузвельт – страстный филателист, решил сделать ему подарок: посадил самых известных филателистов и изъял их коллекции…
Для меня было утешением, хотя и очень слабым, что я изначально застрахован решениями худсоветов: если они что-то принимали и пропускали, то и ответственность делилась на всех. Но в том-то и дело, что легче было верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем худсоветы пропустили бы сомнительное, с их точки зрения, художественное произведение!
У нас, в Горьковском областном худсовете сидела отдельная группа «экспертов», которая отметала с ходу любую вещь! Все мои юбилейные вазы с портретами Сталина, а также других видных деятелей партии и государства, с первого раза не проходили никогда! Если с портретами Будённого, Ворошилова, Калинина и других у меня особых проблем на худсоветах не возникало, то с портретами Сталина была просто беда! Члены худсовета придирались ко всему: то усы у вождя не такие, то одна бровь выше другой, то глаза не живые…Словом, тушите свет! Особенно изощрялась в наставлениях одна чопорная дама в очках, кандидат искусствоведения со сладкой фамилией Виноградова:
— Вы должны иметь в виду, что товарищ Сталин по национальности грузин, и у него красивые и суровые горские черты, умный отеческий взгляд, выражающий мудрость и знание жизни. Сама я, к сожалению, никогда не видела живого Сталина, но то, что на вашем портрете далеко не грузин, это видно сразу…
Тут принялись выяснять, а кто же видел живого Сталина, каков он на самом деле? Но из дюжины «критиков» не нашлось, ни одного, кто хотя бы мельком или издалека был бы осчастливлен лицезрением живого вождя! Это обстоятельство придало мне смелости, и я уже потребовал чётких аргументов:
— Скажите, чем именно портрет нехорош на этой вазе, и я исправлю!
— Портрет будет хорош только в том случае, если вы сумеете нарисовать совершенно того человека, которого хотели нарисовать, — многозначительно заметил председатель худсовета, сравнительно молодой ещё художник-портретист Александр Иванович Соколов. Остальные подхватили эту мысль, передавая её как эстафету из рук в руки:
— Вы должны были отразить существеннейшие черты товарища Сталина и не приписывать черт ему не присущих!
— Схватите душу, она у вас не схвачена!..
Воцарилась пауза. Как будто мне хотели дать возможность хорошенько «пережевать» услышанное и «проглотить», чтобы затем предложить очередную порцию наставлений. Все наверняка понимали, что в случае со Сталиным внешний облик и внутренняя сущность настолько оторваны друг от друга, настолько всё переврано лестью и желанием угодить вождю, — ведь мы, не зная «оригинала», воспринимали облик вождя по его лакировочным портретам, сделанным «художниками-угодниками»! — что соединить несоединимое в принципе казалось попросту нереальным делом!
Тогда председатель худсовета Соколов, понимая, что в итоге всё равно я останусь один на один со своей проблемой, решил меня поддержать:
— Нет, портрет очень схож: мы ведь сразу узнаём, чей это портрет, не так ли, товарищи?!
— Да уж, не спутаем…
— Но, товарищи, согласитесь: он будто и похож на свой оригинал, и в то же время не похож на него…
— Внешность Сталина так обманчива… — деланно посетовал кто-то.
— Увы, товарищи: нет «обманчивой внешности», а есть лишь неопытный глаз! – как обрезала кандидат искусствоведения…
И это заключение подытожило разговор. Прекрасно исполненную вазу отклонили по причине слабого внешнего (поверхностного) сходства портрета вождя с «оригиналом».
Я привёз вазу обратно домой, переписал портрет заново – добился «определённого сходства»…Приехал на худсовет через неделю, но снова повторилась та же история!.. Если сначала меня ругали за поверхностный подход – не изобразил, мол, некоторые существенные черты «оригинала», — то на этот раз отругали за то, что слишком увлёкся изображением подробностей внешности товарища Сталина!..
Короче говоря, эту злополучную вазу с портретом вождя пропустили только с пятого или шестого захода!
Я потом долго размышлял над природой портретного сходства. Чехову как-то показали одно его изображение. Он долго его разглядывал, а затем глубокомысленно заметил:
— Что-то есть в нём не моё, и нет чего-то моего…
И в этом писатель справедливо усматривал тягчайший грех портретиста.
Известно, что когда Веласкес окончил свой знаменитый портрет папы Иннокентия Х, тот удивлённо воскликнул: «О Боже! Слишком правдиво!»
Где же та мера, та золотая середина? Я понимаю, что для достижения сходства достаточно раскрыть лишь некоторые черты оригинала, но зато существенные, главные, определяющие. Однако, что же может быть главным во внешности Сталина, именно существенным и определяющим? Может, усы?.. Как у Семёна Будённого! Ведь достаточно извлечь у оригинала эту доминирующую деталь на лице, и внешнее сходство достигнуто! Только этого крайне мало: надо что-то и домыслить, найти, выразить…Что-то затаённое, что не видно глазу, но подспудно присутствует в облике…Правда, здесь не должно быть, ни существенных упущений, ни каких-то выдуманных черт, которые оригиналу не свойственны.
Много крови, нервов и драгоценного времени потерял я на этих худсоветах из-за баталий вокруг портрета вождя. Хотя кое-какие уроки я всё же получил.
Во-первых, стало ясно одно: главным достоинством портрета – уж как ты не крути — всегда является его сходство с оригиналом. Беда в том, что мне в жизни так и не повезло увидеть вождя живьём, чтобы составить о нём хотя бы какое-нибудь собственное представление! Ведь мне же надо было передать индивидуальность не просто вымышленного, а реального и очень узнаваемого лица…
Другой урок: излишнее сходство есть льстивое заигрывание с обывателем, а несходство – обман…Как поступить? Мне предлагали скорее первое – заигрывать, польстить, « улучшить оригинал», — отыскать в чертах вождя некую красоту и идеальность! Словом, сделать так, чтобы Сталин не выглядел деспотом, — жестоким, подозрительным и грозным диктатором! Зачем проникать в мрачные недра этого больного и самовластного человека? Не лучше ли просто польстить ему, придать невидимый нимб «святости» и благородного «сияния»! Вождь должен быть и похож на себя и в то же время явно идеализирован – в образе «корифея всех наук», «лучшего друга детей и физкультурников», «величайшего полководца всех времён и народов»!..
Боже мой, Господь Вседержитель! В силах ли ты сам объединить в одном образе столь противоречивые и полярные черты?!
Я вспомнил, каким Репин изобразил портрет Мусоргского: немощное, истерзанное алкогольной болезнью лицо, растрёпанные неухоженные волосы!.. А ведь художник мог и «польстить» композитору, которого нежно любил. Но выиграл бы от этого портрет? Вряд ли. Критик В.В. Стасов был буквально поражён портретом: «…сходство черт лица и выражения поразительны. Из всех, знавших Мусоргского, не было никого, кто не остался бы в восторге от этого портрета – так он похож! Так он верно и просто передаёт всю натуру, весь характер, весь внешний облик Мусоргского» — это из его статьи «Портрет Мусоргского».
И самый важный урок, который я вынес из баталий на худсоветах: даже зеркало не так верно показывает образ человека, – ведь мы подходим к нему в разное время, в разном настроении, с разным выражением лица…
В портрете нужно найти то, что выражает подлинную сущность человека, присущую только ему, как единственному представителю данной исторической эпохи, то есть создать типический образ, обобщить в самом широком смысле, придать некую монументальность. Это должен быть портрет-характеристика, портрет-биография. Однако, и то, и другое должно быть в самом органичном, нерасторжимом единстве.
Словом, говорить можно долго, но сделать всегда трудно! Видимо, секрет мастерства находится между сходством и несходством. Нужно только чувство меры, ощущение того, как говорят математики, «необходимого и достаточного», которое равно убережёт художника и от свершения обмана, и от льстивого заигрывания с обывателем…
… Да, в доме у меня висел портрет Сталина, и это было обычным в те времена явлением. Правда, после смерти Сталина я убрал портрет и спрятал подальше, чтобы больше не возвращаться к этим чертам, не переживать снова и снова эти тягостные верноподданнические муки души…
Константин Симонов через две недели после смерти Сталина призвал увековечить «образ величайшего гения всех времён и народов»… Мне рассказывали, что в своё время этот писатель не вешал у себя в кабинете портрет вождя, тогда как это делала вся страна. А вот после его смерти — повесил. И сделал это, по его признанию, из гонора, в пику большинству, объясняя примерно так: «Вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит». Что ж, думаю, если это делается в пику большинству, из дворянско-интеллигентского гонора, то ради Бога! В конце концов, это всего лишь портрет! Пусть!
Тем не менее, каждый раз, вольно или невольно глядя на этот портрет, я поминаю, что Сталин для меня вовсе не тот чисто художественный герой, далёкий и неведомый, а реальность – грозная, безмерно опасная и (в силу партийного и идеологического воспитания моего) – притягательная. Почти три десятилетия своей жизни, то есть самые сознательные и зрелые годы, я прожил при власти Сталина – припомним, при абсолютной власти…
Потом он умер. Мы переживали это как большое всенародное горе. Его тело внесли в Мавзолей, нарушив одинокий покой другого абсолюта – Ленина. Потом случилось так, что Сталина принялись разоблачать: со скандалом вынесли из Мавзолея, свергали и проклинали (посмертно!). Прошло ещё какое-то время, и имя вождя, как фотографическое изображение при проявке, снова стало проявляться из небытия, и слово «сталинизм» обернулось новой, леденящей душу реальностью, с неправдоподобной скоростью меняя знаки минус на плюс и обратно…
Если бы кто знал, как трудно человеку разочаровываться в том, во что он свято верил! Почти невозможно очистить ум свой и мысли от навеянных годами старой пропагандой грёз. А что, думаю, уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются: Сталин теперь не страшен, всё осталось в прошлом, — так что я могу теперь насмешничать, не бояться, рассказывать крамольные анекдоты, за которые прежде можно было оказаться на Колыме-реке!.. Но и тут вдруг ловлю себя на том, что невольно оглядываюсь по сторонам – не услышал ли кто, не настучит ли на меня куда следует?!
Во, как пропазал христианскую душу закоренелый страх! Даже сейчас, когда уж столько лет прошло, во мне всё ещё копошится этот дурной сон; хочу заставить себя очнуться, да никак не получается! Словно проспавшийся пьяница, одурело осматриваюсь: борода и усы в блевотине, сам растекаюсь в словесном балаболе…
Да, он был реальностью – этот подозрительный, мстительный, беспощадный вождь и «отец народов»!.. Подозрительность – профессиональная болезнь диктаторов. От обилия заседаний – геморрой, от избытка власти – паранойя. Когда профессор Бехтерев поставил Сталину этот диагноз, вождь обиделся. Гнев может и пройти, обида – никогда. Все эти годы меня преследует одно и то же кошмарное видение, в котором я, простой кустарь-маляр из заволжской глубинки, невольно обидел самого товарища Сталина!..
А дело было так. В одном из помещений Кремля выставили всесоюзные подарки к юбилею вождя. Всевозможные изделия талантливых мастеров из народа выстроились пёстрыми рядами, как товары на ярмарке, — но только для одного «покупателя» — Сталина!
Важно и неторопливо, как и всё, что он делал, вождь прохаживается по «рядам», любуясь причудливыми дарами. Возле одних останавливается, одобрительно кивает головой; возле других выписывает круги, — то приближаясь, то отдаляясь, — и снисходительно улыбается в рыжий ус. За вождём на цыпочках шаркает «свита», жадно ловя каждый его взгляд: достаточно одного недовольного движения бровей, чтобы автор «паршивого» дара загремел на Колыму! Вдруг Сталин останавливается и застывает … перед моей вазой: стройное токарное чудо классической формы высотой более двух метров, пылающее киноварными ягодами и золотыми травами, а среди них красуется его живописный поясной портрет!..
Каждый раз при мысли об этом мгновении меня пробирает подлая дрожь, хотя я ни в чём себя не могу упрекнуть: в роспись вазы я вложил всю свою душу, старание и умение! Но едва представлю себе эту картину, воображение поднимает в высь мою безмолвную жалкую тень и опускает на паркетный пол кремлёвского помещения, рядом с товарищем Сталиным… Конечно, он меня не замечает; делает шаг назад, оглядывает вазу снизу вверх, затем, прищурив глаз, пристально рассматривает свой портрет в узорах… «Свита» замирает в ожидании. Внезапно вождь прижимается виском к вазе и ребром ладони отмеривает свой рост относительно её высоты… Ваза, конечно же, оказывается выше его роста почти на полметра! Не отрывая ребро ладони от изделия, Сталин останавливает на Берии свой многозначительный рысий взгляд…
Учитывая нездоровую подозрительность вождя и то, как откликается его внутренний мир на самые, казалось бы, безобидные вещи, я вдруг с ужасом замечаю гнев на его изменившемся лице, и сердце моё стремительно ныряет в пятки, чтобы разбиться на тысячу осколков…
— Это харашо, если кто-то может насмешничать над ростом вождя, — говорит он с металлом в голосе, по-южному растягивая слова. – Значит, Советская власть даёт возможность людям почувствовать свободу от власти и не бояться её…
Именно так он сказал: «… если кто-то может насмешничать над ростом вождя…» Мол, я-то лев, царь зверей, а этот «кто-то» — грязный воробей из-под худой застрехи…смеет насмешничать?!
Шутка или угроза? Юмор или пророчество? Ведь Сталин мог шутить так, что люди потом, даже спустя долгое время после его смерти, повторяли с ужасом (и с восторгом!) его жестокие шуточки. Приведу в пример одну историю, о которой я услышал после войны. Первые дни немецкого наступления. В приёмной у Сталина толпятся генералы. Проходя мимо, ни на кого не глядя, Сталин, кивая на одного из них, говорит:
— Расстрелять!..
Но никто этого генерала не хватает и не уводит. Примирившись с приговором, бедняга едет домой – проститься с близкими. В доме у него плач и стенания: все ждут, что вот-вот подъедет «чёрный воронок»; но никто за ним так и не приезжает.
Проходит ночь, другая, у генерала инфаркт. Проходят месяцы, годы. У генерала второй инфаркт…
И вот закончилась война. Приём в Кремле в честь Победы.
Сталин увидел этого генерала, подходит к нему и говорит:
— Видите, мы даже в самые тяжёлые времена для нашей Родины находили время для шуток!
Над боевым генералом он просто так мог подшутить… А тут я — какая-то песчинка, моль! — посмел «насмешничать над ростом вождя»?! Как мне было оправдаться, как доказывать, что ничего такого я не имел в виду: сам ростом не выдался, и шутить на эту тему мне бы и в голову не пришло!.. Зато вождь понял по-своему, и сказал то, что сказал!..
А ведь в то время двести миллионов человек ждали его слова в любой час суток, его реакции, его приказа. Отчизна была воплощена в образе вождя и «отца народов». Люди с тревогой и страхом приглядывались к каждому его поступку: если вождь хмурится, то от избытка бдительности, от невероятной проницательности, позволяющей за каждым углом узреть крамолу, в каждых глазах – мутный осадок предательства, в каждом слове или жесте – злой умысел. Большинство простых советских людей были научены думать, что такая же крамола таращится из каждой тёмной щели на Сталина: он один — рыцарь без страха и упрёка, и лишь на его плечах держится родина и порядок, а все другие так и норовят погубить страну, предать, разрушить!.. А потому всех без разбору надо уничтожать. Не много ли на себя берёт этот жалкий хохломский кустарь, который осмелился на «оскорбительный» намёк в отношении физического роста вождя… Взбеситься можно! Ну, как не сжить со света таких неблагодарных «данайцев», свои фальшивые и коварные дары приносящих?! Никому верить нельзя…
Думая так, мы помогали ему безжалостно уничтожать. Вчерашние друзья расстреляны как преступники, хотя они и были преданны вопреки всему, ибо он казался им воплощением великой идеи; врачей судили как убийц, готовящих покушение на вождя; творческую интеллигенцию ссылали или убивали как ядовитых гадюк; простой народ – как охальников, пьяниц и воров; даже собственная охрана под подозрением – только и ждёт, чтобы всадить пулю в спину… Все виновны! Пытай, ссылай без пощады, расстреливай без суда и следствия – только так убережёшь страну!
Хищно блеснули круглые стёкла в пенсне Лаврентия Берии, — мол, разберёмся, товарищ Сталин, — виновные кровью своей умоются!.. А все, кто стояли рядом, только глазами моргали – то ли от удивления, то ли из страха за судьбу того неведомого кустаря-умельца, который имел неосторожность изготовить вазу такой непозволительной высоты…
Ох, брателко Бедин, суши сухари: ждёт тебя дальняя дорога да на речку Колыму!.. Таким образом, я на самом деле оказался в положении того незадачливого генерала, который всю войну ждал, что за ним приедет «чёрный воронок»…
После этой трагикомической истории я сделал ещё несколько юбилейных ваз для Сталина, других партийных и государственных деятелей. Но высотой уже не более одного метра! Хотя никакой гарантии, что и этот размер не может показаться «издевательским намёком» на чей-то низкий (или высокий!) рост!..
Случай со сталинской вазой обрастал анекдотами, шуточным вымыслом наших деревенских остряков. Они носились с такой частушкой:
Ой, калина-малина,
Ваза выше Сталина…
Бедин, выйди на порог, —
Прибыл «чёрный воронок»!
Где бы я ни появился, меня дружески похлопывали по плечу и непременно говорили: «Счастливчик ты, Фёдор Андреевич: над самим Сталиным сумел подшутить, и жив остался!»
Ох, брателки вы мои, а не рассказать ли вам, сколько я втайне пролил слёз над этими вазами – дак речка Ройминка столько не текла!.. Ну, пронесло вот, милостью Божией свету белого не лишился, и ладно.
… Сегодня, глядя на портрет Сталина, я вспоминаю своё оцепенение тех лет, пытаюсь как-то осмеять или оправдать свою покорность, а вместе с нею и объяснить — хотя бы даже самому себе! — страх тридцать седьмого года.
Тридцать седьмой год занимает особое место в моём сознании. Ведь именно этот год подвёл важную черту в моём профессиональном и творческом взлёте. В Третьяковской галерее были выставлены мои творческие работы, а Москва впервые увидела всё разнообразие и великолепие живой хохломской росписи! Я помню летнюю Москву того года: повсюду шли новостройки; в городских парках играли духовые оркестры, люди пели, танцевали. Ни о каких репрессиях и разговоров не было. Долгое время я упорно отталкивал от себя память о жертвах Большого Террора, даже осуждал тех, кто испытывал неприязнь к этой дате, проявляя, как мне казалось, излишнюю чувствительность к истории и человеческим судьбам. Я уверенно полагал, что именно этот год был ознаменован великими свершениями и трудовыми подвигами советского народа, торжеством самой демократической в мире советской Конституции…
Но вот началась реабилитация жертв репрессий, и я нашёл в списках людей, приговорённых к «высшей мере» в 1937 году, имена знакомых, и даже имя своего двоюродного брата, многое для меня открылось в новом свете. Я стал понимать весь ужас этих нелепых приказов, не вяжущихся со здравым смыслом, — всю мерзость этой загадочной и необъяснимой логики арестов и расстрелов по каждому региону.
Тридцать Седьмой предстал перед моим мысленным взором мистической русской рулеткой, которая для истукана Власти была как бы своего рода развлечением, «игрой», а для народа – непредсказуемым «красным колесом», которое вращалось со страшной силой, давя и уничтожая всё, что попадалось на его пути. Непостижимость происходящего наводила особенный ужас, порождая у миллионов людей неуверенность в собственной судьбе. Лишь потому, что я каким-то чудом не попал под это «колесо», а больше потому, что я пребывал в неведении – как, впрочем, и большинство населения страны, — я не мог и представить себе истинный масштаб репрессий, охвативших все регионы и все без исключения слои общества.
Страшная правда всплывала исподволь, с истечением десятилетий. Мы узнали, что в период 1937-1938 гг. по политическим обвинениям было арестовано более 1,7 миллиона человек. А вместе с жертвами депортаций и осуждёнными «социально вредными элементами» число репрессированных переваливает за два миллиона. Более 700 тысяч арестованных были казнены. Расправлялись с людьми, имена которых зачастую были известны всей стране – именно о них в первую очередь сообщали наши газеты. Причём, в честности и преданности этих людей не было причин сомневаться. Мы просто недоумевали: верить или не верить?! Да что же это?! Как же так?! Плановые аресты и расстрелы увеличивали панику и усугубляли массовый психоз. Впоследствии оказалось, что подавляющее большинство арестованных и расстрелянных на самом деле были простыми советскими гражданами, беспартийными и ни к каким «группировкам» не принадлежащими…
Как же формировалась индивидуальная «вина»? Я встречался со знакомыми художниками, которые в 53-ем вернулись из лагерей, спрашивал, как всё это было… НКВД сначала искало связи – служебные, родственные, дружеские – с людьми, арестованными ранее. И тут же предъявлялись фантастические обвинения в «контрреволюционных заговорах», «шпионаже», «подготовке к террористическим актам», «диверсиях» и прочее. А как же доказательства? Судебная процедура? Защита?.. Увы! Чрезвычайный и закрытый характер судопроизводства обеспечивал тайну отправления «правосудия»: заседала «чрезвычайная тройка»: следователь, обвинитель, судья и палач, объединённые в рамках одного ведомства, как в средневековой инквизиции. Главным доказательством, как и во времена инквизиции, стало ритуальное «признание своей вины» самим подследственным, который под пытками оговаривал сам себя. Летом 1937 года пытки были официально санкционированы и рекомендованы как метод ведения следствия.
Многие годы существовала непроницаемая секретность вокруг расстрельных полигонов и мест захоронения казнённых. Систематическая, многолетняя официальная ложь о судьбах расстрелянных давала искажённую картину: сначала – о мифических «лагерях без права переписки», затем – о кончине, наступившей будто бы от болезни, с указанием фальшивых даты и места смерти.
Всю жизнь меня мучает совесть: как будто меня самого измазали этим дерьмом с ног до головы, повязали круговой порукой до самой могилы, и мне светит теперь лишь одна прямая дорога – в ад!.. Ведь в то время, когда вокруг разворачивалась вакханалия террора, людей арестовывали и расстреливали, я вёл себя так, будто это меня вовсе не касается, и своим ремеслом восхвалял Сталина и всё сталинское руководство. И даже тогда, когда проходили собрания, я вместе с другими (вольно или невольно – это не суть важно!) аплодировал публичной лжи о разоблачённых и обезвреженных «врагах народа». И даже потом, когда нужно было проявить сочувствие или участие к семьям репрессированных, я не мог выжать из себя ни капли жалости к детям, которых вынудили отречься от арестованных родителей.
В нашей глухой деревне, где ни сном, ни духом не ведали о «диверсиях», «шпионаже» и «заговорах», нашлось четыре семьи, к которым была применена зловещая аббревиатура «ЧСИР» — «член семьи изменника Родины». Четырех вдов среди бела дня увезли в специальные лагеря – их мужья (прямые потомки наших местных купцов и торговцев) были казнены за «попытку покушения на жизнь товарища Сталина». Мы всей деревней провожали этих вдов (потом выяснилось, что в спецлагеря были заключены свыше двадцати тысяч вдов). Бедных женщин вынудили прилюдно отречься от своих мужей; а перед тем, как сесть в «воронок», они слёзно умоляли нас не оставлять их деток без куска хлеба… Но услышали в ответ лишь тупое молчание, которое не внушало им надежду…
До сих пор не могу себе простить, что в тот миг у меня не нашлось для этих несчастных ни одного слова утешения, хотя я очень хорошо знал их мужей, мастеровых и работящих людей. Душа моя, казалась, была похожа на выжженную пустыню: в сознании смешались все правовые понятия, а ощущения ценности человеческой жизни и свободы были и вовсе потеряны перед истуканом Власти.
Нам всем тогда внушали, что мы находимся «во враждебном окружении», что внутри страны есть «пятая колонна», и мы должны быть всегда начеку. Лёгкость, с которой мы верили в эти идеологические шаблоны, развязывала руки властям. И они проводили депортацию целых народов, обвинив их в предательстве, объявляли «чистки» партийных рядов, спецоперации по «борьбе с космополитизмом», разбирательства по «делу врачей-убийц», и вели сопутствующие всему этому пропагандистские кампании. Что говорить, мы были заложниками пропагандистской машины, которая «вила» из нас верёвки…
По улочкам наших деревень и сёл бегали сироты Тридцать Седьмого… А по стране их было сотни тысяч. Излишне говорить, что у них украли детство, им изломали юность. Даже вернувшиеся с войны в орденах и медалях дети «врагов народа» встречались с неприятием и отчуждённостью своих односельчан… В людях сидела эта боязнь, податливость ко лжи, страх и малодушие, отсутствие привычки к свободному и независимому мышлению. Тридцать седьмой год разобщил нас, лишил чувства солидарности, а коллективизм подменил стадностью. Безудержный цинизм пропаганды сформировал в нашем сознании двоемыслие, ставшее следствием раздвоения реальности: границы между правдой и ложью, белым и чёрным, добром и злом оказались настолько размытыми, что народ превратился в «население», в толпу, которой было легко и просто управлять.
Я думаю, наследие «Тридцать Седьмого», если общество его не осмыслит и не преодолеет, легко может стать «скелетом в шкафу», проклятием нынешнего и будущих поколений, — будет прорываться наружу то государственной манией величия, то вспышками шпиономании, то культом очередного «вождя» и, следовательно, возвращением репрессивной политики. Время – собирать камни…
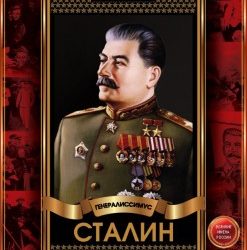
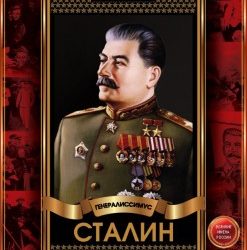
комментария 4
Pingback
29.06.2012http://klauzura.ru/2011/10/vladimir-avetisyan/
Pingback
30.04.2012http://perorusi.ru/blog/2012/04/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%83%d0%b7%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-5-11-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2012-%d0%b3%d0%be%d0%
Виталий Исупов
28.04.2012Сейчас нет воронков (массово),тем более расстрелов,но сидят больше чем при Сталине,страх присутствует ,подспудно он увеличивается-власть предержащие реально отняли веру в «завтрашний» день и при любом видимом или предполагаемом (прошедшие выборы)»несогласии» с ней,человека мнгновенно лишают работы,даже если это единственный источник для семьи и часто продолжают мстить мешая всяко разно получить другую работу…..чем не диктатура системы…
Pingback
27.04.2012http://klauzura.ru/2012/03/soderzhanie-vypusk-5-11-maj/