Нина Щербак. «Самолет на Осло». Рассказ
22.09.2017
/
Редакция

1.
«Ну, почему, так сразу, – «ничего не будет! Все у вас будет!» — элегантный мужчина в непривычной для себя суетливой манере тараторил что-то себе под нос, склонившись над ней, девушкой лет на двадцать-тридцать младше его, горько плачущей на скамейке в городском парке. «О, Господи!» – в который раз повторял он и снова пытался ее образумить, а она снова рыдала, с каждым приступом пригибаясь все ниже, куда-то к земле, как неокрепший цветок под ливневым дождем.
Вечерело. Потом стемнело. Сентябрьская петербургская ночь давала о себе знать ниоткуда явившимися на небе звездами и адским холодом, который пронизывал все насквозь, попеременно сжимая вены у самых запястий. Маша иногда думала, что так бывает только, когда кого-то очень любишь и никуда от этого не можешь деться, а человек этот совсем на тебя даже никак и не реагирует: именно тогда вены у запястий пульсируют со страшной силой, как будто бы просят «вскрыться».
Потом мужчина долго и терпеливо сидел чуть поодаль, на обочине, и смотрел в темноту. Он пытался, видимо, сообразить, что делать дальше. Так бы подумал любой проходящий мимо, ступающий по только начавшим падать красно-оранжевым шуршащим листьям, но только в парке давно никого не было. Девушка хотя и плакала очень горестно и в течение долгого времени, но как-то все же быстро поняла, что на самом деле мужчина был кем-то особым, странным или юродивым, а, может быть, просто писателем, художником или артистом, но посланным откуда-то сверху, то есть свыше. Шестым чувством поняла. А еще она поняла, что он, как только ее увидел, сразу принял решение ей помочь, но действовать по непонятной причине не решался. В общем, она сидела мирно на скамейке и тихо рыдала. А он тоже сидел рядом, чуть поодаль и ждал, когда она образумится, пока не рассвело.
В какой-то момент девушка вступила с ним в контакт, то есть начала бормотать что-то несуразное, а потом замолчала, спокойно легла на скамейку и уснула, как будто бы и, правда, успокоилась совсем, отошла от своей агонии странной, в мир грез райских. Как по взмаху невидимой волшебной палочки. Спала себе совсем тихо, приглаживая рукой его пиджак, заботливо подложенный под голову, изредка вздрагивая как усталый больной ребенок.
***
Когда проснулась, испугалась ужасно. Вскочила, встрепенулась вся, волосы белокурые поправлять неловко стала, отряхнула платье, снова на скамейку села, озираясь по сторонам, как нахохлившаяся птица. В голову вонзилось что-то адски железное, а в грудь отчаянно забилась совесть, дротиками бесполезными. Пахло осенью, листьями, талым льдом не по сезону, и чем-то терпким, запоминающимся.
— Кто вы? – она нервно передернулась, а он отметил про себя, что она была совершенно из другого мира, не того, о котором он сразу же подумал, когда увидел ее, мира жестокого, общепризнанного, хамского, а совсем, даже, наоборот, из излишне благополучного какого-то, не богемного, но и не обывательского.
— Мне нужно домой, — сказала она уверенно.
— Очень хорошо, идите … — произнес он нерешительно.
— Так, вот, спокойно это мне говорите? – к ней как будто бы впервые за эту ночь вернулся дар речи.
…Они шли по утреннему городу, пересекали парк, медленно обходя заросший темно-бардовыми кувшинками пруд. Она потихоньку вспоминала, что с ней произошло за последние пять лет, и что, собственно, произошло накануне. Об этом она и начала, а потом продолжила ему повествовать, совершенно для себя неожиданно.
— Ой, даже как-то неудобно мне, — она то убавляла, то прибавляла шаг, ступая медленно уже теперь по мокрому асфальту, как будто на ней были античные сандалии с золотыми ремешками, которые и придавали ее походке легкость, как будто перед полетом, — я вас так сильно напрягла, таким страшным образом!
— Да, нет, — он смотрел прямо перед собой, внимательно слушая каждое ее слово.
— Он уехал и ничего не сказал, видите ли, «насовсем» … – беспомощно продолжала девушка свою историю.
Михаил Львович, этот, вот, господин, респектабельного вида, молчал, продолжая ритмично двигаться вперед, изредка оборачиваясь на гулкие удары чего-то непонятного о железо. Он как будто бы остро и чутко ощущал эту запредельную странность жизни ночного города на стыке просыпающегося света и гаснущей тьмы. В самом начале восхода, когда ярко желтое солнце могло в любой момент вырваться из облаков и тихо поплыть меж деревьями по свинцово-молочному небу вверх, обещая никогда не падать обратно, в затененную преисподнюю грустного осеннего утра.
— Дом бы, дом бы тебе, — пробормотал он.
— Что-о-о? – Маша остановилась, с некоторым ужасом и интересом посмотрев на него, как будто бы он дал ей пощечину, или наоборот, сказал что-то приятное, а может быть, странное, неуместное.
— Поесть бы вам, — исправился он, а потом пошел дальше, печатая шаг за шагом по асфальту: глухие звуки отражались эхом, перемещаясь куда-то вдаль, по соседним улицам, ударяясь еле слышной волной о закрытые дворы-колодцы, замурованные внутри каменных серых зданий. «Померещилось, наверное». Она остановилась, чувствуя, что снова покачивается и идти дальше не может.
— Помогите! – зашептала она, села на стоящую все там же скамейку и снова зарыдала.
Спустя пять минут она поняла, что сделала по парку круг, и теперь, вот, снова вернулась на ту же скамейку, где они познакомились.

2.
Он трогательно ухаживал за ней в своей квартире всю неделю. Она спала сутками, почти не разговаривала, как будто не могла прийти в себя от какого-то страшного потрясения. Даже не спрашивал, где живет, или почему она «слабая» такая. Все правильно понимал, вернее, не вникал ни во что, как обычно делали другие люди, близкие, или малознакомые.
— Мешает тебя все, — на этот раз он даже не отвернулся, придвинул стул к столу и долго-долго сидел и смотрел прямо ей в глаза.
— Мне? — нога на ногу, успокоенная и счастливая, наконец, она с удовольствием допивала чай, уставившись, то на него, то куда-то вдаль, в окно, но уже не напряженно, а сосредоточенно, осознанно как-то.
— Вам.
— С чего вы взяли?
— А я знаю!
— Что вы знаете?! – Теперь она снова не могла найти себе места, попеременно трогала посуду, расставленную на столе, поправляла свою одежду. – Что вы вообще можете знать?!
— Знаю, что с вами происходит, — спокойно продолжал он.
— Что же?
— Путь свой не нашли, вот и маетесь.
— Это я-я-я-я не нашла? – она резко вскочила и бодро зашагала по кухне в сторону коридора, — Да, я …
А потом не она, а он разоткровенничался. Как будто бы сто лет ни о чем, ни о ком и ни с кем не говорил.
«Да была жена, но было это все в другой жизни, понимаете? А зачем рассказывать, если все прошло, душу травить? Интересно? Так сто лет это назад было. Смешная вы какая! Одна была очень хорошая, но замуж хотела, и детей. Я тогда дурной был, совсем мальчишка. Другая деньги любила. Я тогда был и счастлив, и несчастлив одновременно», — он, наконец, поставил на стол чашку и вновь уставился куда-то в окно, а потом снова на нее.
«Вы не понимаете, это все не жизнь. Не любовь. Как объяснить, что это все насмешки, реакция на боль, примитивное все? Как объяснить, что … » – он попытался жестикулировать, так разволновался.
— А что главное? – перебила, наконец, Маша.
— Главное? – Михаил Львович поправил очки, таинственно и четко заключил, – помочь путь найти правильный, своим примером.
— Что?! – Фраза хлестнула Машу почему-то неожиданно сильно. Едва успокоившись, она вдруг снова заволновалась, даже побелела вся как-то. Особенно, похоже, на нее подействовали слова «правильный путь», не говоря уже про пресловутый «пример».
Он уверенно и бодро встал и протянул руку за печеньем, которое среди прочего угощения лежало на столе в хрустальной вазе. Его рука, как ей показалось, на мгновение зависла над столом, подобно магическому персту или рукавице викинга или еще какого-то сказочного и очень рыцарского персонажа. Он взял это печенье, спокойно донес через весь стол до своего рта, и стал медленно жевать:
— Да… Своим примером.
Ей стало вдруг не то, чтобы стыдно, но очень странно как-то, от того, что он заговорил с ней еще более спокойно, поедая это, вот, печенье. Еще ей стало вдруг понятно, что обычно он, как настоящий мужчина, ни с кем не делится своими мыслями, не подытоживает, не учит. Это было очевидно из-за какого-то внутреннего, все-таки, смущения, выписанного на его лице без улыбки, его участия, его понимания, которые проявлялась в удивительном спокойствии. Спокойствие можно было принять за безучастие, но только, все-таки, оно было совсем другого свойства. Было сразу понятно, что только много переживший человек, мог, вот так вот, размеренно и вдумчиво вдруг услышать и поддержать ее.
— Вы никогда не говорите так с другими людьми? – спросила она уже с нескрываемым интересом.
— Говорю, — ответил он. – Обо всем и всегда честно говорю. Только у меня нет очень близких друзей. И вообще-то, я — не священник.
— Похожи…
Она совсем, казалось, успокоилась, как по какому-то странному волшебному действию иных сил, села за стол, и тоже тихо и размеренно протянула руку и взяла печенье, как ребенок в точности скопировала его жесты, а потом разом притихла.
… Много лет спустя, выкатывая коляску с собственным годовалым ребенком на улицу, Маша вдруг заметила, что на скамейке сидел какой-то мужчина, в самом непонятном, неожиданном месте, где-то на середине их двора, где обычно и скамейки-то никогда не было. Он сидел и ел печенье. В сердце что-то кольнуло, что-то незнакомое, вернее до боли знакомое, но схороненное, похороненное внутри. Перед глазами все помутилось, как будто бы за один момент память вернула все то, что когда-то было.
3.
В общем-то, благостная, финансовая или даже любовная тема были неглавными в жизни Маши на тот период времени. Машиной жизнью на тот момент правило отчаяние. Об этом, собственно, она тогда и поведала Михаилу Львовичу.
Маконин ее был несколько неудачен. Вернее, неудачлив, как тогда было принято говорить. В том смысле, что без конца терял работу, занимался исключительно собой, хамил, изменял, искал смысл жизни, страдал, кричал, мечтал прославиться, пил, смотрел с утра до ночи телевизор, только и думал, каким волшебным образом провести время получше, поудобнее, особенно когда она приносила отпускные и собиралась на юг. Денег на следующий день уже не было, и куда они растворялись было еще менее понятно. А еще Маконин был уверен, что он такой особенный, конечно, и, конечно же, единственный в своем роде, совершенно не беря в голову тот факт, что Машины предыдущие спутники имели точно такие же привычки, поэтому она даже и расстраиваться или удивляться не собиралась, заново обнаруживая эти привычки, в Маконине.
Выслушав историю, Михаил Львович, недолго думая, предложил Маше вести свои писательские дела, то есть оформлять полиграфию и редактировать тексты. На это предложение Маша с радостью сказала «да» и теперь каждое утро торопилась к нему домой, перебирая в памяти, о чем они говорили накануне.
— А вы сегодня совсем другой, — бросала она ему, видя с порога, как он хорошо выглядит, как гладко выбрит и жизнерадостен. В проеме дверей она всегда стояла, слегка подбоченившись, долго смотрела на него. Он приветливо возвращал ей улыбку, словно не видел ее никогда ранее, словно впервые встретил, никуда никогда не торопился, и, казалось, был готов так вот стоять или сидеть. И смотреть на нее целые сутки. А ей очень хотелось, чтобы он снова почувствовал себя мальчишкой или юношей. Или – нет. Не хотелось. Он очень нравился ей таким, каким он был.
Ей было странно в Михаиле Львович все. Серьезность и простота, с которой он обо всем говорил. Ясность мысли, и внутренняя содержательность какая-то. Он был какой-то по-особому цельный, искренний, неэмоциональный, но очень добрый и сердечный.
— Знаете, что мне в вас странно? Больше всего? – спрашивала она.
— Вы еще так глупы и по-детски наивны! – он снова предлагал ей кофе.
***
Маконин позвонил и сообщил, что снял новую квартиру. Ей всегда нравилась идея переселения, а от неожиданности она даже поверила, что может снова вдруг почувствовать себя хорошо и легко в его обществе.
— Ты мне никогда не веришь, — Маконин сидел на табуретке в передней и собирал что-то похожее на новый шкаф, за несколько минут грозясь превратиться из избалованного чудовища ее жизни в хорошего человека. — Но снял только на время.
Потом они долго сидели в разных углах, изредка устремляя друг на друга испепеляющие взгляды. А потом, когда уже наступил вечер, и за окном стало совершенно темно, он, как бывало только очень давно, включил музыку, правда, конечно, ее самую нелюбимую.
Порой Маша ругала себя за малодушие, но Маконину всегда все прощала, то ли в силу слабости характера, то ли в силу слабости собственной странно-забывчивой природы. «Любят ведь просто так!» — утешала она себя.
Или, возможно, так она впервые подумала в этот вечер.
4.
Когда она пришла наутро в квартиру Михаила Львовича, его там не было. А потом он появился. Спокойный, неспешный. Маша почувствовала свою какую-то силу даже, все хотела сказать ему, что теперь у нее все хорошо.
— Вы не хотите позавтракать вместе? — спросил Михаил Львович и густо покраснел, приглаживаю копну седых волос. Она никак не ожидала, что он вот так ее куда-то пригласит. Ей стало как-то очень весело от этого, а потом снова ужасно неловко. Он, казалось бы, был абсолютно уверен в себе, рассказывая ей о своих бесконечных книгах, публикациях, каких-то странных выступлениях на каких-то не менее странных книжных ярмарках. Самым неожиданным было то уважение, с которым он к ней обращался, нескрываемое почтение, которое ей выражал. Его глаза был полны слез, когда он на нее смотрел, и она это вдруг снова как впервые заметила. Не было в этом глупой сентиментальности или эгоизма. Он был совершенно бескорыстен в своем желании просто доставить ей даже не удовольствие, а радость, быть приятным, и главное – дать почувствовать уверенность в себе, помочь вновь обрести уважение к себе же самой. «Что вы? Что вы? Все и так уже хорошо», — хотелось сказать ей, но все никак не получалось.
Он как будто бы стал другим за это короткое время их знакомства. Как—то это случилось вдруг – нежданно-негаданно. Ей было от этого странно и удивительно, и, скорее, приятно, чем нет, а ему, похоже, это было совершенно как-то непонятно и безумно приятно, конечно. Он стал менее спокоен. Иногда смущался, рассказывая ей про поездку в Африку, про сафари, про какую-то смешную историю с негритянкой, которую он с кем-то перепутал, и снова — снова – писания, выступления, чтения.
Потом они шли по улице, хотели, «как в студенчестве», как сказал Михаил Львович, «посидеть».
— Вы всегда такой нарядный? — спросила она.
— Нет, конечно, нет, — он улыбался своей этот удивительной широкой улыбкой, а потом вдруг спросил. — А вы когда-нибудь касались руки мальчишки?
— Что? – она снова вздрогнула, как тогда, первый раз, когда увидела его, передернулась, ожидая, что он спросит сейчас о чем-нибудь, о чем ей не хотелось бы рассказывать, или скажет что-то болезненное. — Почему вы спросили?
— Очень мягкая такая у мальчугана рука бывает. Детская, теплая, ни одного вопроса не хочется задавать. Ни одного ответа не нужно. Дети это так прекрасно.
— Вы чудной какой-то. Чудак! – торопливо сказала она.
— А пойдемте ко мне опять, — вдруг сказал Михаил Львович и густо покраснел снова.
— Да, пойдемте, конечно. Мне так вспоминается та дивная неделя, когда вы за мной ухаживали, — сказала она.
— Правда?
Она заметила, что он немного даже заерзал на месте, занервничал. Был очень рад, почти счастлив. Так искренне, удивительно рад тому, что она сказала. Маша медленно шла за ним по лестнице вверх, вспоминая, как они впервые познакомились, и думала, что знает, конечно, знает его уже очень давно. Еще ей показалось, что она как будто бы горит, как заболела. «Простуда или температура, и так глупо», — пробегали беспорядочные мысли в голове.
Он быстро приготовил чай. Зеленый, ароматный. А потом долго показывал фотографии семейные, перекладывая фолианты и приглаживая страницы. Кто-то из изображенных жил в двадцатые годы, кто-то – в тридцатые. Захватывающие дух истории людей, которых давно не было в живых, но которые так явно присутствовали в его квартире, где-то между соседней комнатой, коридором и письменным столом, на котором в полном беспорядке соседствовали распластанные фолианты и тонкие, покрытые пылью брошюры.
Михаил Львович воодушевился. Маше даже показалось, что он сильно помолодел.
— А поедем-те куда-нибудь на залив, в Солнечное, — вдруг предложил он.
— В Солнечное … — Как будто бы даже удивилась. – Прямо сейчас?
— Я всегда там жил зимой, да и летом жил именно там. Каждый уголок знаю. Там столько зелени, и совсем недалеко…., — он осекся как-то неожиданно, как будто бы за что-то себя пожурил. — Вы знаете, у меня дядя служил в кавалерии, он был очень благородного происхождения, так вы знаете, каково было тогда в Петербурге?
Маша улыбалась, пытаясь представить себе этого дядю из девятнадцатого века и его странную жену, которую он встретил, то ли на войне, то ли в деревне, и влюбился, конечно, без памяти. А потом она всю жизнь с ним не разговаривала и шарахнулась в реку однажды, чуть не погибла, а потом в тот же вечер нашли утопленницу, так она, его эта странная жена, считала, что та утопленница утонула, чтобы ей, жене его, жить на белом свете. В общем, ужасы какие-то навороченные Михаил Львович все рассказывал ей с умным видом, а Маша все слушала и слушала…
— Драма, представляете себе! Такая драма! – воодушевленно продолжал Михаил Львович. Маша хохотала, чувствуя необыкновенный внутренний подъем. Сердце переполняла такая нежность, что не было возможности ни одной секунды как-то усомниться, что все будет только хорошо, правильно, удивительно. Она давно не испытывала ни к кому таких искренних и добрых чувств.
— Спасибо, — он опасливо смотрел на нее. – Спасибо вам.
— До завтра, — сказала Маша уже на пороге, тихо закрыла за собой дверь, так и не услышав ответа. На следующий день телефон Михаила Львовича молчал, а когда она пришла и позвонила в его дверь, то никто не открыл.

5.
Маконин как по заказу предложил уехать с ним в тот же вечер. Уезжать с Макониным ей не хотелось совсем. Это свое нежелание она поняла уже давно, когда при мысли о нем, о Маконине, почувствовала вдруг дикую тяжесть в груди, такую явную, словно у нее вот-вот должен был случиться инфаркт. Уже месяц он, оказывается, был и как будто бы и не был с ней. Утром она просыпалась, а его не было. Не было этой его головы красивой на груди, которую можно было раньше прижимать к себе, что есть мочи, гладить волосы. Не было ощущения тепла рук, и шепота, пусть еле слышного. Только изредка ей снова было немного вдруг больно от того, что она понимала, какое количество иллюзий было у нее раньше. И как они, все до единой, медленно и мучительно испарялись в какое-то страшное туманное небытие.
Ночью она вставала, шла на кухню, пила кефир из холодильника, смотрела в окно на светящиеся желтым цветом фонари. Думала, как придет к Михаилу Львовичу, как будет разговаривать с ним, каким удивительным и незабываемым все будет. Иногда даже думала, как они начнут жить вместе. Думала, как будут разговаривать обо всем, как он вновь ей расскажет о себе, пригласит куда-нибудь, познакомит с друзьями.
В понедельник она оставила Маконину записку на столе, сообщила, что уходит, однозначно и бесповоротно. Спешила очень. Чуть не умерла, не задохнулась, когда услышала его шаги за дверью. Он казался вежливым, даже учтивым. Как обычно.
— На столе книги, которые нужно приготовить к печати. И вот вам ключи, — добавил он, тоже задыхаясь.
— Вы уезжаете? — спросила она, стараясь не пошатнуться, не двинуться с места.
Было заметно, какая страшная внутренняя работа происходила у него внутри. Брови поднимались и опускались, он даже покраснел, и сердце, казалось, билось с адской силой, где-то совсем близко. Он двигался машинально, словно робот.
— Вы уезжаете? — еще раз повторила она и осеклась, видя, как он сильно переживает и пытается это скрыть.
— Я скоро вернусь. Позвонила старинная подруга, то есть не подруга, а моя жена бывшая, конечно, с которой я … с которой … мы… прожили … тридцать лет, понимаете ли … вы… вот …. У нее только что умер ее молодой муж … Мы решили отправиться с ней … в круиз и … вспомнить старое, утешить настоящее… попытаться … его… забыть….
Он не договорил.
— Какой жизни? – Маша, в который раз, делала над собой усилие.
— Вот эта, — сказал Михаил Львович, протягивая фотографию, как прочел ее мысли. На фотографии вдоль красивой каменной стены в розовых цветах шла седая стройная дама в шляпе. — Так называют….
— Кого?
— Ну, тех, кто…. живет по-другому.
— Вы решили уехать … специально? — она дрожала с ног до головы, почти не глядя ему в глаза.
— Я вернусь и обязательно буду. Через полгода я буду. Мы едем в Осло.
— Осло? – она снова встрепенулась, как ошпаренная кипятком птица какая-то, заморская, или простая, деревенская курица. Почему-то слово «Осло» произвело на нее еще большее впечатление, чем сама идея объезда, или даже появление бывшей жены, у которой только что умер молодой муж.
— Вы все это придумали специально? Вы шутите? – спросила она, уже почти машинально.
Потом она долго стояла и смотрела, как он собирает вещи. Медленно и осторожно он складывал все содержимое в небольшой чемодан, бумага к бумаге, блокнот за блокнотом. Все то, что хотел увезти с собой. А потом вдруг заторопился, занервничал, а она чувствовала, как кровь била у нее по венам все сильнее, с каждым его движением.
— Я решил все-таки убежать, — сказал он спустя какое-то время. Потом он как будто бы замер на месте, и она, первый раз, да, первый раз в жизни поняла, что он и есть по-настоящему самый близкий ей человек, что он вовсе не смеется, не убегает, а очень хочет ей помочь. Просто он действительно должен куда-то ехать в этот момент. И только поэтому внутри у нее вдруг ниоткуда стала просыпаться какая-то невероятная сила неизвестно для чего созданная, непонятно кем рожденная.
— Это не повторяется, — сказала она.
— Что именно? — он снова засуетился. – Ну, неважно, неважно. Вот и славно! Вот и славно! Я знал! Я, правда, знал, что все будет хорошо, — уже с улыбкой продолжал Михаил Львович, и на прощанье, у самой входной двери обнял Машу, а потом быстро наклонился, поцеловал ее в щеку и поднял со ступеньки желто-красный, немного скомканный осенний лист, который там так кстати или некстати оказался.
Нина Щербак



























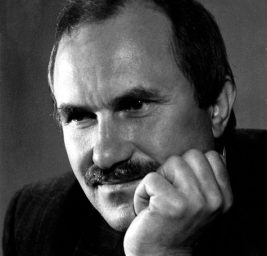






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ