Вы здесь: Главная /
ЛИЧНОСТИ /
Интервью с писателем – финалистом премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Русский Букер» – Игорем Сахновским
Интервью с писателем – финалистом премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Русский Букер» – Игорем Сахновским
01.11.2017
/
Редакция

Досье.
Игорь Фэдович Сахновский родился в г. Орске Оренбургской области. В 1981 г. окончил филологический факультет Уральского госуниверситета.
Автор двух стихотворных сборников: «Взгляд» (1988) и «Лучшие дни» (1988). В журнале «Новый мир» был напечатан первый роман «Насущные нужды умерших». В 2000-м это произведение было номинировано на премию имени Аполлона Григорьева.
В 2002-м роман «Насущные нужды умерших» был переведён на английский язык и награждён международной литературной премией Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Великобритания).
В 2003-м И.Ф. Сахновский получил гран-при Всероссийского конкурса «Русский Декамерон» за сборник рассказов «Счастливцы и безумцы» как «лучшее произведение любовной тематики».
В 2006-м писатель стал финалистом премии «Национальный бестселлер». В 2007-м – финалистом премий «Большая книга» и «Русский Букер».
В 2008 г. стал лауреатом премии «Бронзовая улитка», финалистом премии имени Аркадия и Бориса Стругацких.
В 2012-м – лауреат премии имени Бажова.
В 2010-м – лауреат премии губернатора Свердловской области.
В 2017-м – обладатель приза читательских симпатий литературной премии «Новая словесность» («НОС»).
***
Писать о творчестве Игоря Сахновского, с одной стороны, легко и увлекательно, как и читать всё, создаваемое им самим. С другой стороны, берясь за подобный труд, чётко осознаешь мнимость этой лёгкости и на поверхности лежащей очевидности его творений, а также понимаешь, что Сахновский сегодня – один из лучших русских современных авторов; что же касается раскрытия высшей темы, той, благодаря которой существуем все мы – теме любви, то здесь Сахновскому удаётся трепетно, абсолютно узнаваемо, ни на секунду не впадая в биологизм, раскрыть такие грани и глубины главного чувства, которые, конечно же, ты и сам давно носил и лелеял в своём сердце, да стеснялся сказать: не то из-за боязни быть непонятым, не то из страха, что все, что будет сказано тобою на этот счёт станет вялой пародией на то, что ты подлинно чувствуешь. И вот, о чудо! Появился Сахновский.
Удивительно, что один из лучших современных российских прозаиков раньше писал исключительно стихи: «Я много лет писал стихи. И долго не брался за прозу – просто потому, что не знал, как надо писать. В поэзии же слово за слово присоединяется к слову, а слова, как известно, радиоактивны… Я и сейчас работаю на уровне слов, поэтому и пишу так медленно. И ничего в жизни я не боюсь так, как чистого вордовского листа…
Страх страхом, но, так или иначе, уже 1999 г. вышел первый роман Игоря Сахновского «Насущные нужды умерших», номинированный в 2002 на премию Аполлона Григорьева. Спустя два года роман перевели на английский язык – и вот очередная заслуженная награда: Международная литературная премия Fullowship Hawthornden International Writers Retreat. После было множество наград. Но идут годы, с чудовищной, иногда маловдохновляющей скоростью меняются события «за окном». И Сахновский как дитя своего времени не оставляет в стороне все ужасы бренного мира (но хотя бы не выводит их на первый план).
«Жизнь подражает искусству», – говорил Набоков. Жизнь фантастичнее любой реальности постулирует Сахновский.
А разве это не об одной и том же, ребята, а?..
Жанна Щукина
Жанна Щукина (Ж.Щ.): Вы известны не только как прозаик, но и как поэт, автор двух стихотворных сборников. Пишете ли стихи сейчас или сегодня занимаетесь исключительно прозой?
Игорь Сахновский (И.С.): Я довольно давно уже не пишу стихи. И мне примерно понятно, что имел в виду Александр Межиров, когда сказал: «До тридцати – поэтом быть почётно, и срам кромешный – после тридцати». Хотя сам Александр Петрович, насколько я знаю, писал стихи и в 70 лет.
(Ж.Щ.): В Вашей прозе и поэзии один и тот же субъект повествования? Иначе: сколько-нибудь близки ли внутренне Ваш нарратор и Ваш лирический герой?
(И.С.): Откровенно говоря, я никогда всерьёз не следил за этим. Но некоторые внимательные читатели и критики утверждают, что субъект, в сущности, тот же самый. Одна читательница даже написала мне, что «Заговор ангелов» фактически продолжение «Насущных нужд умерших», то есть продолжение жизни главного героя (хотя книги эти совсем разные). И никто ведь не отменял универсальной формулы-признания Флобера: «Эмма Бовари – это я».
(Ж.Щ.): Как мне кажется, извините и исправьте, если ошибаюсь, большая часть Ваших прозаических творений автобиографичны?
(И.С.): Уже написав несколько книг, я обнаружил в самом первом своём романе фразу, которую, наверно, можно назвать «установкой» – если не на автобиографичность, то на «документальность»: «Начав рассказывать эту историю, я пообещал себе не впадать в соблазн сочинительства, во всяком случае, не придумывать обстоятельства, покуда живые, невыдуманные <…>, словно бедные родственники, столько времени топчутся в прихожей, ожидая, когда на них обратят внимание». Это не «само так вышло», а вышло из уверенности, что реальная, невыдуманная жизнь прекрасней, страшней и фантастичнее всего, что автор может «высосать из пальца».
(Ж.Щ.): Вы против навешивания жанровых ярлыков своим книгам. А можете назвать хотя бы несколько особо личностно значимых концептов в Вашей писательской картине мира? Я для себя выделила «любовь», «маленький человек – общество», «память» (детство, юность)… Что ещё?
(И.С.): Да, я постоянно сталкиваюсь с этой жанровой «ловушкой», которая возникает, видимо, из чьего-то желания упростить классификацию, поставить книгу на заведомо «обустроенную» полку. Когда за роман «Человек, который знал всё» мне в Санкт-Петербурге вручали «Бронзовую улитку» (её лично присуждал Борис Стругацкий «за лучшую фантастику года»), мне пришлось, в нарушение приличий, публично ответить: «Спасибо, конечно, очень приятно и лестно. Но эта книга – не фантастика, и я не фантаст». Потом «Свободу по умолчанию» дружно зачислили в разряд антиутопий. И только Сергей Костырко в «Новом мире» и Дмитрий Бавильский в «Новой газете» в рецензиях на мой роман сумели не попасть в «антиутопическую» ловушку, и я им за это благодарен.
К особо значимым «моим» темам, которые вы перечислили, имеет смысл добавить ещё две сквозные – «смерть» и «свободу». Собственно, их можно увидеть и в заголовках книг, не прибегая к особым дешифровкам: «Насущные нужды умерших» и «Свобода по умолчанию».
(Ж.Щ.): У меня сложилось, возможно, ложное, если да, разрушьте пожалуйста его, впечатление, что в Ваших книгах значимую роль играет топонимика. Место становится полноправным героем художественного произведения. Это моё, сугубо личностное восприятие, или в этом есть правда?
(И.С.): Я бы не рискнул приписывать топонимике, включённой в тексты, прямо-таки сакральную роль, но мне видится определённая авторская доблесть в том, чтобы впустить узнаваемую, конкретную географию в художественный текст и дать ей тем самым новую самоценную жизнь. По крайней мере, я считаю нужным чуть ли не по шагам и минутам выстраивать маршруты своих персонажей в городах, где происходит действие. Это касается не только Орска или Екатеринбурга, но и моей любимой Флоренции, и, допустим, Лондона или Опатии. Мне важно помнить, что мой главный герой («маленький человек», как правило), будучи жителем российской провинции, остаётся одновременно «гражданином мира».
(Ж.Щ.): В одном телевизионном интервью сказали, что большинство Ваших произведений – они о прошлом. А вот со «Свободой по умолчанию» вышло иначе. Здесь Вы рассказали о событиях, пусть не столь далёкого, но будущего. Причём, как сами признались, что начали приходить в ужас, когда стали понимать, что, менее чем через год, Ваши фантазии стали реальностью. Не возникло ли ощущения себя демиургом, неким провидцем?
(И.С.): Нет, мне это совершенно чуждо – брать на себя роль демиурга по отношению к своим персонажам или обстоятельствам их судьбы. Мне больше нравится создавать воздух для их дыхания, условия для их жизни и наблюдать, как они действуют сами, по своему усмотрению, уже практически независимо от меня. Но мне понятно, о чём вы говорите. Примерно так ведут себя некоторые литературные (точнее, окололитературные) персонажи русского Фейсбука: они играют роль самоназначенных демиургов перед собственными френдами-фанатами. Там нет ничего общего с настоящей литературой – есть клиника публичного унижения и клиника униженного «хорового» восхищения своим капризным, избалованным царьком.
(Ж.Щ.): Я вернусь к одной из, по-моему твердому убеждению, важнейшей в Вашей эстетической картине мира категории памяти – у Вас и у Набокова. Его герои наделены памятью, посредством которой создают новые, исключительно свои миры, параллельно бытийствующие с миром реальным. У Набокова память способна воссоздавать уже утраченные миры. У Вас иначе?
(Ж.Щ.): Знаете, мне кажется сомнительной практика воссоздания в литературе «исключительно своих миров». Исключительно своё – значит, скорей всего, недоступное для других. Среди отзывов, которые я получаю от читателей, приятнее и удивительнее прочих признания чужих, незнакомых мне людей о том, что вот эта книга, вот эта история – о них, об их жизни, их любви. Для меня это означает, что, рассказывая о своём личном, я каким-то чудом ухитрился воссоздать не только собственные, но и ещё чьи-то миры.
(Ж.Щ.): «Патриотизм» – слово модное, но довольно семантически безобразно трактуемое, как показывают (достоверные или нет) соцопросы, у 86% населения моей страны. Для Вас этот термин, он семантически наполнен? И чем, если не тайна?
(Ж.Щ.): Послушайте, за прошлые годы, включая самые последние времена, мы успели нарастить неслабый иммунитет против грубой, лобовой пропаганды, включая тухлый корм, которым потчует нас телевидение. Почему же эти пресловутые 86–88% воспринимаются как бесспорная истина? Я склонен подозревать, что эти цифры – тоже пропагандистский продукт, что внутри этих 88% не всё так тупо и однозначно.
Для меня понятие «патриотизм» (если не смешивать его с методичками профессиональных, «сертифицированных» патриотов) связано с любовью к родному языку и родной культуре. Простите за вынужденный пафос.
(Ж.Щ.): Не знаю, из каких глубин моего сознания возникший, но настойчиво преследующий меня вопрос… Если он не корректен, не отвечайте. Мученичество, страдание как акт собственной воли – с Вашей позиции – норма или диссонанс? И если есть вещи, ради коих стоит умирать, что это лично для Вас?
(Ж.Щ.): У моей любимой Новеллы Матвеевой есть такие строчки: «…Крича от придуманной боли в действительно трудной юдоли». В окружающей нас жизни столько тяжёлых забот и печалей, что возводить страдания в некий добровольный принцип, пожалуй, избыточно. Получается суп, посоленный дважды. В моём дворе на кирпичной трансформаторной будке кто-то написал извёсткой: «Будь русским – и умри за это!» Я думаю, эту философию придумали номенклатурные дядечки, которые не собирались умирать ни за что, кроме своих номенклатурных привилегий. Но мы и так умираем каждый день своей жизни – за эту самую жизнь, за своих любимых и близких, за наше продолжение. Помните у Заболоцкого такие счастливые и горькие стихи: «И смеётся вся природа, умирая каждый миг».
(Ж.Щ.): Вы говорили, что ничего в жизни не боитесь так, как чистого вордовского листа. Мне, как человеку, занимающемуся литературой или чем-то вроде того, это близко. Как Вы преодолеваете этот страх белого листа?
– Мне кажется, тут нет вариантов: преодолеть нерешительность перед чистым листом можно только с помощью текста. А текст требует от автора чувства собственной правоты. С годами начинаешь понимать, что не существует никаких объективных экспертиз, никаких эталонов, к которым ты мог бы «прислонить» свой текст, чтобы получить его точную оценку. Здесь только один критерий: твой собственный вкус, твоя собственная мера бесстрашия или безумия. Нравится ли тебе самому этот текст.
(Ж.Щ.): У Вас есть изумительное яркое и точное стихотворение «Памяти моего товарища Александра Башлачева». Позвольте процитировать его полностью:
***
Ему на перегон хватило сил,
на божий гнев, на скомороший выезд.
Он колокол за пазухой носил,
А бремя колокольчиков не вынес.
—
Пока престольный град платил и пил,
смешав с отрыжкой речи о державе,
он в небеса доверчиво ступил.
И небеса его не удержали.
Просто мощнейшее по силе воздействия стихотворение… Не знаю, насколько уместен и корректен будет мой вопрос об одном литераторе в рамках беседы с другим, но я решила рискнуть. В конце концов, Вы как человек, лично знавший СашБаша, можете (если захотите) немного о Вашей дружбе с ним рассказать.
(Ж.Щ.): Мы познакомились с Сашей, когда он ещё, кажется, не осознавал себя отдельной творческой фигурой. На вопрос: «Чем ты занимаешься?» – он тогда отвечал, что пишет тексты для группы «Сентябрь». Мы встречались не так часто, он звонил мне, когда возвращался в город, и мы собирались тесным кругом в гостях у Серёжи и Оли Селивановых – там была такая маленькая полуподвальная «дворницкая», забитая книгами. Сидели почти всю ночь, читали стихи, Саша пел. И так получилось, что бо́льшую часть Сашиных песен я первый раз услышал в его исполнении в этой комнатушке. Он был поразительно чистый и щедрый человек. И такой, знаете, как будто «без кожи». Стихотворение, которое вы процитировали, я написал зимой 1988 г. в тот день, когда мне сказали о Сашиной гибели.





















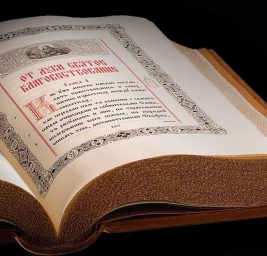











НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ