СТОЛЫПИН. Пьеса в трех действиях
06.04.2019
/
Редакция

СТОЛЫПИН
Пьеса в трех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Столыпин – премьер-министр Российской империи.
Ольга Борисовна – его жена.
Маша – дочь Столыпиных.
Наташа – дочь Столыпиных .
Казимир – слуга Столыпиных.
Князь Оболенский – чиновник для особых поручений при Столыпине.
Николай II – император Российской империи.
Мария Федоровна – его мать.
Александра Федоровна – его жена, императрица.
Цесаревич Алексей – сын Николая II.
Вырубова – фрейлина Александры Федоровны.
Глинка (Юстина) – фрейлина Марии Федоровны, тайный агент полиции.
Ротшильд – французский банкир.
Рачковский – начальник зарубежной агентуры МВД.
Витте – премьер-министр, предшественник Столыпина.
Григорий Распутин
Гапон – священник.
Браудо – хранитель отдела «Россика» Петербургской публичной библиотеки.
Коковцев, Фредерикс – сановники двора.
Кривошеин – министр землепользования.
Азеф – тайный агент полиции.
Фон Бок – военно-морской атташе при германском посольстве.
Спиридович – начальник охраны императорского двора.
Кулябко – шеф жандармов Киева.
Розенблюм (Силыч) – эсер, террорист.
Рутенберг – эсер, террорист.
Террористка
Herr и Fray– немецкие сановники.
Богров – убийца Столыпина.
Прохор Фомич ( Первый крестьянин)– староста.
Цыгане с гитарами, крестьяне, сановники двора.
ГОЛОС ВЕДУЩЕГО. Крестьянская община, веками спасавшая русскую нацию от татаро-монгольского ига, от разора и распада – эта община надорвалась.
И вследствие надрыва, ее, исполнившую свою историческую миссию, потерявшую вековой инстинкт самосохранения, заразили социал-революционной чумой.
К Новому 1905 году правительство вчерне загасило бунты, загнало их штыками внутрь имперского тела. Они чадили паленым мясом, горелым хлебом, едучей взаимной ненавистью: малоземельных – к помещикам, спившихся – к трезвым, черни – к аристократии.
Трехсотлетняя династия Романовых качалась над взбаламученной Русью перезрелой грушей. На ней все отчетливее синел вырожденческий знак гемофилии.
Но уже восходила над империей, как это всегда случалось в периоды распада и смуты, новая звезда – Петра Аркадьевича Столыпина.
ДЕЙСТВИЕ I
I
Париж. Кабинет французского финансиста Альфонса Ротшильда. На стене портреты основателей династии Ротшильдов: Амшела Ротшильда и Гуты Мейер. Под ними висит красный щит-вывеска, который висел на магазине Амшела и Гуты в 1770 году, с готической надписью по-немецки: «Rot Schild» – «Красный щит».
В кресле Альфонс Ротшильд. Второе кресло свободное. На софе, напряженно выпрямившись, сидит глава парижского отделения тайной полиции России Рачковский.
Ротшильд (говорит с веселым нахрапом). Рачковский, будем говорить откровенно. Ви большой шалун. Это надо-таки додуматься, что вся российская зарубежная агентура министерства внутренних дел, чем ви вертите в Париже, совсем не слушает своего папу из Петербурга министра Плеве. И не делает ему отчет за свои действия. Это так?
Рачковский. Это почти так, господин Ротшильд.
Ротшильд. Плеве сердится и вас не любит. Он уже назначил комиссию. У комиссии свиные рыла и они по-свински копают под Рачковского. Вам сказать, что они успели раскопать под вас?
Ротшильд. Буду весьма благодарен, мсье.
Ротшильд. Мсье сгнили в Бастилии, Рачковский.
Рачковский. Виноват, господин Ротшильд.
Ротшильд. Они раскопали пока немного, но все равно ой-ей-ей. Например, ту встречу, что мы устроили вам с римским Папой XIII Львом. Эти байстрюки из комиссии таки винюхали, что господин Рачковский без позволения двора и министра Плеве сует свой нос в большую зарубежную политику.
Рачковский. Откуда, позвольте узнать…
Ротшильд. Но комиссия пока не раскопала вашу встречу с президентом Франции Лубэ, где ви получили чемодан. А в чемодане? А в чемодане полтора миллиона франков: пятьсот тысяч ваши и миллион – на организацию французских предприятий в России.
Рачковский. Господин Ротшильд…
Ротшильд. Ви таки заметили, что президент Франции и я до сих пор не спрашиваем, куда ви затырили тот миллион? В России пока не вылупилось ни одно предприятие для французов.
Рачковский. Чертовски знакомый диалект у вас, господин Ротшильд. Аромат Малороссии, с привкусом Одессы.
Ротшильд. Все ми родом из нашей мамы Одессы, хотя и мой предок Амшел, и мои братья родились во Франкфурте.
Рачковский. Господин Ротшильд, вы зря потратили столько времени на прелюдию. Рачковский достаточно тертый калач, чтобы понять: я давно ваш, с потрохами. И мне не нужно об этом напоминать.
Ротшильд. Нужно. Но мы всегда держали вас за разумного человека.
Рачковский. Я весь внимание.
Ротшильд. Нам не нравится Плеве, который под вас копает. И совсем не нравится саратовский губернатор Столыпин, который может заменить Плеве, в случае чего.
Рачковский. Мне они тоже не нравятся.
Ротшильд. У них руки в крови наших мальчиков эсеров. Нам это надоело.
Рачковский. Понимаю.
Ротшильд. Тогда что ви здесь сидите?
Рачковский. Сколько времени мне отпущено? Мне нужен предлог для выезда в Петербург и основательная подготовка… министр и губернатор – весьма серьезные фигуры.
Ротшильд. Предлог на вас уже лежит в посольстве. Телеграмма через голову Плеве от дворцового коменданта Гессе. Этот потс таки не может без вас жить.
Рачковский. Благодарю, господин Ротшильд. Позвольте откланяться.
Ротшильд. Держите в уме Евгения Филипповича Азефа. Он порядочная сволочь, агент вашей охранки и провокатор. Но полезный человек для нашего дела. Кстати, он здесь, в Париже.
Рачковский. Я знаю, ваше сиятельство. Именно его я хотел использовать. (Уходит.)
Ротшильд. Не туда! Возьмите левее, в ту дверь. (Нажимает звонок, говорит вошедшему секретарю.) Запускай. (Входит Витте.)
Витте. Благодарю за приглашение, господин Ротшильд. Поверьте, еще ни на один визит я не спешил с таким душевным волнением.
Ротшильд. Сергей Юльевич, мы свои люди – финансисты и политики, всегда поймем друг друга на любой территории. Как доехали?
Витте. Превосходно.
Ротшильд. Опускайтесь на мягкое. (Витте идет к креслу.) Не туда, Сергей Юльевич !! Вам удобнее на софе будет. (Витте садится на софу.)Немного левее.
Витте. Куда?
Ротшильд. Подвигайтесь туда. (Показывает на место, где только что сидел Рачковский). Вот так. Ну что?
Витте. Простите?
Ротшильд. Что чувствует ваш зад?
Витте. Я не совсем понимаю…
Ротшильд. А зачем вам понимать? Вам подходит температура внизу?
Витте. Я бы сказал – абсолютный комфорт.
Ротшильд. А что я говорил своим людям? Для жопы Витте нужно теплое место. Например, место премьер-министра Российской империи.
Витте. Вашими бы устами да мед пить.
Ротшильд. Своими попьете. Мы начнем с политики. Политика Европы пять лет назад помещалась в одной фразе императора Александра III. Он ловил рыбку, а к нему стали приставать: подпишите срочную депешу для Европы. Что ви думаете, сказал русский император? Александр сказал: Европа подождет, пока император России ловит рыбу. А? Как вам это нравится, Витте?
Витте. Это омерзительно, господин Ротшильд. Азиатское хамство скифа и мания величия – это наследственная паранойя Романовых.
Ротшильд. Сергей Юльевич, мы много работали с Японией, чтобы александров байстрюк Николай так не хамил Европе после войны. Мы с Вартбургом, Яшей Шиффом и Парвусом не зря бросили в военную топку свои двести миллионов.
Но это еще не все. Поэтому я пригласил вас, Сергей Юльевич, чтобы примерить ваш зад на место премьер-министра. Мы хорошо и долго смотрели за вами, вашим домом, вашими делами и разговорами, а также за вашими мислями. Вы нам подходите. Мы не будем ходить вокруг и около. Россия – это вонючий сундук, но с алмазами, золотом, углем, нефтью и рабской силой. К этому сундуку мы решили приложить наши капиталы. Но дубовая голова Александра III и его кулаки такого совсем не хотели.
Витте. Романовское, наследственное скудоумие.
Ротшильд. А его байстрюк Николай II теперь, слава Моисею, надевает плисовые шаровары, косоворотку и пляшет с черносотенцами из «Союза русского народа». Мы совсем не против, пускай себе скачет и тискает немку Алису, а мы будет делать свое дело.
Когда вы сядете на место премьер-министра…
Витте. Вы уверены в этом?
Ротшильд. Я не люблю, когда втыкаются в мои мысли!
Витте. Прошу прощения, господин Ротшильд.
Ротшильд. Если мы что-то говорим, мы это делаем. Когда сядете на кресло премьер-министра, вы станете расшатывать гнилой зуб монархии, чтобы мы его выдернули. Вы должны поднимать рабочих и делать из них для Николая большую бучу с кровью. Вы должны вырвать у него из глотки конституцию и парламент для России. Когда мы купим этих болтунов – в России начнется то, что нам нужно: революция. Я никогда так много не говорил с гоями, господин Витте. Но Россия стоит этих слов. Расшевелите рабочее движение через Гапона.
Витте. Кого вы еще можете рекомендовать?
Ротшильд. В Петербургской публичной библиотеке работает хранителем отдела «Россика» Александр Исаевич Браудо. Он мало говорит. Но его слова стоят половину золотого запаса России. Вы и Рачковский будете с ним советоваться. Вы займетесь сухой политикой, Рачковский – мокрыми делами, для начала министром Плеве и Столыпиным.
Витте. Рачковский… парижский начальник зарубежной агентуры?
Ротшильд. Это он только что нагрел место для вашего зада на софе. Он будет заниматься тем же в России. В карете, что привезла вас ко мне, уже лежит чемодан, где пять миллионов франков вам на расходы.
Мы посмотрим за вашей работой и может быть назовём вашим именем улицу в Одессе, рядом с Дерибасовской.
Витте. Я потрясен перспективою, господин Ротшильд. Отныне вся моя энергия будет направлена для великой цели…
Ротшильд. Витте, не говорите красиво. Пст-пст. Адью.
Витте уходит.
Багровые отсветы полыхающей усадьбы, треск горящего дерева, вой собак, ржанье лошадей, рев толпы.
На сцене хаос из разбросанных, ломаных, битых вещей: книги, стулья, вазы, картины. По всему этому яро топчется, приплясывает безымянный зверь – толпа. Особенно зверствует вымазанный сажей мужичонка в зипуне и одноухом малахае – Силыч.
Силыч. Сучье племя! Иксплутаторы, жрут от пуза до серуть… ото и вся иха жизня! Лома-а-ай! Пять тыщ десятин земли у яво, а у мене две десятины, а? Иде тута равенство? Что Христос велел? По справедливости жить, по равенству! Иде справедливость?! Круши кровососа!
Истошный вопль из толпы:
– Братцы-ы-ы! Губярна-атор!
Толпа стягивается в ежовый клубок, ощетинившись вилами и дрекольем. Вбегают Столыпин, его чиновник для особых поручений князь Оболенский и товарищ министра земледелия Кривошеин. Останавливаются, наткнувшись на каленое молчание.
Столыпин. Ну что, довольны? Добро запалили, из нужника стены обляпали, скотине брюхо взрезали и рады. Чему радуетесь?! Животные, тварь божья в муках гибнет! Ей за что казнь?
– Дело барин говорит!
– Так Силыч натравил!
– Кровососа Тотлебена скотина! Пуща-а-ай!
Столыпин. Не Тотлебена – божья тварь!
Силыч. Скотину пожалел?! А нас вы, кровососы, жалели?! Иде свобода, равенство, братство?
Столыпин. (Всматривается. Внезапно приказывает властно, на немецком языке.) Покажи руки!
Силыч (протягивает вперед руки, но, спохватившись, прячет их за спину.) Ты не лайся по-собачьи! Ты по-русски!
Столыпин. Покажи руки!
Силыч. Это зачем?
Столыпин. А вот затем. (Идет к Силычу.)
Силыч. Не подходите! (Выхватывает револьвер. Оболенский бросается к мужику.)
Столыпин. Назад, князь! (Отстраняет Оболенского, расстегивает пальто, идет на Силыча.) Стреляй.
Силыч. Не подходите, убью!
Столыпин. Кишка тонка. (Выхватывает у Силыча револьвер, отбрасывает. Разжимает ему руку, поворачивает ладонью вверх.) Именно это я подозревал. (Распахивает на Силыче зипун. Под ним – студенческая тужурка. Столыпин, нащупав, достает из нее студенческий билет.)
Силыч. Не смейте!
Столыпин. (Читает.) Розенблюм. Кто знает этого человека?
Староста. Намедни явился, назвался Фадей Силычем.
Столыпин. И что ему надобно от вас?
Староста. Позвал Тотлебену петуха пустить. Баял, что Тотлебен от царя новое дозволение заимел.
Столыпин. Какое дозволение?
Староста. От наших земель, от общины еще три тыщи десятин себе захапать! (рёв из толпы)
– Тоды хоть совсем по миру!
– И так из-за межы грыземся, собачимся, кровя брат брату пущает!
– У Тотлебена своих пять тыщ? Куды ему еще?! Таперь хоть в петлю! (Вспухают вой, стоны, брань.)
Столыпин. Слушать меня! (Говорит в мертвой тишине.) Дозволения Тотлебену на отчуждение общинных земель нет! Этот человек, совравший вам, – Иуда. Что творит он, и что делаете вы и я? Вы в поте лица пашете землю, сеете, кормите Россию, живя в муках и бедности. Я, волею государя, ваш губернатор, обязан облегчить ваши страдания и заботиться о вас. Мы с товарищем министра земледелия Кривошеиным разработали законопроект для утверждения монархом. В нем определено: где и какие дать вам земли в собственность, на вечное пользование. Эти земли богаты черноземом и ждут вас. Россия скоро начнет великое наделение пашней своих крестьян! (Гул, крики.)
Кривошеин. Крестьяне! Братцы! Это истинно так! Мы подготовили такой закон! Сообщаю вам это как товарищ министра земледелия!
Столыпин. Мы с вами, выходит, заняты божьим делом. Но чем занят этот человек? Он имеет такое же паразитическое и разрушительное для империи свойство, как солитер для коровы. Он не Фадей Силыч.
Это Борис Розенблюм, бывший студент петербургского университета. Я знаю его родителей из местечка Синюхино. Его отец – почтенный и знающий свое дело коновал, врачеватель крестьянских коров и лошадей. Он собирал по грошу каторжным трудом, чтобы его сын Боря стал ученым человеком.
Но сын трижды предал. Он предал родителей, ибо исключен из университета за подстрекательство к бунтам. Он предал государя-императора, подстрекая народ к его свержению. Такие, как он, убили министра внутренних дел Плеве и вызвали новые гонения на вас. Наконец, он обманул и предал вас, ибо теперь я должен взыскать за погром и направить сюда войска генерал-адъютанта Сахарова. Сахаров послан в Саратов государем для усмирения бунтов и живет у меня в доме. Вы этого хотели?
Староста. (Падает на колени. За ним вся толпа.) Не погуби-и-и!
– Смилуйся, батюшка, Петр Аркадьевич!
– Век бога будем молить!
– Обмишулились, ваше превосходительство!
– Послушались этого ирода!
Столыпин. Бог вам судья! Я вижу: вас обманули. И потому войска не будут посланы. Воздайте этому человеку то, что он заслуживает, сами.
Розенблюм. Господин губернатор! (Говорит по-немецки.) В жилах вашей семьи вместе с русской течет избранная богом кровь. Ради этого пощадите.
Столыпин. Не ко мне обращайтесь, к ним.
Розенблюм. (По-прежнему по-немецки.) Мы с вами люди одного круга! Неужели вы отдадите меня на растерзание этому стаду?!
Столыпин. Стыдитесь! Это, по вашему выражению, стадо веками кормит Россию!
Уходят. Толпа с ревом всасывает и поглощает Розенблюма.
II
Квартира Рачковского в Париже, накрытый стол. Рачковский ходит в ожидании. Звонок в дверь. Рачковский открывает. На пороге стоит дряхлый старец.
Рачковский. Что вам угодно?
Старик. Пожвольте, кто вы такой? Где Жужу? (Топает ногами, мычит.)
Рачковский. Какая, к дьяволу, Жужу?
Старик. Мсье, это какой этаж?
Рачковский. Третий.
Старик. Я так и жнал. Пардон. Жужу обитает на чечвертом, но эти петушьи ноги всегда сворачивают сюда, протештуя против еще одного пролета. Еще раз пардон. (В три приема разворачивается, стоит.)
Рачковский. В чем дело, мсье? Вам помочь?
Азеф. Справлюсь сам, господин Рачковский. (Отлепляет бороду, брови, снимает картуз.)
Рачковский. Браво. Триумфально, Евгений Филиппович. Я иногда вас боюсь.
Азеф. Правильно делаете. Этот чрезвычайный вызов сюда, надеюсь, оправдан? Вы же знаете, каждый лишний контакт с вами стоит мне года жизни. Париж нашпигован эсерами.
Рачковский. Понимаю. И, тем не менее… сядьте. Придите в себя. (Наливает шампанского, пододвигает бутерброд с икрой. Азеф ест.)
Азеф. Итак, Петр Иванович?
Рачковский. Вы провалены. (Азеф, поперхнувшись, кашляет, задыхается.) Ну-ну, еще не все потеряно.
Азеф. Из… воль-те по-дробности…
Рачковский. Третьего мая по вашему донесению мы взяли в Петербурге вашего конкурента и врага эсера Гершуни. Так случилось, наши мерзавцы из тюремной охраны прошляпили: он сумел передать в ЦК партии письмо, где обвиняет вас в провале и сотрудничестве с охранкой.
Азеф. Идио-о-оты! Подлецы!
Рачковский. Мы сделали все, что смогли: подстраховали вас показаниями двух уголовников, подбросили эсерам еще один вариант провала Гершуни. В ЦК состоялось совещание. Кажется, наша утка сработала: вас активно защищали Савинков и Брешко-Брешковская. К тому же воссиял ваш ореол бомбиста.
Решения никакого, слава богу, не принято. Но все висит на волоске. Нужно безотлагательно подтверждать ваш героизм. Что у вас в работе?
Азеф. Готовим теракты против князя Оболенского и генерала Богдановича.
Рачковский. Мелко. Мелко! Это царские зайцы. А в нашей ситуации нужно валить медведя. А еще лучше – двух.
(Азеф сомнамбулически смотрит в стену.)
Да очнитесь , черт возьми! Не время киснуть. Тем более, что… я не все еще выложил.
Азеф. Ну, добивайте.
Рачковский. Здесь, в Париже работает комиссия, посланная самим Плеве. По мою душу. Вот дословно точное напутствие от Плеве комиссии: тайные агенты Рачковского – не агенты полиции, а фиктивное прикрытие для революционеров. Например, Азеф: этого мерзавца давно пора повесить. Делайте выводы.
Азеф. Вы… вы сдаете нам этого «медведя»?
Рачковский. Что значит «сдаю»? Я дарю вам способ сохранить вашу мно-го-цвет-ную жизнь.
Азеф. Вкупе с вашей?
Рачковский. О моей я сам позабочусь. Я вас больше не задерживаю.
Азеф. Петр Иванович, вы же знаете, я готов вам сапоги вылизать за сей подарок. Ваш Плеве за нашего Гершуни – весьма жирный гешефт. Я взмою после этого на эсеровскую вершину, к нашему общему удовольствию.
Рачковский. Евгений Филиппович, голубчик, мы вели речь о двух «медведях».
Азеф. Кто?
Рачковский. Столыпин. И ваша вершина станет Олимпом.
Азеф. А ваша – креслом министра, когда я сдам вам наших охотников на «медведей».
Рачковский. Ах, сво-олочь, ну, иезуит! (Хохочут. Пьют.)
Азеф. Петр Иванович, при случае, будучи уже министром, просвятите обожаемого монарха: что такое наш с вами незыблемый союз. Вы нашими руками чистите свои ряды, мы вашими – свои. Это и есть высшая стадия конституционной демократии.
(Мастерски копирует Ленина.) И конечная цель мировой революции!
Рачковский. (Аплодирует, смотрит на часы.) У меня через пять минут очередное рандеву.
Азеф. Исчезаю-с! (Нацепив бороду, брови, шамкает.) Храни вас сатана, мсье. Меня ждет моя Жужу. (Уходит.)
Рачковский смотрит на часы, моет бокалы, приводит в порядок стол. Колокольчик. Рачковский открывает. Входит Юлиана Дмитриевна Глинка, агент по кличке Юстина.
Рачковский. Юстина, вы очаровательны и по-королевски точны. Как обстоит дело с «хвостом»?
Глинка. Это моветон, Петр Иванович, из года в год задавать один и тот же вопрос. Вы же знаете про мой глаз на затылке.
Я здесь по категорическому вызову. Что стряслось? Что-нибудь такое… о господи! Петруша, я по тебе соскучилась! (Целует Рачковского.) О-ля-ля! А-ля фуршет? В мою честь?
Рачковский. В твою, розанчик, в твою.
Глинка. Стареете, Петр Иванович, в сантименты потянуло. Агента надобно в черном теле держать, он в работе злее. Ну-с…
Пьют шампанское, целуются.
Рачковский. Ах, сладко! Богиня.
Глинка. Какой-то вы сиятельный ноне, Петр Иванович, не к добру.
Рачковский. К добру, душа моя. Готовься принять столь отрадный твоему сердцу облик фрейлины Марии Федоровны. Как прежде.
Глинка. Неужто… в Петербург?!
Рачковский. Через два дня. Поможешь мне с агентурной картотекой для передачи преемнику. Кое-что нам надо оставить для себя, поскольку сюда уже не вернемся.
Глинка. Петруша… но я… но меня не выпустят.
Рачковский. Опять проигралась? Сколько?
Глинка. Три тысячи франков.
Рачковский. Не по чину азарт, сударыня. Мой агентурный фонд не бездонен. Покроете долг на панели.
Глинка. От вас несет Плюшкиным и Собакевичем вкупе. Успокойтесь. Именно эти я занималась в последние дни у мадам Жоли. Извольте просмотреть итог. (Вынимает из сумочки свернутый трубкой конверт, бросает на стол.)
Рачковский. Что это?
Глинка. Продувшись в рулетку, я предложила ангажировать себя мадам Жоли на два-три дня с условием – клиентов выбираю я.
Рачковский. Ведала бы вдовствующая императрица, с каких помоек к ней впорхнет фрейлина Юлия.
Глинка. Так вот, является к Жоли некий господинчик петушьего обличья, в котелке, весь в черном, с алмазами на перстах и с ним пять держиморд, кои с этого петушка пушинки сдувают. Дичь, сам понимаешь, для кошечек мадам Жоли невиданная. Писк, визг, декольте до пупков, ажиотажец на грани обморока.
Ну и тут выплываю я – фрегат ее императорского величества. Порода, Петруша! «Котелок» бросает мадам Жоли тысячефранковую пачку, меня – в золоченую карету и – в чертоги.
Рачковский. Где они?
Глинка. Жидо́к осторожен был. Черные шторки на оконцах, а перед выходом – мне эдакий клобучек на голову, как соколихе после полета.
Да ты, я вижу, не слушаешь!
Рачковский. (Просматривает рукопись из конверта.) Продолжай.
Глинка. Завели, рассупонили от клобучка. Бог мой! Такой роскоши, Петруша, просто не бывает. Куда нашей матушке Марии Федоровне, куда императрице!
Рачковский. Ты у Жоли была под своим паспортом?
Глинка. Сударь вы мой ненаглядный, ну кто же из фрейлин в проститутки со своим паспортом ныряет? Я панельная курочка Ларина.
Рачковский. Умница.
Глинка. Ну-с, пока петушок спускал панталончики, пуговки расстегивал, пейсики за уши закладывал, я сейф усмотрела: черная махина с позолотой в стену вделана. Петруша, терпеть не могу пустозвонить! Может, оставить тебя? Ты не слушаешь.
Рачковский. (В его взгляде нечто страшное.) Продолжай.
Глинка. Господи, да что с тобой?!
Рачковский. Итак, сейф. С позолотой.
Глинка. Ты же знаешь, я всегда держу в этом перстеньке снотворное. Капнула в бокал петушку, сама свой опорожнила. В охапку козлика моего и – в перины. Жиденький оказался, похихикал и сомлел за двенадцать минут. Ключ у него на шее, на цепочке висел. Сейф открыла малыми хлопотами. И что?! Этот конверт с листочками! Тьфу! Все, пус-с-сто! Выглянула в окно – третий этаж, внизу кустарник стрижен под гребенку, за ним Монпарнас. Ну, сбросила конверт в кусты, все приметила. Ключик петушку на шею – и баиньки с ним.
Вечерком обыскали и к мадам Жоли доставили. А ночью вернулась и конверт подобрала.
Ну-с, и что в нем, господин полковник? Потянет хоть на половину рулетного конфуза моего? Хотя, Петенька…, кажется, я тебе нечто бесценное раздобыла… экий ты очумелый. Дай хоть одним глазком глянуть на добычу. (Заглядывает через плечо Рачковского.) «Протоколы… мудрецов». Что за протоколы?
Рачковский убирает исписанные листы.
Рачковский. Потом, Юстинушка. Налей-ка шампанское, отпразднуем отъезд. Надеюсь, содержимое твоего перстенька там и останется? Мне спать не ко времени.
Глинка. У тебя были шутки поинтереснее.
Рачковский. Ты никому обо всем этом, ни с кем?
Глинка. Нет. Нет! Послушайте, господин Рачковский, может, вы все-таки скажете, что за «протоколы» прячут в сейфы парижские Ротшильды? Я ведь могла и не приносить…
Рачковский. В них действительно нечто… я, пожалуй, погашу твой долг. (Дает пачку денег.)
Глинка. О-ля-ля. Либо вы сами стали Ротшильдом, либо эти протоколы…
Рачковский. У нас будет время на разгадку. Ну-с, богиня… я так давно не вкушал ваших прелестей. Марш в постель!
Глинка. Наконец глас не мальчика, но мужа. Рачковский, извольте ко мне.
Рачковский. Иду, несравненная! (Идет с бокалом шампанского.) Нет-нет! Повернись, я сам! (Поворачивает Глинку спиной вверх, кладет на спину подушку и, достав револьвер, стреляет через подушку. Отходит.)
Глинка. (Поднимает голову.) Ты… в сердце хотел… да запамятовал… я… уродина… сердце у меня… справа! Все… прощай, ваше звериное превосходи-тель-ство…
Рачковский задавленно воет. Начинает собирать саквояж.
III
Дом Столыпина в Саратове. Входят Столыпин с Кривошеиным и князем Оболенским. Слуга Казимир принимает у всех верхнюю одежду.
Казимир. Стол накрыт, ваше превосходительство. Прикажете подавать?
Столыпин. Благодарю, голубчик, умоемся, и подавай. Вот что, ты бы сам ныне потрудился, не надо остальных.
Казимир. Слушаюсь, ваше превосходительство.
Столыпин. Что у нас ныне для чревоугодия?
Казимир. Солянка да индейка с шампиньонами.
Столыпин. Это будет, надо полагать, валтасаров пир.
Кривошеин. Во время чумы.
Столыпин. Пожалуй.
Столовая. Входят, вытирая руки, Столыпин, Кривошеин и Оболенский. Садятся за накрытый стол. Казимир вносит супницу, разливает по тарелкам.
Казимир. Час назад телеграфировали из Колноберже: Ольга Борисовна с Машенькой едут-с.
Столыпин. Вот и ладно. Значит, скоро будут. Иди, голубчик.
(Едят.)
Кривошеин. До сих пор мороз по коже. Из него отбивная станет…
Столыпин. Похоже.
Кривошеин. Н-да.
(Едят.)
Столыпин (откладывает ложку.) А я видел то, что стало с Плеве. Выражаясь тем же, гастрономическим языком – кровяной бифштекс в гарнире из шести охранников-велосипедистов.
Кривошеин. Я только приехал из Сибири, не успел в кабинете раздеться, как мне докладывают: Плеве разорван. Чудовищно.
Столыпин. Идет схватка не на жизнь, а на смерть. Кто кого. По всей империи. За всем этим – кожей, позвоночником чую какую-то страшную, разрушительного ума силу. Она наблюдает, она планирует, она короедом точит плоть России. Она во всем. Эта война с Японией… Дебильный набор предательских отступлений и еще более идиотических наступлений, когда неприятель окружен большой кровью, предназначен к уничтожению. Но тут же следует чей-то смердящий приказ: руки прочь! Назад! Их совокупность слишком сатанински логична и разрушительна, чтобы списать все на русскую благоглупость!
Кривошеин. Предательство как трупный запах ползет над умами.
Столыпин. Один теракт за другим… гаснут в крови государственные, сановные умы, цвет России. И в присяжных у бомбистов кто? Либерал! Более того, помещик! Наш саратовский Базилевич, вероятно, от ожирения мозгов дважды жертвовал крупнейшие суммы на эсеровские газеты. И они же! Его же! Запалили первым. Воистину змея, кусающая свой хвост!
Кривошеин. Нашему либералу-газетчику уже, вероятно, стоит памятник в чертогах сатаны.
Столыпин. Чертями из табакерки выпрыгивают и присасываются к государю заливистые политические шавки. Кто вытолкнул в премьеры Витте? Как могла эта фарисеева кукла, обожающая более всех себя, как могла она ухватить отеческий штурвал? И государь утвердил. Кто стоит за этим? Наваждение. Этот фарфоровый Филипп подле императорского трона. Некий католический лекаришка-гипнотизер осмеливается во всеуслышание поучать и обличать святейший синод! И государь конфузливо молчит! Ах, ладно, не могу… Давайте лучше о вашей поездке. Как там в Сибири?
Кривошеин. Меня будто омыли в купели. Эти просторы, богатства земель и лесов потрясают душу. Если наш проект реформ будут одобрен министром и государем – Россия воспрянет. За Уралом возможно расселить более двух миллионов семей.
Петр Аркадьевич, это конец общине, ее ржавым обручам на теле крестьянской предприимчивости. Она умрет с вашим именем на устах.
Столыпин. О мертвом либо ничего, либо хорошо. Община помогала империи выжить в веках лихолетий. Это истина. Но, черт возьми, сколько же можно выживать? Надобно когда-то и жить!
Ныне – равенство нищеты, завистливое братство бездельников: у меня одна коза, а у тебя, сволочь, две коровы?! Да издохнут они! Рассадник революционной чумы…
Вы приметили в нынешнем погроме у Тотлебена некое общинное сладострастие от вековечной тесноты? Дерьмо – на позолоту стен, лаптем – в морду на фамильном портрете, дубиной – по Фаберже! Не-ет, хватит. Надобна селекция и поддержка сильных, способных к безразмерному труду. В них – опора империи, в двужильных, переселенных из общинной теснины на сибирский простор. А уж там пусть сколачивают то, к чему завет инстинкт: артели, товарищества, корпорации. Но это уже будет равенство крепких, богатых и свободных от зависти!
Кривошеин. Поберегите силы, Петр Аркадьевич, еще подтекать под этот лежачий камень – государя.
Столыпин. Да уж.
Казимир. Ольга Борисовна с Марьей Петровной прибыли-с!
Входят жена и дочь Столыпина.
Ольга Борисовна. Боже мой… боже мой! Что происходит! Вагон по пути забросали камнями, побили стекла, пять раненых, порезанных пассажиров. Митинги на перронах. Полыхают усадьбы! Среди бела дня! Мы насчитали по пути сюда три обгоревших… одна из них, кажется, графа Тотлебена.
Столыпин. Ты не ошиблась. Мы были на пожаре.
Ольга Борисовна. Какой ужас! Что там?
Столыпин. Позже.
Маша. Папа́! К нам в разбитое окно бросили прокламации. Вот.
Столыпин. Покажи.
Маша. «Свобода, равенство, братство!» Ты разъяснишь мне?
Столыпин. Мы поговорим об этом позже.
Ольга Борисовна. Прошу прощения, господа, я в шоке от дороги, не удосужилась здравия пожелать. Я ужасно рада вас видеть, господин Кривошеин, и вас, князь. Милый князь, ваше мужественное благородство при Петре Аркадьевиче так успокаивает в это грозное время.
Оболенский. Благодарю, Ольга Борисовна.
Ольга Борисовна. Семен Власович, сколько же длилась ваша инспекция по Сибири?
Кривошеин. Почти месяц, сударыня.
Ольга Борисовна. Мы решительно соскучились по вашей мягкой душе. И по добрым вестям!
Кривошеин. Я их привез полный короб.
Ольга Борисовна. Чу́дно, расскажите. Казимир, будь добр, еще два прибора.
Казимир. Уже несу.
Столыпин. Казимир, приглашай к обеду генерал-адъютанта Сахарова.
Казимир. Я уже справлялся. У его высокопревосходительства еще в приемной посетительница.
Кривошеин. Он у тебя в кабинете?
Столыпин. Да. На несколько дней. Я велел оборудовать под его кабинет комнату на втором этаже, рядом с моим. Но пока он в моем кабинете, я ведь пятый день в разъездах.
Маша. Папа́! Ты сказал «позже» о прокламации. Позволь сейчас.
Столыпин. Если это будет интересно присутствующим.
Маша. Господа! Вы позволите? Право, этот листок жжет мой мозг угольями.
Кривошеин. Отчего же нет? Эта тема нынче жжет всю Россию.
Маша. Мама́? Князь?
Ольга Борисовна. Машенька, что ты намерена выпытать у нас?
Маша. Я хочу понять, почему эти Христовы заповеди «Свобода, равенство, братство» принесли только горя и раздора в Отечестве.
Столыпин. Во-первых, они не совсем Христовы, ибо искажены до неузнаваемости и приспособлены низкими людьми в своих грязных целях.
Маша. Но почему? Что низкого в свободе? Если поставить человека перед рабством и свободой, он всегда выбирает свободу. И я выберу!
Столыпин. От чего?
Маша. Что ты имеешь в виду?
Столыпин. Выберешь свободу от чего? От обязанностей, предписанных нам Богом и обществом?
Маша. Я не понимаю.
Столыпин. Ты видела из окна поезда полыхающие усадьбы, озверелые толпы, кровь и горе. Это и есть протуберанцы того светила, что зовется «свободой». К свободе позвали имперский корабль хищные сирены революции. Ныне он, теряя управление, мчит на скалы.
Студент возомнил, что он свободен от занятий, от умственной, мучительной работы мозга. Он вышел вопить и бесноваться на площади, где правительство вынуждено пороть его нагайками, вызывая ответную злобу и закрытие университетов.
Бомбисты возомнили, что они свободны от нравственной заповеди «не убий». И убивают наших высших сановников, внося в империю кровавый хаос.
Рабочий возомнил, что он свободен он навыка работать с машиной и корить семью. И правительство вынуждено возвращать его в цеха силой, вызывая взаимную ненависть.
Как только яд свободы от своих обязанностей пропитывает человеческую особь – она погибает. Свобода – это химера, разрушительный, но сладкий яд.
Маша. Я поняла. Но равенство и братство…
Столыпин. Скажи, дочь, от какого неравенства ты страдаешь? С кем бы тебе хотелось сравняться любой ценой?
Маша. Но причем тут я? Ни с кем.
Столыпин. Мы с Семеном Власовичем были утром у полыхающей усадьбы Тотлебенов. Ее поджег и бесновался на пепелище Безымянный зверь, зараженный бешеной завистью. Он крушил мебель, картины, вазы, вспарывал и выкалывал глаза лощадям. Этот зверь исповедовал идею равенства, граф Тотлебен, чей блестящий ум знает Европа, обязан, оказывается, быть равным с толпой, а значит, не иметь картин, ваз и лошадей.
Маша. Тогда в чем идеал для крестьянина? Или его нет на земле?
Столыпин. Есть. Высший идеал в справедливости. Мы, сановники государства, обязаны дать нашему народу изначальную справедливость, справедливые условия для развития: наделить землей, инвентарем, кредитом, всеобщим начальным образованием.
Но учти, тут же проявится и воспылает неравенство от неравных способностей в каждом. Одни, наделенные талантом и трудолюбием, приумножат первоначальный капитал. Вторые – пропьют, проспят или проболтают его, чтобы назавтра на белом коне свободы потребовать равенства у преуспевшего.
Выстрел. Слабый вскрик. Князь Оболенский срывается с места, выбегает.
Ольга Борисовна. Что… что это?!
Оболенский и Казимир вводят, заломив руки за спину, молодую особу в шляпке с вуалью.
Казимир. Ваше высочество! Эта мерзавка… (Срывает с особы шляпку.)
Террористка. Не сметь, хам!
Столыпин. Князь, что там?
Оболенский. Генерал-адъютант Сахаров…
Столыпин. Ну?!
Оболенский. Мертв.
Террористка. Какой Сахаров?!
Оболенский. Петр Аркадьевич… (Протягивает листок бумаги.) Здесь приговор вам.
Столыпин. Читай.
Оболенский. «От имени Центрального комитета социал-революционной партии душитель революции, губернатор Столыпин приговаривается к смертной казни».
Террористка. Вы Столыпин?!
Оболенский. Она переждала в приемной всех посетителей, зашла якобы с прошением, вот этим.
Столыпин. Врача Сахарову!
Оболенский. Уже послали. Но… бесполезно. В упор, в голову.
Столыпин (подходит к террористке.) Позвольте узнать, за что вы несли смерть Столыпину?
Террористка. Как царскому сановнику, сатрапу и душителю народной революции.
Столыпин. А что даст революция народу?
Террористка. Свободу, равенство, братство!
Столыпин. У вас есть братья или сестра?
Террористка. Я одна у родителей.
Столыпин. И вы решили взять на себя роль буревестника?
Террористка. Если вам так угодно.
Столыпин. Мне угодно с прискорбием оповестить вас. Первое: вы не буревестник, вы вульгарный гибрид заморского попугая и русской канарейки, обученный набору бессмысленных фраз. Второе: на вас прервется и исчезнет с лица земли ваш род. Мы вас повесим. А я продолжу душить революцию!
Террористка. А-а-а-а! Зверь! Ненавижу!
Оболенский с Казимиром выводят террористку.
Столыпин. Маша, запомни, вот истинный лик революции – ненависть. Оля, крепись. Идем отдать последний долг убиенному.
Казимир (возвращается.) Ваше высочество, телеграмма из Царского Села.
Столыпин (разворачивает телеграмму.) Оленька, я должен прибыть к государю императору.
IV
Кабинет хранителя отдела «Россика» Петербургской публичной библиотеки А.И. Браудо. За столом сам Александр Исаевич.
С многочисленной свитой входит председатель совета министров граф Витте.
Витте. Александр Исаевич, нельзя же так…
Браудо. Тс-с!
Витте. Что значит ваше «тс-с»?
Браудо. В публичной библиотеке нельзя ходить толпой. Ваш покорный слуга умоляет сиятельного графа остаться здесь одного.
Витте (свите). Подождите в зале.
Браудо. Разденьтесь, граф. У меня тепло. И мы будет работать.
Витте. Что все это значит? Председателя совета министров телеграммой из Парижа приглашают быть у Браудо в библиотеке. Если у вас была нужда ко мне…
Браудо. Это у вас нужда ко мне, граф.
Витте. А вы не могли прийти… ко мне?
Браудо. Приходить ко мне будете вы, Витте. Кто такой библиотекарь Браудо, чтобы мозолить глаза председателю правительства и сиятельному графу? Но сиятельный граф обязан ходить в библиотеку, чтобы казаться умным для России.
Теперь к делу. Что вы знаете о попе Гапоне?
Витте. Его авторитет достаточно высок у рабочих.
Браудо. Сейчас сюда приведут Гапона. Посоветуйте Гапону организовать демонстрацию к царскому дворцу. А вы потом сумеете выжать из царя сладкую жизнь для рабочих и конституцию для России. Вот вам проект Конституции. (Дает папку.) Работайте, граф. (Уходит.)
Через некоторое время входит Гапон.
Витте. Рад вас приветствовать, Георгий Аполлонович.
Гапон. Весьма польщен и удивлен вашим вниманием, господин Витте.
Витте. Надеюсь, вы понимаете, почему наша встреча именно здесь? Премьер-министру царского правительства принимать у себя вожака и защитника рабочих, бунтаря, пламенного оратора…
Гапон. Вы мне льстите, граф.
Витте. Не до лести тут, батюшка. Я буду прям: при дворе пронемецкая позиция императрицы, черносотенная – вдовствующей императрицы, змеиный клубок интриг, подсиживаний, грязной возни за место, приближенное к императору.
Мои попытки достичь внимания государя с целью улучшения рабочего положения разбиваются обо все это вдребезги. Нужны кардинальные решения царя, нужен манифест, конституция, кои облегчат их каторжное, нищее прозябание.
Именно поэтому я инкогнито призвал вас с просьбой… может быть, даже с мольбой о помощи.
Гапон. Но, ваше сиятельство… что могу я, смиренный слуга господний, ничтожный священник, заслуга которого лишь в обретенной любви рабочих?
Витте. Ах, батюшка, вы столь же скромны, сколь и влиятельны в низах. Ваше отеческое влияние на рабочих общеизвестно. Призываю: идемте же вместе к великой цели – облегчить их муки.
Гапон. Что предпринять, граф? Велите.
Витте. Батюшка, о каком велении речь? Всего лишь сострадательное раздумье: а не организовать ли вскоре… ну, скажем, девятого января манифестацию с молитвами, хоругвями и мирной мольбой к своему государю об милости, об улучшении каторжного положения? Это возможно?
Гапон. Приложу все свои слабые силы, ваше сиятельство.
Витте. Если манифестация состоится и потрясет душу монарха, тогда и моя роль облегчится, я, даст Бог, сумею добиться высочайшего манифеста и конституции.
Гапон. Я… я сотворю грандиозное шествие.
Витте. Именно. Оно должно быть грандиозным. С Богом, батюшка. И Россия вас не забудет.
Уходят. Появляется Браудо.
Браудо. Рачковский, где вы там? (Из-за портьеры выходит Рачковский.) Ну что?
Рачковский. Витте бесподобен, Гапон станет магнитом, дабы организовать шествие. Что надлежит сделать мне?
Браудо. Петербургский генерал-губернатор Трепов несколько дней ввинчивал в череп Николая одну немудреную мыслишку: без абсолютных полномочий Рачковскому революция скушает империю.
К тому же у полковника Рачковского имеется агентурное сообщение государственной важности. Я император. Что вы имеете сказать для государя, полковник? Что вы таращите глаза? Это же я, Ники-император, вы что, не узнаете? Говорите.
Рачковский. Государь…
Браудо. Пошли вы к черту, полковник, с вашей кислой мордой. Вы совсем не верите про меня, что я император.
Рачковский. Государь!
Браудо. Что?
Рачковский. Из надежнейших агентурных источников нам стало известно о готовящейся к 9 января грандиозной манифестации.
Браудо. Ай-яй-яй.
Рачковский. В начальном течении ее она будет иметь мирный вид, но по мере скопления масс на Дворцовой площади революционные элементы возбудят их и бросят на бунт со вторжением в Зимний дворец!
Браудо. Чтоб они сдохли, сволочи.
Рачковский. Александр Исаевич, это, наконец, балаган…
Браудо. Молчать, мерзавец. Что вы предлагаете императору?
Рачковский (абсолютно обескуражен). Ваше величество…
Браудо. Что, полковник?
Рачковский. В такой ситуации совершенно необходимо будет разместить в засадных местах войска, снаряженные боевыми зарядами и использовать их полную боевую мощь в критической ситуации.
Браудо. Мы последует вашему совету, генерал Рачковский.
Рачковский. Готов отдать жизнь за ваше величество.
Браудо. Шейте форму генерал-майора. Но прежде подарите любезность своему императору, ответьте на два маленьких вопроса.
Рачковский. Как перед Богом.
Браудо. Зачем вы стреляли на агентурной парижской квартире в проститутку Ларину? Она же – фрейлина вдовствующей императрицы Глинка.
Рачковский. В-ваше величество, государь-император…
Браудо. Тамбовский волк тебе император. Вопрос другой: в Саратове вместо Столыпина вы ухлопали Сахарова. Столыпина вызвал Николай, чтобы назначить министром. Зачем нам дохлый Сахаров и живой Столыпин при царе?
Рачковский. Я… я немедленно допрошу Азефа.
Браудо. Летите, Рачковский. Император ждет вас завтра. А после высочайшей аудиенции мы продолжим беседу про Ларину-Глинку. Ею оч-чень интересуется Париж за ее карточные долги. И еще кое за что, украденное из сейфа.
Рачковский выходит.
V
Отдельный кабинет ресторана. Стол, телефон. За столом сидит, просматривает объемистое досье лейтенант фон Бок – военно-морской атташе германского посольства. По углам кабинета стоят охранники.
За стенами идет приглушенная гульба: цыганский хор, гитары, женский визг, музыка. Гульба приближается. Распахивается дверь, вваливается расхристанная орава во главе с Распутиным. Он голый по пояс, в плисовых шароварах. В сапогах, подпоясан своей красной рубахой.
Распутин. Ну и куды таперь, милай? Князь, Аннушка, иде вы? Пошто в задах обретаетесь… вы куды меня завели, голуби мои?
(Всматривается в фон Бока.) Прыщ за столом – это хто?
Бок. Шлюх убрать. Этого одеть.
Двое охранников сноровисто выдавливают цыган и бабью рать за двери, еще двое одновременно и ловко, как на куклу, надевают на Распутина рубаху.
Распутин. Шустрый прыщ, однако, графинюшку императорскую с князем вытурил. И что далее? Никак головенка своя не дорога?
Бок. Князь Андронников с Вырубовой у нас на содержании. Их место за дверью.
Распутин. Ежели князь меня содержал, а ты его, выходит, я и подавно твой скворец и подпевать с усердием должо́н? (Свистит и щелкает.)
Бок. Это есть признак сообразительности.
Распутин. А килу, грыжу по простому, не заработаешь троих-то содержать? Особливо меня. (Плюхается в кресло.)
Бок (читает справку). «Распутин Григорий, сын Ефимов, рожден в 1872 году в селе Покровское Тюменского езда, из крестьян».
Распутин. Верна.
Бок. «Конокрадствовал, воровал. В 1896 году изнасиловал семидесятилетнюю старуху нищенку Ле-ко-ни-дов-ну, затем тринадцатилетнюю девицу Хеону Гусеву совратил и испортил».
Распутин. Было.
Бок. «Бит мужиками. Лежал два месяца. В 1901 году лишил невинности монахиню Изотову, растлил четверых малолетних. Сильно бит, ломаны ребра, лежал три месяца».
Распутин. Слышь, прыщ, то хто?
Бок (щелкает пальцами). Немного учить.
Четверо, выдернув Распутина из кресла, умело и жестоко бьют его.
Распутин. А, батюшки… о господи, воля твоя! Во князюшка заманил… Во удружил… Господин хороший, можа будя?!
Бок. Прекратить. (Распутин враскоряку движется к креслу.) Зови меня барон фон Бок. Я военно-морской атташе германского посольства. Стоять!
Распутин (садится). Ты поглянь, какой голосок у тебя чугунистый. Стоять мне теперь несподручно. Слышь, фон-барон, меня ведь и не так мутузили. Однако битьем из меня дело-то не выколотишь. К тому ж цыгане маятся, князек ждет, у бабочек моих давно уж мокренько, пожалел бы их маяту по старцу. Тебе чего от Григория надобно?
Бок. Для начала – подтверждение этого (утыкает палец в досье).
Распутин. Ну, валяй. У меня самого интерес взыграл, что там наскоблили с бытия мово.
Бок (читает). «Разделяет взгляды и покровительствует вместе с монахом Илиодором секте хлыстов».
Распутин. И сюда нос просунули!
Бок. «Телосложение крепкое, здоровье отменное, длина пениса двадцать четыре сантиметра…»
Распутин. Ково… длина?
Бок. Деторождаемого органа. Это меньше, чем у осла, но больше чем у кобеля. Ты есть существо посрединное.
Распутин. Шуте-е-йник. И орга́н в протоколе обозначили. То-то у меня прохвессор ентот с линейкой под пупком лазил.
Бок. По заключению профессора Бехтерева Распутин – сексуальный истерико-эпилептик, опасный для общества.
Распутин. Тьфу, слова-то срамные!
Бок. «Обладает ненормальной половой возбудимостью, в течение длительного времени не может закончить половой акт, теряя во время оного человеческий облик и беспрерывно меняя половых партнерш, чем прививает им половой гипноз».
Распутин. Мудер прохвессор. Уважаю. Все как есть, начиная с орга́на.
Бок. «Обследовавший Распутина психолог доктор Раушенбах зафиксировал в оном сильную волю, большие способности к гипнотическому внушению». Это так, Распутин?
Распутин. Хошь, покажу?
Бок. Это совсем интересно.
Распутин. На дак начнем, благословясь.
Подходит к фон Боку, уставившись, делает пассы руками. У него вздувается шея, глаза лезут из орбит.
Распутин. Спи, моя избушка, да на курьих ножках, ставеньки захлопни, ножкою притопни… захлопни-то ставеньки, захлопни! (Фон Бок закрывает глаза, роняет голову на грудь.) Отон ты и весь тута, у меня! И не таких в бараний рог сгинал! Таперя подымайся. Гули-гули, фон бароновый. Ступай ко мне. (Фон Бок встает из-за стола, сомнамбулически движется к Распутину.) Ах ты цыпа моя сердитая… ну-ка, цыпа, покудахтай в знак того, что ты есть натуральная курица!
Бок. Ко-ко-ко…
Распутин. А давай-кося, цыпа, мы на тебя ощипанную глянем… сюртучок то сыми… сымай одежку, мое тебе повеление!
Фон Бок открывает глаза и подносит к носу Распутина кукиш.
Распутин. Ты что ж, комедь ломал над старцем?!
Бок. Сила гипноза есть. Но для меня ты слаб, Новых.
Распутин. И фамилию мою разузнал? Ох, силен, германец. Я ведь на этом гипнозе промаху не знал, осерчаю – любого в бараны производил. А ты, милай, устоя-а-а-ал. А вот эдак устоишь?
Неожиданно, с ревом бросается к фон Боку, но подсеченный приемом джиу-джитсу летит на ковер.
Бок. Ты цел, старец?
Распутин. И драке заморской обучен? Ну, люб ты мне.
Бок. Я многому обучен. К делу, Новых.
Распутин (поднимается). Ты бы меня Распутиным, милай, величал, отвык я от своей фамилии, в ушах она свербит. При ней-то мне ребра ломали. А вот как Распутиным стал – князья да графинечки как мухи на дерьмо липнут, по ресторанам деньгой обсыпают.
Бок. Деньги счет имеют. На тебя потрачено князем Андронниковым двенадцать тысяч шестьсот рублей. Их пора отрабатывать.
Распутин. Ох, не люба мне всякая работа, фон-барон. Отвык, не обессудь. Ну ее к бесу. И что ты на это сделаешь со мной?
Бок. На это есть справка профессора Бехтерева. Он известен всему миру. Ты сексуально-половой эпилептик, опасен для общества. Мы обязаны доставить тебя отсюда в психическую больницу. Там наши врачи. И свое кладбище. Распутин и его пенис уйдут в землю.
Щелкает пальцами. Охрана движется к Распутину.
Распутин. Вон для чего меня энта гадюка подколодная к профессору тянул!
Бок. Андронников – не гадюка. Он ручной уж. И ты будешь носить его в кармане. Но надо захотеть.
Распутин. А что от меня-то надобно?
Бок. Быть при царе.
Распутин. Че-вой-то? Фо́нюшка, барончик милай, ты это об чем?
Бок. Слушай очень внимательно.
Распутин. Ну.
Бок. У наследника императора цесаревича Алексея болезнь гемофилия – жидкая кровь. Трудно остановить любую кровотечь.
Распутин. Ну, слыхал от Аннушки.
Бок. Анна Вырубова имеет обязанность кормить цесаревича. Лекарь Бадмаев при царе готовит ей тибетские порошки, хорошие и плохие. Вырубова подсыпает один – кровотечь становится сильнее, подсыпает другой – и кровотечь затихает.
Распутин. Ти-ха! Милай, эдакие вещи да на чужое ухо? (На охранников.)
Бок. Болваны не знают русского.
Распутин. Ой, рисковые вы человеки, германцы…
Бок. Вчера Вырубова стала давать цесаревичу второй порошок. Кровотечь должна остановиться через три дня. Завтра тебя поведут к царю.
Распутин. Как это «поведут»?
Бок. Мы это сделали большими деньгами. Царь и царица послушали Вырубову, великих княгинь Анастасию и Милицу, духовника царя Феофана. Император готов принять тебя для осмотра цесаревича. Ты проведешь сеанс гипноза. Царевич уснет, и кровотечь скоро остановится.
Распутин. А ежели не остановится?
Бок. Этот порошок из женьшеня и оленьих пант много проверен, он сильно замедляет болезнь, делает кровь густой.
Распутин. И Григорий, выходит, явится в сане спасителя царевича и престола. Та-а-ак, та-а-акушки. Ну, а далее куда свой фарт направлять?
Бок. Далее нужно, чтобы царица полюбила и слушалась тебя, как Вырубова. Она и Николай должны делать то, что мы тебе скажем. Им надо узнать от тебя, что Витте есть лакей французов, а Франция есть враг России. Но Германия – лучший друг. Мы научим тебя, что говорить, есть время для этого.
Распутин (долго молчит). Ты какого хрена, немчура бароновая, мне голову дурью забивал? Это же совсем другое дело! Да я за такое дело хучь на крест, хучь на плаху готов, коли порезвиться разрешено всласть!
Эвон куда вползти навостряемся… ежели Гришу подсадите…
Бок. Подсадим, Григорий Ефимович.
Распутин. Дай я тя пацалую! (Хватает фон Бока за уши, взасос целует.)
Бок (сплюнув). Все, что говорить Николаю, тебе передадут князь Андронников и Вырубова. У них брать деньги.
Распутин. А много ли на это дело… спущено?
Бок. Германия хорошо платит за свои интересы при русском дворе. Гуляй, Новых, в чине Распутина. Нам нужна слабая, но любящая Германию Россия.
Распутин. Вот оно… подвалило! Открылося! Голову на это дело положу! (Широко, истово крестится.) Господи, благослови раба смердящего твоего, отпусти грехи прошлые. А будущих я уж постараюсь, натворю!
Уходит.
Бок (поднимает трубку). Семнадцать ноль четыре, барышня… фрау, мне посла Фридриха фон Пурталеса. Херр Пурталес, обработка прошла успешно. Гипнотические свойства высокие, он готов к работе с азартом. Яволь, херр Пурталес. Еду.
VI
Воскресенье, 9 января 1905 года. Сцена разделена на две части. Левая половина – зал Зимнего дворца. У окон Николай II, императрица Александра Федоровна и ее фрейлина Анна Вырубова, мать Николая II Мария Федоровна, ее фрейлина Юлиана Глинка – та самая, в которую стрелял Рачковский в Париже.
На правой половине сцены – кабинет Витте, тоже выходящий окнами на Дворцовую площадь. У окна стоит прибывший из Парижа Альфонс Ротшильд. Действие и диалоги идут параллельно, пересекаясь, вклиниваясь друг в друга.
Гнетущее, на пределе нервов ожидание. Пока отдаленный еще, но нарастающий, грозный гул рабочей манифестации, постепенно затопляющей Дворцовую площадь.
Сквозь все изредка прорывается плач и зов цесаревича.
Николай II. Россия взбесилась.
Александра Федоровна. На бешеных надевают намордник.
Николай II. Намордник надевают на злых, но здоровых. В бешеных стреляют.
Мария Федоровна. В Петербурге на один твой выстрел бомбисты отвечают двумя. Ты собираешься стрелять трижды в этой скачке?
Ротшильд. Где Рачковский?
Витте. На площади, вместе с Треповым.
Ротшильд. Они были у царя?
Витте. Они получили от императора чрезвычайные полномочия.
Ротшильд. Гут гешехт. Полюбуйтесь, Витте, у этого скифского зверя внизу роскошный экстерьер. Он-таки вцепится в глотку Романова.
Витте. Что-то не по себе, барон. Грядет большая кровь.
Ротшильд. Витте, нельзя писа́ть историю и пи́сать под себя.
Жалобный плач цесаревича.
Александра Федоровна. Анна! Уймите, наконец, ребенка! (Вырубова бросается в спальню.)
Мария Федоровна. Ники, ты приказал Трепову с Рачковским стрелять?
Николай II. Да. Да!!
Мария Федоровна. Сегодня ты сделал самую большую глупость в жизни.
Николай II. Я всегда для вас глуп, маман!
Мария Федоровна. Иногда, Ники. Но с сегодняшнего дня это хронически.
Николай II. Что бы вы предприняли на моем месте? Эта озверелая лавина внизу готова сокрушить дворец.
Мария Федоровна. Это твой народ, Ники.
Александра Федоровна. Самый грязный, самый пьяный, самый кровожадный!
Мария Федоровна. Вы были и останетесь немецкой занозой в подошве Романовых.
Александра Федоровна. Чем лучше ваша, датская заноза в этой подошве, принцесса Дагмара?!
Николай II. Боже мой! Маман! Аликс! Умоляю вас, остановитесь!
Оглушительные залпы. Мария Федоровна вскрикивает. Вой, рев толпы. Началось кровавое месиво 9 января.
Витте. Как кислотой на мозг…
Ротшильд. Граф. Витте! Не тряситесь в коленках! Теперь я хочу говорить с вашим подпольным японцем.
Витте (поднимает трубку). Три сорок шесть, немедленно. Господин Анимуро? Витте. С вами будет говорить барон фон Ротшильд (дает трубку).
Ротшильд. Анимуро-сан? Обожаю ваше взятие Порт-Артура. Вы таки сделали красную смазь Николашке.
Анимуро. Мы это сделали. Что вы желаете?
Ротшильд. У меня есть предложение вашему императору. Что вы скажете, если Россия запросит у Японии мир? В Портсмунде. На сладких условиях для вас.
Анимуро. Но вы не российский император, барон.
Ротшильд. Ай, какая разница?! Я хочу слышать ваш ответ, Анимуро-сан.
Анимуро. Это интересное предложение.
Ротшильд. Вы еще не знаете, какое оно интересное. Что вы скажете, если Россия даст Японии за Портсмундский мир половину Сахалина?
Мария Федоровна. Николай Второй! Это преступно! Вели же прекратить бойню!
Александра Федоровна. Сбесившееся стадо должно получить то, что заслуживает!
Мария Федоровна. Этой трясогузке не понять происходящего: сегодня ты сам подрубаешь опоры твоего трона! Он рухнет и погребет династию!
Николай II (кричит). Маман! Уже нельзя ничего изменить! Не рвите мне сердце!
Ротшильд. Вы долго молчите, Анимуро-сан.
Анимуро. У вас воспаленная фантазия, господин барон. Половину Сахалина за мир в Портсмунде?
Ротшильд. У нас не деловой разговор.
Анимуро. Что вы хотите за такой мир?
Ротшильд. Снижения тарифных пошлин вдвое на мои товары для Японии.
Анимуро. Эта весть коснется священных ушей императора сегодня же.
Ротшильд (кладет трубку). Витте, я уверен, император желает вас видеть. Тогда что вы здесь стоите?
Витте. Портсмундский мир с Японией, сейчас?
Ротшильд. Когда пал Порт-Артур, когда за окнами оскалилась морда революции, только идиот захочет продолжать войну с Японией. Но он же не совсем идиот, Витте? Идите и просите у него полномочий на любой мир с Японией, на самый похабный. Сейчас он даст эти полномочия, клянусь мамой и святым Кудром – даст! Вырвите их из царской глотки и суньте ему на подпись манифест. Обещайте ему заем от Франции для борьбы с революцией. Мы дадим ему этот заем, но такой, что с нами будут расплачиваться его внуки.
Большая политика – это всегда большая кровь. А умные люди делают на крови хорошие деньги. Учитесь делать большую кровь, Витте, и вы будете иметь большие деньги.
Витте берет у Ротшильда папку, идет к двери.
Ротшильд. Граф! На Одесском привозе люди уже просят: «Мадам, будьте любезны, покажите мне новую улицу Витте. Я имею намерение попасть на нее!»
Витте уходит. Ротшильд, глядя в окно, начинает медленно и сладостно приплясывать, вполголоса напевая.
Николай II. Что вы молчите, маман? Как еще можно было остановить эту злобную лавину?
Мария Федоровна. Спроси у Столыпина! Он это делал в Саратове без кровавого позора. Европа обольет вас презрением!
Николай II. Маман! Успокойтесь, я уже пригласил Столыпина для беседы. Вы просили, и я предложу ему место министра внутренних дел.
Мария Федоровна. Идемте, Юлия. У меня не выдержит сердце этого кошмара!
Выходят в коридор из зала. Навстречу почти бежит, смотря перед собой невидящим взглядом, Рачковский – докладывать императору о разгоне демонстрации. Проходит мимо Марии Федоровны и Глинки, едва поклонившись. Но, пройдя, будто натыкается на стену. Оборачивается, смотрит на воскресшую из мертвых Глинку. Его шатает.
Мария Федоровна. Что с вами, полковник?
Глинка. Он потрясен бойней, устроенной на площади, матушка.
Мария Федоровна. Той самой, на которую он сам вчера просил высочайшего одобрения?
Глинка. Именно так, матушка.
Рачковский. Государыня, я потрясен несколько иным и не имею привычки отрекаться от своих деяний. Государь ждет доклада. С вашего позволения…
Мария Федоровна. Я вас не задерживаю, господин… мясник. Идемте, Юлия.
Глинка. Государыня, позвольте мне досказать полковнику остальное.
Мария Федоровна. Если тебе угодно. (Уходит.)
Глинка. Я скоро, матушка. (Подходит к Рачковскому.) У вас жалкий вид, Петруша. Вы сильно полиняли с той поры.
Рачковский опускается на колени. Вынимает револьвер, подносит его к виску.
Глинка. Ах, бросьте эти жесты, полковник, все это было в дешевых романах. (Гладит Рачковского по голове.) Бедный. Ждите, я вызову вас. Явитесь с теми «Протоколами», из-за коих я была вами пристрелена как бездомная собака. Мы все обсудим. В противном случае я раздавлю вас. Идите.
Рачковский (идет в зал, подходит к Николаю II). Ваше императорское величество!
Николай II. Вы как-то истерзано смотритесь, полковник. Впрочем, наверно, и я хорош, особенно в профиль.
Рачковский. Государь, бунтари рассеяны. Генерал Трепов руководит арестами зачинщиков и поисками священника Гапона. Он скрылся.
Николай II. Чует кошка, чье сало съела. Позаботьтесь с Треповым о раненых.
Рачковский. Слушаюсь, ваше величество.
Николай II (снимает с себя орден Святого Владимира, прикрепляет к мундиру Рачковского). Ах, несравненный Петр Иванович, знать бы наперед, как отзовется твое деяние. Что вам подсказывает сердце… на будущее?
Рачковский. Гидра многоголова, государь. Сегодня отсечена лишь одна, не самая крупная голова. И все наши силы пойдут на отчленение остальных. Я готов положить ради этого свою жизнь на алтарь Отечества.
Николай II (отворачивается, промокает слезы). Ступайте… генерал Рачковский. Сегодня будет подписан приказ о вашем производстве. Мы, кажется, теперь повязаны кровью… не так ли?
Входит Витте.
Витте. Государь! (Рачковский уходит.) То, что произошло на площади, может стать началом конца.
Николай II. Конца… чего?
Витте. Династии и империи.
Николай II (неожиданным, злым речитативом).
Черный во-о-орон! Черный во-о-орон!
Ты не ве-е-ейся надо мной!
Витте. Вам нужна… моя отставка, государь? (Николай молчит.) Я готов, ваше величество… если она принесет спокойствие империи! (Николай молчит.) Я оставляю вас, ваше величество… наедине с революцией.
Николай молчит. Витте разворачивается, медленно уходит.
Николай II. Ваше отбытие столь оскорбленно-торжественно, будто у вас есть нечто менее скучное. Или, наконец, разумное.
Витте. Смею надеяться, я принес разумное предложение.
Николай II. В чем его суть?
Витте. Теперь, когда сдан Порт-Артур, Дворцовая площадь залита народной кровью, а революция неотвратимо вспучивает губернскую толщу народа – дальнейшая война с Японией становится самоубийством.
Николай II. Так поезжайте и заключите мир с Японией!
Витте. Он потребует жертв, ваше величество. Говорю это с душевной скорбью.
Николай II. Каких?
Витте. Территориальных.
Николай II. Что вы уже посулили японцам над полутрупом империи? Дальний Восток? Сибирь до Урала?
Витте. Государь… мне действительно лучше подать в отставку.
Николай II. Древние говорили: уходя – уходи. Заключите мир, и мы продолжим эту тему. Что еще?
Витте (протягивает папку). Здесь Манифест к народу.
Николай II. Опять некая, вашего производства казуистика… что там?
Витте. Государь! Вы даруете народу незыблемые основы свободы, неприкосновенность личности, свободу совести…
Николай II. Вот как? А что, совесть может быть несвободна? Ее возможно заключить в темницу?
Витте. Свободу слова, собраний, союзов. Вы признаете Думу законодательным органом.
Государь! История загнала нас в ловушку!! Я понимаю ваш гнев… но из этой ловушки есть лишь один, европейского направления выход! Конституционный! Только так можно выпустить пар из ныне перегретого котла. Либо он взорвется!
Николай II. Либо… его взорвут, Витте?! Вы недавно в кресле премьера, но уже виртуозно усвоили язык ультиматумов своему монарху! Я не обещаю вам подписи на этом документе. И более не задерживаю вас.
Витте. Государь! Два дня назад я завершил огромное дело: финансовые круги Франции, наконец, согласились дать нам заем в три миллиарда франков. Я… я не заслужил такого отношения ко мне!
Николай II. Сегодня во дворце день истерик: вдовствующей императрицы, семейственного премьер-министра… поезжайте, Витте, к японцам. Я смертельно устал.
Витте. Я немедленно отбываю в Портсмунд, государь. (Уходит.)
Александра Федоровна. Ты забыл перечислить меня в истерике! Как он с тобой разговаривал?! Я больше не выдержу, это предел! Варварская страна! Здесь премьеры смеют диктовать монарху! Ники, мое терпение кончилось… я ненавижу здесь все, эти туманы, эту грязную, ненасытную толпу у трона… этот вечный страх!
Николай II. Аликс, успокойся.
Александра Федоровна. Что ты можешь предложить мне кроме этой затертой и пошлой фразы?! Я никогда здесь не успокоюсь! Ники, мы едем назад, в мой фатерлянд. В Гессен, в замок Фридберг! Отец примет нас.
Николай II. Аликс, страх не должен затмевать твой разум!
У входа появляются Вырубова и Распутин.
Александра Федоровна. Мой разум говорит мне: я никогда не буду здесь счастлива. Все беды обрушились на меня в этой дикой московии! Здесь рожден в муках и мучается болезнью мой сын! Я уже не могу выносить его страданий! Я возвращаюсь! Надо собрать чемоданы… где Вырубова… Анна! Мы едем в цивилизацию, она спасет сына!
Распутин. Пошто бросаешь мужа свово, жена слабая и лукавая? Не по-божески это, нехорошо!
Александра Федоровна. Кто… это?!
Вырубова. Святой старец Распутин, матушка императрица. Вы просили о свидании с ним.
Распутин. Каковой одному инператору трон на загривке держать-то, империю сохранять?! Ежели венчаная половина его фордыбачит, в бега ударяется! (Подходит к императрице, вздымает руки.) Ты царицею миропомазана на царствие русское! Ну и будь при царствии, не время за чемоданы хвататься! Проклянет тя земля наша!
Александра Федоровна. Сил уж нет, отец Григорий… царевич в болезни гибнет!
Распутин. Веди! К царевичу веди!
Вырубова ведет под руку Распутина в спальню. Там плачет цесаревич Алексей.
Алексей. Муттер! Где все были так долго? Мне страшно!
Распутин. Здрав будь, отрок! Болесть твоя рассыплется в прах, и войдешь ты по праху ентому в царствие земное, на травку зеленую, под небушко бирюзовое!
Алексей. Муттер! Кто это?
Распутин. Я избавитель твой, царевич! Принес избавление тебе от болестей – змеюк твоих. Ты сей момент очи прикрой и вознесись молитвою ко Всевышнему! А я в помощь к тебе.
Становится на колени, кладет руку на голову Алексея.
Матушка царица, отец император, молитися со мной!
Да ниспошлется отроку сему Алексею благословение господне, да сокрушится хворь его сатанинская.
(Кричит.) Да издохне-е-ет она в корчах!! И сгустеет кровица твоя святая, невинная, не прольется она более в землю грешную. Так я велю, старец Распутин, ангелом-хранителем вам ниспосланный! Так велит мне сила божья! Аминь.
Цесаревич закрывает глаза, затихает.
Распутин. Мать, будь с отроком. Он теперь долго спать станет, и кровотечь его завтра сгинет. Анна, возжертвуй царевичу неотлучную заботу вместе с Александрой матерью, коей про чемоданы всякие да про за́мки германские забыть надобно. А я, и молитва, и думы мои с вами пребудут.
Папа́! Пойдем-ка, обтолкуем дела твои, инператорские, тишком да ладком. Без баб. Видение мне намедни было. Ты его должо́н знать.
Александра Федоровна. Анна… Анна! Ники! Мой ангел спит с улыбкой! На нем божья благодать!
Царь и Распутин выходят в зал.
Распутин. Зябко у тя тут в доме, папа. И мокроты́ болотной всклень. Сушить надобно каленым железом. То-то видение мое в лягушатник уперлось.
Николай II. И в чем видение?
Распутин. Будто стоишь ты с женкой своей Александрой по самые грудя в мари болотной, а вокруг вас людишки егозливые кольцом. Лягушек за лапки ловят и в рот суют, косточками хрустят. А главный их тебе наособицу жабу подсовывает: скушайте, ваше величество, тады, мол, и породнимся, тады ладком все в царствии твоем пойдет, и замирение с узкоглазыми я те сделаю. Так и сказал – узкоглазыми.
Николай II. Год дем!
Распутин. Во-во. А тебя с души воротит от породнения тово. Душа твоя лягушатников не принимает, уж больно совестливый ты. Людишек тех по мордам надо бы, да деликатность не пущает, болото пузырями травит.
Так и скормил бы тебе жабу главный лягушатник, да благодарение богу, супруга твоя воспряла и за руку тебя – дерг! Глянь, грит, папа, спасение откуда воссияло!
И узрели тут вы оба на суходоле: люди – не люди, натуральные великаны в железных чугунках о двух рогах. Вас подхватили, с трясины выдернули, омыли и ну обнимать, цаловать. А один из них женке твоей вроде как родительское наставление дает.
Тут я и очнулся. Пошел я, государь, нужда в миру немалая ко мне. (Неожиданно и быстро уходит.)
Николай II. Лягушатники… французы… Витте… Японский мир – с узкоглазыми. И спасение – из Германии. Это поразительно! Пора-зи-тель-но… Алекс! Душа моя! Ты только послушай!
ДЕЙСТВИЕ II
VII
Комната Глинки во дворце вдовствующей императрицы. Здесь в сильном волнении ходит хозяйка в ожидании.
Входит Рачковский. Становится на колено, ждет.
Глинка. Похоже, вы правильно уяснили свое положение при дворе.
Рачковский. При вас, сударыня. Двор теперь безделица, пустое место. Я знаю, что орден и генеральский чин от государя – всего лишь фиговый листок, его ничего не стоит сорвать.
Глинка. Я ценю вашу сообразительность. Тем не менее, извольте выслушать меры, кои предприняты мною с позволения вдовствующей императрицы. Написаны два письма. Одно на имя вашего дрессировщика Ротшильда. Я описываю там кражу «Протоколов» из его сейфа. По Вашему заданию. Я ведь ваш парижский агент.
Рачковский. Это смертный приговор мне.
Глинка. Один из приговоров. Второе письмо на имя министра внутренних дел Столыпина. Там описана сцена моего расстрела вами, чтобы использовать добытые мною протоколы во вред России.
Рачковский. Вы самая блестящая ученица генерала Рачковского.
Глинка. Не обольщайтесь. У Иуды не было учеников.
Рачковский. Мне нечего возразить, сударыня.
Глинка. Эти письма вам не достать. Они у императрицы. Если что-либо со мной случится…
Рачковский. Не стоит угрожать мне смертью… я наказан уже худшей карой. Чем я могу искупить…
Глинка. Ваша работа будет не искуплением, а грязным филерским делом. Тем, чем занималась в Париже я. Вы будете доносить нам обо всем, что замышляют господа Ротшильды, Витте и петербургский клубок масонов.
Вы будете охранять меня и наше патриотическое сообщество при дворе с главенством Столыпина.
Именно потому мы с Марией Федоровной позволили вам получить из рук императора орден и чин генерала: проще будет служить нам.
Мы с Сергеем Александровичем Нилусом начинаем публикацию «Протоколов» для Европы.
Я называю фамилию Нилуса с тем, чтобы его персона охранялась вами с еще большим рвением, чем моя.
Рачковский. Сударыня, я потрясен размахом и решительностью ваших действий. Но вы должны знать: публикацией «Протоколов» вы подписываете приговор не только мне, я конченый человек, но неизмеримо более достойным слугам Отечества.
Глинка. В ваших интересах, чтобы его исполнение задержалось.
Рачковский. Я сделаю все возможное.
Глинка. Боюсь, этого будет мало. Отныне все мы должны жить в невозможном измерении. Этот страшный документ должен увидеть свет.
Рачковский. Сударыня, не сочтите за дерзость, но я никак не могу объяснить ваше знание этого документа. Я только что принес его, а в Париже вы не успели…
Глинка. У Нилуса копия этого документа появилась еще в 1901 году, но он не решался ее использовать и публиковать именно потому, что сомневался в подлинности ее. Я завладела оригиналом. Теперь время действовать. Вы хотите спросить еще?
Рачковский. Кого мне благодарить за ваше спасение?
Глинка. У меня всегда срабатывал рефлекс самосохранения в Париже, когда я шла к вам. Перед тем приходом я оповестила моих парижских друзей, куда иду. Они подобрали меня в квартире через час, вылечили и сберегли от церберов Ротшильда. Правда, охота на меня продолжается и здесь. Но здесь у них меньше шансов.
Рачковский. Этих шансов отныне не будет ни у кого, я клянусь вам.
Глинка. Тогда зачем… вы убивали меня… там?!
Рачковский. Скажите, сударыня, в Париже я давал повод заподозрить меня в трусости?
Глинка. О вашем бретерстве и дуэлях ходили легенды.
Рачковский. Но когда я прочел «Протоколы» – я оцепенел. Это был животный, еще не испытанный паралич скота. Я ручаюсь, о том документе не знают и не должны знать короли, монархи Европы. Но уже знали вы и я. Вы показались мне опасной в этом смертельном знании – так подсказывал страх. И он лишил меня разума на один миг. Всю последующая ночь в поезде… я грыз себе руки. (Протягивает руки в шрамах.)
Глинка. О, Господи..
Рачковский. Это не для вашей жалости, сударыня. Мне нет прощения. Весь остаток моей жизни – лишь жалкие потуги искупления вины.
Глинка. Ступайте, Рачковский… мне… мне трудно видеть вас.
Рачковский. Простите, сударыня. (Уходит.)
VIII
Взрыв – долгий, оглушительный – гремит в темноте. Свет. Трехэтажное строение дачи Столыпина на Аптекарском острове – в клубах пыли и без фасадной стены. Стена рухнула от взрыва, открыв взглядам наготу комнат с искореженной мебелью.
В глубине комнаты на втором этаже – Маша, дочь Столыпина. Дико, пронзительно кричит. К ней через пролом в стене из коридора пробирается Казимир.
Маша. А-а-а-а… боле мой, боже, что это?!
Казимир. Ничего, Мария Петровна, ничего, это бомба.
Маша. Какая бомба?!
Казимир. Бомбисты опять, Мария Петровна, проклятое семя!
Маша. Где папа́… мама́… мама-а-а-а́!!
Бросается к срезанному взрывом фасаду. Казимир ловит ее за руку.
Маша. Пусти-и-и… прочь!!! Мама-а-а́!! Папа-а-а-а́!!
Казимир. Тихо, барышня, тихо! Это мы сейчас мигом все узнаем. Прошу вас за мной. (Увлекает ее в уцелевший коридор. Навстречу бежит белая от известковой пыли Ольга Борисовна.)
Ольга Борисовна. Ты жива?! Девочка моя… Слава Богу! Где Наташа и Адя?!
Вместе поднимаются по обломкам лестницы в гостиную. Она пуста. Голос Столыпина снизу, со второго этажа. Он появляется у края, машинально промокая салфеткой залитое чернилами лицо, руки.
Столыпин. Оля! Оля, где ты?!
Ольга Борисовна выбегает на остаток балкона, опускается на колени.
Ольга Борисовна. Что с тобой?!
Столыпин. Чернила. Дети рядом с тобой?
Ольга Борисовна. Нет Наташи и Ади! (Рыдает.)
Столыпин спускается вниз, в сад. За ним Маша, Ольга Борисовна, Казимир. Хаос обломков, крики, стоны. Трели полицейских свистков, колокола пожарных. Санитары перевязывают раненых. Столыпин и Ольга Борисовна извлекают из-под досок расщепленных ворот четырнадцатилетнюю дочь Наташу. У нее раздавлены ноги. Столыпин берет ее на руки.
Наташа (очнулась). Папа́, это сон, да? Отчего ты черный, папа́? Меня несет Арап Петра Великого…
Ольга Борисовна. Молчи, Наташенька, молчи… сейчас тебе помогут!
Наташа. Слава Богу, это я ранена, а не вы… мне совсем не больно, папа́, что это столько чернил на тебе, будто… будто… (Проходит шок, и ее настигает боль.) А-а-а-а… ноги! А-а-а, мамочка, сделай что-нибудь, я так не смогу!
Ольга Борисовна. Сейчас, милая, сокровище мое, сейчас! Скорее!!
Столыпин уносит дочь. За ним Маша и Ольга Борисовна. Полицейский находит под обломками сына Столыпина Адю. Он без сознания. Его уносят.
Казимир. Сучье семя! Чтоб у вас глаза повылазили… будьте вы прокляты до седьмого колена… чтоб на том свете черти вас жарили как карасей, до хруста! Ах ты го-о-оре… шестой раз на Петра Аркадьевича с бомбами да наганами, ах зверье анафемское. Беда, беда-то какая, девчоночке за что муки адские?!
IX
Гатчина. Кабинет Николая II. Здесь император. Входит Столыпин.
Николай II. Петр Аркадьевич, я право… в растерянности. Заготавливал фразы и позабыл. При виде вас все в душе перевернулось, оборвалось – бог мой, какое горе… содрогаюсь поставить себя на ваше место, я, вероятно, не вынес бы… оледенел и сник, забросил бы дела, империю.
Столыпин. Они именно на это наделялись, государь.
Николай II. Но вы держитесь! Что Наташа, Адя?
Столыпин. У Наташи раздроблены кости ног, до сих пор извлекают из костей стекла и штукатурку. Страдает от боли, не спит которую ночь. Адя отделался проще, ранение головы, посечена осколками кожа.
Николай II. Это чудовищно… не найду слов. Что я могу, кроме вздохов и слез, ужасно сознавать свою беспомощность в сане императора. Да-да! Вот! Вам обязательное вспомогательство, я распоряжусь немедленно – нужны светила европейской медицины, лучшие санатории…
Столыпин. Благодарю, государь. В этом уже нет нужды.
Николай II. Зачем же вы так, Петр Аркадьевич! Я ведь всей, болящей за вас душой.
Столыпин. Я сознаю это, ваше величество. Тем не менее, позвольте избавить вас от моих домашних забот. Я слишком ценю ваше время.
Николай II. Как вам будет угодно. (Долгая пауза.)
Столыпин. Государь, мой сын адресовал вам незамедлительный вопрос. И ждет ответа.
Николай II. Вот как? Что за вопрос?
Столыпин. Он спросил: тех злых дядей, что скинули нас с балкона, государь-император поставил в угол?
Николай II. Ах, боже мой, передайте вашему сыну, что злые дяди сами себя наказали водворением в адовых чертоги. И что остальных злодеев примерно накажет министр внутренних дел Столыпин.
Столыпин. Передам в точности, государь. Я могу изложить несколько деловых вопросов?
Николай II. Извольте.
Столыпин. Зарубежная агентура, созданная Рачковским, сообщает из Нью-Йорка об ускоренной подготовке в аппарате президента американских штатов ноты для России.
Николай II. О чем?
Столыпин. США намерены прервать действие договора о торговле, заключенного с нами в 1832 году и отказать во всех кредитах.
Николай II подходит, панически всматривается в Столыпина.
Николай II. Боже мой, мы едва оправились от русско-японской войны, от революции. И вот… новое нашествие: разрыв с Америкой, отказы в займах, в продовольствии! Это конец!
Столыпин. Ваше величество, это не конец. Мы успели! Уже готов и ждет вашего утверждения закон о выходе из общины, о переселении в Сибирь, на частные отруба. Там уже нарезаются на черноземах наделы, туда перебрасывается сельская техника, скот. Крестьянский банк начал финансировать эту грандиозную акцию. Мы успели!
Через год, самое большее – через два новый, свободный крестьянин завалит Россию хлебом и маслом без всяких американских займов. Появится валюта от продажи зерна.
Николай II. Вы так уверены в пользе этого… вселенского переселения?
Столыпин. Уже есть восемьсот тысяч семейных заявлений о выходе из общины на отруба. Это миллион пахарей: сильных, трезвых, жаждущих свободного труда на земле, и мы, государь, всей мощью империи обязаны поддержать их.
Николай II. Но все-таки почему, зачем этот бойкот Америки?
Столыпин. Это хуже, чем бойкот. Это холодная война, объявленная нам. Позвольте зачитать цитату из «Нью-Йорк Синофмач» и «Трибьюн Нью-Йорк Таймс» под заголовком «России объявлена война».
Это выступление директора департамента продовольствия США, главы банкирского дома «Кун-Леб и К°» Якова Шиффа на митинге.
«… Необходимо собрать фонд, чтобы послать в Россию еще одну волну руководителей, которые бы научили нашу молодежь истреблять имперских угнетателей, как собак! Подлую Россию, которая стояла на коленях в Портсмунде перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным народом. Отныне ей нет займов и продовольствия, но есть ненависть!»
Николай II. И что президент? Надо немедленно послать ноту-запрос через посольство. Шифф… чиновная, ничтожная продовольственная крыса объявляет войну Российской империи, а президент…
Столыпин. Ваше величество, президентов в Европе и Америке сажают в кресло Яковы Шиффы, кои и стаскивают их за шиворот в случае надобности. Это тот самый Шифф, который вместе с Вартбургом финансировал нашу революцию в 1905 году и русско-японскую войну, подпитывая самурайский настрой японцев.
Николай II. Да, я помню ваш доклад. Но война закончена, революция раздавлена, мы соблюдаем все договоренности с Америкой. Какая муха укусила ныне Соединенные штаты?
Столыпин. Отнюдь не муха. Это бешеная вековечная оса, которая рано или поздно жалила каждого монарха на европейских тронах. Это, государь, наша черта оседлости, ограничения в приеме на университетское обучение, препятствие свободному выезду.
Николай II. Вы лучше меня знаете, что черта оседлости давно превратилась в фикцию, ее соблюдает разве что самый хлипкий и бездельный иудей. Количество сефарди и ашкенази в наших университетах давно превысило русские, малоросские и прочие национальные нормы.
Но бомба бойкота все же взрывается! Отчего?
Столыпин. Нам позволено было лить реки народной крови в войне с японцами. Нам сладострастно рекомендовалось пропивать народную силу и деловой азарт в окостеневшей общине. Нам предписывалось терять тысячи ценнейших жизней в борьбе с социал-революцией.
Но мы свершили непростительное ослушание: даруем землю и свободный труд крестьянину. Мы позволили себе сделать шаг к продовольственной независимости и процветанию, мы становимся сильнее. А это непростительно, и карается.
Николай II. Сделайте милость, поставьте себя на место императора. Что я должен теперь делать? Петр Аркадьевич, я вас не слышу!
Столыпин. Я вправе лишь советовать.
Николай II. Решать буду я. Но подсказывайте, черт возьми!
Столыпин. Государь, прежде чем предложить какие-либо действия, я позволю себе несколько системных рассуждений.
Николай II. Я внимательно слушаю.
Столыпин. Начиная с 1903 года на империю одно за другим рушатся черные события. Каждое из них трагически ухудшает ее положение.
Николай II. О каких событиях речь?
Столыпин. Регулярные встречи Витте с Зубатовым в 1903 году, поддержка им зубатовских идей о рабочих стачечных организациях породили первую волну стачек и забастовок.
Николай II. За это мы вышвырнули Зубатова из департамента полиции.
Столыпин. 9 января, воскресенье. Расстрел манифестации.
Николай II. Это моя боль и моя вина!
Столыпин. Расстрел вызвал новую волну рабочих стачек, расшатавших хозяйство и экономику империи. Мы загасили их кровью декабрьского восстания.
Николай II. Дальше.
Столыпин. За мерзкий Порсмундский мир с японцами мы отдали им половину Сахалина, а значит, огромный рыбный шельф, чем существенно ослабили свои позиции и престиж на Дальнем Востоке.
Николай II. Это сделал Витте!
Столыпин. Он же подготовили вам на подпись Манифест от 19 октября и Конституцию. Оба эти документа сокрушительно пошатнули монархические устои империи, придали рабочим бунтам силу, оснащенную Законом.
Николай II. Я, кажется, начинаю понимать вашу мысль!
Столыпин. Денежный заем у Франции, которого добился Витте, вверг Россию в кабалу на долгие годы…
Николай II. Он вырвал у меня согласие на заем буквально из горла!
Столыпин. Поощрение Витте польских, финляндских и прибалтийских сепаратистов исторгло из их среды наглый раскольный законопроект о введении самоуправления. Он уже лежит в Думе и, опасаюсь, будет принят.
Николай II. Витте… Витте! В этом имени зловещий посвист бури. Петр Аркадьевич, вы лишь оформили мои давние подозрения в стройную систему фактов. В эту систему не укладывается лишь 9 января. Священник-бунтарь во главе манифестации и… Витте?
Столыпин. Да, государь. По донесению генерала Рачковского, Витте вызвал Гапона накануне 9 января и попросил организовать манифестацию. В этот же день у Витте тайно был парижский банкир Альфонс Ротшильд.
Николай II. Чудовищно, не укладывается ни в какие рамки. Рачковский не мог ошибиться в донесении?
Столыпин. В газете «Новое время» опубликовано заявление Гапона прокурору судебной палаты. Гапон заявляет, что 9 января он действовал по прямому указанию Витте, попу надоело скрываться, и он требует открытого суда. Именно Витте после 9 января снабдил Гапона деньгами, чтобы тот мог скрыться за границу.
Николай II. Так организуйте этот суд над троянским конем России!
Столыпин. Да, ваше величество. Подготовлены статьи в «Новом времени» и журналах. Готовятся манифестации протеста «Союзом Михаила Архангела» и «Союзом русского народа».
Николай II. Я немедленно приму его отставку! Какая мерзость… кто-то ведь стоит за ним?
Столыпин. Империя Ротшильдов и Рокфеллеров. Витте – лишь малый исполнительный винтик стратегии – той самый, что выстроена ими.
Николай II. Где выход?! Шутки с ними кончились.
Столыпин. России не до шуток! Князь Багратион, полковник генерального штаба, в докладной на мое имя пишет: из трех рекрутов почти невозможно выбрать одного, безупречно годного к службе: алкоголизм, истощение, трахома, чирьи, грыжа, туберкулез! Из ста рекрутов лишь тридцать ели говядину до поступления на службу! Это просто пушечное мясо! Нам предписан режим выживания, на нас, стоящих на грани вымирания, спущены цепные псы разрухи! Революции! Сепаратизма! Межплеменных войн! Бойкота! Терроризма! Этому может противостоять лишь ваша воля, государь. И я с величайшей тревогой спрашиваю: достаточно ли ее у вас?
Николай II. Я слушаю.
Столыпин. Ваше величество, подготовлен законопроект. Вот он. (Протягивает папку.)
Николай II с опаской обходит ее.
Николай II. Что здесь?
Столыпин. Закон о еврейском равноправии. Абсолютно полном.
Николай II. А… зачем?
Столыпин. Мы обязаны выбить главный козырь у Ротшильдов, Шиффов и социал-революционеров об угнетении еврейства в России.
Николай II. Но о каком угнетении речь? Де-факто они имеют больше прав, чем все остальные!
Столыпин. Тем более это нужно подтвердить де-юре.
Николай II. Вы уверены, что этот закон вернет нам стабильность? Проведите его через Думу.
Столыпин. Он не пройдет через Думу. Его завалят. Правые обвинят меня в предательстве русского народа, левые не захотят отдать антисемиту и «обер-вешателю» Столыпину титул защитника евреев. Закон можно провести лишь волею государя-императора по 87 статье.
Продолжает держать папку в вытянутой руке.
Николай II. Но нельзя же так сразу! Полное равноправие кровавым бомбистам, смутьянам! Они истребляют цвет государства, а мы перед ними реверанс и книксен: нате-ка, господа, абсолютное равноправие! Петр Аркадьевич, вы положительно явились свести меня с ума! Да и предки мои – Петр, Екатерина, Александр – у них было твердая воля держать это зловредное племя в узде!
Столыпин (держит папку в протянутой руке). Вы найдете время ознакомиться с законом? Это будет главный закон в XIX веке!
Николай II. Вы – Армагеддон в человечьем обличье! (Измученно.) Петр Аркадьевич, а нельзя ли без всех этих ваших реверансов перед бомбистами? Оставим все как есть, а? Ей-богу, все образуется, все уляжется… нет, вы страшный узурпатор…. вы явились как судьба с косой у Бетховена: тра-та-та-там! Тра-та-та-там! Ну хорошо, хорошо, я возьму ваш законопроект ознакомиться. (Берет.) Я устал, голубчик, будто камни ворочал наподобие Сизифа… что вы со мной делаете?!
Столыпин. Это не я, государь, это враги империи. Они оказались сильнее и решительнее нас в нашей вековечной схватке. (Идет к выходу.)
Николай II. Петр Аркадьевич! Вернитесь, ну нельзя же так!
Столыпин. Государь! В это чудовищное время распада надо отважиться на важное решение! Или я буду вынужден уйти в отставку.
Николай II. Я обещаю! Я… твердо обещаю… (Столыпин уходит.) Нет, каков воитель! Ники, ты войдешь в историю как государь-обещатель. Иди-ка, выпей винца.
X
Кабинет Браудо – хранителя отдела «Россика» Петербургской публичной библиотеки. Здесь сам Браудо, Ротшильд и граф Витте.
Браудо (просматривает заголовки газет, бросая их на стол одну за другой). «Смерть графу Витте!», «Волк в овечьей шкуре», «Измена Родине и престолу», «Долой подлую Витте-ситуацию!», «Отдать графа японцам за половину Сахалина», «Портсмундский мир не дороже использованного пипифакса».
Ротшильд. Чьи мозги работали?
Браудо. Дубровина – главаря «Союза русского народа» и князя Мещерского – редактора журнала «Гражданин». Остальные – литератор Нилус.
Ротшильд. Издатель «Протоколов». Он еще жив?
Браудо. Сделали три попытки после взрыва у Столыпина. Три самых лучших мальчика сгорели. Охрана Нилуса лучше, чем у генерала.
Ротшильд. Витте, кто навесил такую охрану говенному писаке Нилусу?
Витте. Я пока не могу разобраться, господин барон, подключен Рачковский, но еще нет результатов.
Браудо. Рачковский?! Они вас сделали как мелкого, граф! Теперь вы битая шестерка.
Витте. Я так не считаю! Дождемся результатов от Рачковского.
Браудо. Вот вы дождетесь от Рачковского! Пока вы туту пускали пузыри от удовольствия за свою улицу в Одессе, Гартинг по приказу Рачковского сквозанул в Париж, взял за яйца Гапона, и тот вылил на вашу голову все это дерьмо! (Бьет кулаком по газетам.) Вы сгорели, Витте, вас нет! Теперь в кресле, которое мы нагрели для вас, сидит вонючая фикция!
Ротшильд. Не пыли, Шура. Граф, конечно, пахнет. Но это наш запах.
Витте. Я… я… (Издает нечто рыдающее.)
Браудо. Витте! Для начала сделайте громкий конец Гапону. Чтобы другие заткнулись. Потом можете идти в отставку.
Витте. Мне в отставку?
Браудо. А почему ви так удивляетесь? Это ми должны удивляться на ваше удивление!
Ротшильд. Вы будете писать свои мемуары в Париже за наши хорошие деньги. Вы их заслужили. Адью, граф. Просите отставку и езжайте в Париж. Но сначала сделайте Гапона с этим человеком.
Звонит в колокольчик. Входит Рутенберг.
Витте, этот красивый мальчик Рутенберг увел Гапона 9 января с площади и помог с вашими деньгами уехать за границу. Он любил Гапона. Завтра поп будет у него на даче. Помогите, чтобы Рутенберг крепко обнял его на прощанье. Идите.
Витте и Рутенберг уходят.
Браудо. Время подбивать наш минусовый гешефт. При дворе трясет шерстью кобель Распутин, осеменяет Вырубову и делает там германскую политику для фон Бока и Вильгельма.
Ротшильд. Вы не нашли к нему хода?
Браудо. Пробовали много раз. Но всех перехватывал Бок.
Ротшильд. Ладно, будем искать через банкиров. Это кобель любит деньги до отключения мозгов. Поговорим о главном. Реформа Столыпина не скисла, чтоб он сдох, но он живет, хотя мы хорошо старались. В Сибири отсеялись полтора миллиона кулаков. Это жуткая весть. Шура, теперь Россия имеет свой хлеб, масло и валюту. Еще одно: вылезли на свет наши «Протоколы». Это большой скандал века. Но очень интересный скандал! У вас что, совсем потерялся подход к Рачковскому?
Браудо. Он не идет на приглашение и совсем не пускает к себе.
Ротшильд. А эта сучка Ларина-Глинка? Она меня-таки сильно интересует еще с Парижа, когда украла «Протоколы» из сейфа.
Браудо. Все время со старухой императрицей и с охраной.
Ротшильд. Нилус?
Браудо. То же самое.
Ротшильд. Только эти трое знают, как «Протоколы» попали к Нилусу. Но всех сторожит Рачковский. Это его хватка, его клыки.
Браудо. Очень похоже. И этот пес все знает про нас.
Ротшильд. Не пускайте панику на меня, Шура. Он нас больше боится. Пока мы его не трогаем, он тронет нас.
Браудо. Но чем эту сволочь перетянули?! Кто?! Был совсем наш!
Ротшильд. Совсем наших не бывает, Шура. Но хватит спускать время в писсуар. Слушайте меня. Нужно повернуть глаза в другую сторону. Надо вбивать клин между Николаем и Столыпиным. Надо ставить своих людей в земельные комиссии, что работают в Сибири, чтобы они делали из столыпинского переселения большой бардак. Великий князь Ник-Ник не любит Германию. Сделайте, чтобы он публично облаял Вильгельма. Мои люди уже работают на то же самое в Германии, надо стравить ее с Россией.
Теперь второе. Когда появились в печати «Протоколы», мы подняли крик про эту антисемитскую фальшивку.
Браудо. Я скажу: большой крик.
Ротшильд. Продолжайте кричать про фальшивку в наших газетах, это, оказывается, очень полезно. И еще. Здесь самый рабский народ, Шура. Он поклонялся идолам. Потом пришел из Вифлеема Иешуа, чтобы ему верили и кланялись. И этот народ пополз за ним на брюхе вслед за Византией. Теперь пришли наши эсеры с большевиками и сказали: богатый – паразит, Иисус – говно. Режьте богатых, ломайте церкви и жгите иконы. И этот народ в этой стране кинулся резать, ломать и жечь своих же (скоро они потеряют силы). Тогда мы возьмем кнут и погоним стадо, куда нам нужно.
Браудо. Если раньше пастухом не станет Столыпин.
Ротшильд. Вот тогда нам будет очень плохо. Работайте по Столыпину, Шура, день и ночь. А у меня встреча с Митей Рубинштейном и другими банкирами. Разошлись.
XI
Две небольшие дачные комнатки. В первой Петр Рутенберг, Дмитрий Богров и трое рабочих. На столе, на подоконниках несколько пустых бутылок из-под водки, одна – наполовину полная. В тарелке – соленые огурцы, хлеб.
Рутенберг. Я повторяю: вчера Гапон намекнул мне на возможность работы в охранке.
1-й рабочий. Петр Борисыч, хоша мы тебя и уважаем, однако твоим словам веры нет.
2-й рабочий. Да не мог Георгий Аполлоныч такие намеки делать! Тебе это показалось.
3-й рабочий. Мы ж его на руках носили. Когда он после кровавого 9-го для конспирации постригся, мы его волосья по ладанкам разобрали. Глянь, во! (Показывает.)
Рутенберг. Богров, ты тоже не веришь в предательство Гапона?
Богров. Я здесь человек новый, киевлянин, судить о Гапоне не могу. И вообще… я не совсем понимаю твое приглашение. Зачем я здесь?
Рутенберг. Это задание ЦК эсеров, ясно? Поймешь позже.
Богров. Да нет, я не возражаю.
1-й рабочий. Борисыч, слышь, а что за намек был? Как он про это самое?
Рутенберг (смотрит в окно). Все! Немедленно в другую комнату! Гапон идет. И запритесь изнутри, если он захочет осмотреть дачу. Дмитрий, возьми. (Достает из шкафа веревку.) Она намылена.
Богров. Я?! Зачем мне?
Рутенберг. Все в комнату! (Выталкивает всех в другую комнату.)
Входит Гапон.
Рутенберг. Бесконечно рад видеть вас, Георгий Аполлонович!
Гапон. Здрав будь, сын мой. С трудом нашел обитель сию. (Осматривается.) Скромна. Но просивушена. Пьешь зелье?
Рутенберг. Пью, Георгий Аполлонович.
Гапон. Пошто так?
Рутенберг. Я сломан. Невмоготу жизнь. Поэтому и пригласил вас просить помощи и совета.
Гапон. Похвально, что не забываешь наставника своего. Помню твои хлопоты о моей персоне после 9-го января.
Рутенберг. Вы наш рабочий кумир, Георгий Аполлонович.
Гапон. Ну-ну.
Рутенберг. Вся рабочая гвардия и мы рукоплещем вашим разоблачениям Витте. Этот сатрап мечется теперь, как лис в капкане.
Гапон. Да уж, прищемил я ему хвост. За русский Сахалин и французское лакейство.
Рутенберг. Георгий Аполлонович, я вчера… мне показалось, может, я ошибся… мне показалось в ваших словах, что вы и департамент полиции…
Гапон (ледяным тоном). Вы о чем, Рутенберг? Какой департамент?
Рутенберг. Значит, показалось… простите великодушно.
Гапон. Что это за дверь?
Рутенберг. Хозяйка заперла. Там ее вещи. Я ведь дачу снял ненадолго, на последние деньги, чтобы отоспаться и привести нервы в порядок.
Гапон неожиданно и сильно бьет в запертую дверь плечом.
Рутенберг сдавленно ахает.
Гапон. Что с тобой, сын мой?
Рутенберг (наливает полстакана водки, залпом выпивает). Проклятые нервы. Не сплю третью ночь.
Гапон. Нервы, говоришь?
Рутенберг (истерично). На-до-е-ло!! Все надоело: быть жидом за чертой оседлости и на этом основании делать революцию и метать бомбы… каждый день трястись за свою шкуру, оглядываться на каждом углу, отчитываться за каждый свой шаг перед людоедами, у которых руки липкие от крови… надоело менять квартиры, города, умирать от страха, когда фараон листает твой фальшивый паспорт!
А я хочу семью, жену и детей, я мечтаю быть обычным гражданином империи! Мне оскорбительно считать нищенские гроши и выкраивать на кусок хлеба! (Наливает, пьет водку.) Поэтому я умоляю вас: помогите! Вы сильный, у вас связи…
Гапон. Твое горе и страх мне понятны, сын мой.
Рутенберг. Правда?! (Рыдает.) Когда-то я помог вам. Поддержите же и вы слабого в тяжкую минуту… я возненавидел все, чем занимался… я убью себя!
Гапон. Ты хочешь быть обычным гражданином империи и иметь деньги?
Рутенберг. Мне стыдно, но это так!
Гапон. Не стыдись разумного, Петр. Ты прозрел для истины и божеского предначертания: быть законопослушным членом общества и продолжить род свой. Но надо потрудиться для этого.
Рутенберг. Я согласен на любые страдания ради душевного покоя…
Гапон. Сын мой, тебе стали ненавистны соратники по кровавому делу?
Рутенберг. Я с содроганием признаюсь вам в этом, только вам… что мне с собою делать?
Гапон. Ты правильно сделал, что покаялся мне. Я принимаю покаяние и отпускаю этот грех. Ибо сам прошел через него после 9 января.
Рутенберг. Вы?! Не верю.
Гапон. Мною двигало то же, что и тобой, Петр, – усталость и отвращение к тому, чем занимаются заблудшие смутьяны. И наше дело помочь им искупить свой грех, обдумать свою вину в уединении.
Рутенберг. Поясните, отец Гапон.
Гапон. Я стал близок генералу Рачковскому. По его повелению меня доставил из Парижа полковник Гартинг. Ныне я законопослушный слуга империи, служу ей верою и правдой.
Рутенберг. Нет!
Гапон. Хватит крови и смутьянства, Петр! Они превращают человека в зверя. Империи нужен покой для крестьянской реформы, Россия обескровлена такими, как ты! Вы пришли на нашу землю с огнем и мечом!
Рутенберг. Но я раскаялся! И смиренно приму ваше содействие.
Гапон. Россия готова поддержать заблудших своей державной силой, но не тех, кто упорствует и злобствует в ненависти своей. Витте грыз, подтачивал устои трона аки короед, за то и возмездие мое.
Рутенберг. Может быть. Но что делать мне?
Гапон. То же, что и делал.
Рутенберг. Как?
Гапон. Прощение надо заслужить. Делай, что делал, но прежде оповещай меня о задуманном. И ты обретешь покой и достаток.
Рутенберг. То есть стать филером и выдавать товарищей?
Гапон. Они не товарищи! Исчадие ада!
Рутенберг. Их поймают, посадят или повесят…
Гапон. Твоя жалость истинно христианская, она достойна уважения. Но жалеют ли они тех, в кого стреляют и бросают бомбы? Жалеют ли жен и детей разорванных?! За смертоубийство нераскаянное им должно воздаться полной мерою!
Рутенберг. И это говорите вы, вожак рабочих?
Гапон. Это говорю я, слуга божий!
Рутенберг. Ты не слуга божий. Ты провокатор, поп Гапон. Сюда!
В комнату вламываются рабочие с веревкой.
– Ах ты, иуда!
Гапон (Рутенбергу). Ты поймал меня на жалости к тебе.
Рутенберг. А мы всегда будем ловить вас на чем угодно и истреблять вашими же руками. Потому что мы во все времена были умнее вас.
Кончайте с ним! (Рабочие хватают Гапона, набрасывают на шею петлю, тащат к стене со вбитым крюком.)
Гапон (узнал третьего рабочего). Ты! Ты прятал мои волосы в ладанку 9-го января!
3-й рабочий. Да, отец Гапон. Это был я.
Гапон. Так за что же ты хочешь убить меня?
3-й рабочий. Я… не знаю. За… предательство!
Гапон. Кого я предал? Веру? Царя? Отечество?
3-й рабочий. Я не знаю!
Рутенберг. Кончайте, мерзавцы! Ве-шать!
Гапон (рабочим). Когда-нибудь вы все и Россия очнетесь с их ярмом на шее! Его ярмом! Но будет поздно! Господи! Прими душу раба твоего, иду без страха! С молитвою о милости твоей!
Гапона вешают.
Рутенберг. Богров! Ноги держи! Вот так! (Богров держит дергающиеся ноги, пока Гапон не затихает.)
Все вон! Быстро! Расходитесь по домам и – никому! Богров, поздравляю с почином. Вы наш. Ждите следующих заданий, мы вас найдем.
Все уходят. Рутенберг медленно подходит к Гапону. Садится на табурет, пристально вглядывается в искаженное лицо.
Рутенберг. Ну, где ты теперь… в небесах перед Всевышним? Так нет же тебя, как и Его, ты прах и ничто! А я здесь! И долго буду расцвечивать жизнь своей местью! Да исчезнет имя Христово и да сгинут верующие в него, уподобившись скотам на бойне и смоковнице с подрубленными корнями!
XII
Ресторан. В отдельном кабинете Распутин и Вырубова с хором цыган. Идет гульба.
Вырубова. Григорий Ефимович, милый, ненаглядный! Меня ведь Алиса живой скушает! Поедем, а?!
Распутин. Надоела старуха! Отлипни, зуда!
Вырубова. Гришенька! Что с нами творишь? Три месяца не цалованы, эдак окочуриться с тоски можно, и не воскресишь ведь!
Распутин. Что малец? Все сделала как надо?
Вырубова. Второй порошок Бадмаевский подсыпаю уж два дня, завтра кровотечь уймется. Ныне ехать надобно, Григорий Ефимыч! Без тебя я ей и на глаза не покажусь – на клочки раздерет. (Телефонный звонок, Вырубова берет трубку.)
Кто?
Бок. Анна, Распутина!
Вырубова. Он велел никого…
Бок. Делать то, что говорю!
Вырубова. Григорий Ефимович, фон Бок. Злой, что пес цепной.
Распутин (берет трубку). Слышь, фонюшка, у нас в Сибирях на злых воду возят. Тебе чего?
Бок. В тебя, говорят, стреляли?
Распутин (цыганам). Пшли! Брысь! (Цыгане уходят.) Было. За что и укоризна тебе матерная, хреново стерегешь. Со страху штаны обмочил. Простирнуть бы надо германскими руками, а?
Бок. Быстро шляешься, Григорий. Охрана отстает. В следующий раз убьют и о́рган для музея отрежут. Когда к царице?
Распутин. Остохерели вы все Григорию Ефимычу! На свободе последний день без старухи догуливаю! Не поеду. Вот мой сказ.
Бок. Теперь слушать меня. Это приказ от самый, самый верх.
Распутин. Ну?! Неужто Вильгельмушка озаботился? Что надобно?
Бок. Согласие Николая. Он его не дает.
Распутин. На что?
Бок. Перекладные, охрана, свободный проезд нашего профессора Аугагена по Сибири от Урала до Байкала.
Распутин. А что он в моих Сибирях забыл?
Бок. Надо обследовать переселение Столыпина, как идет реформа.
Распутин. А не много хошь? Шпиена суешь в российское нутро, да чтоб еще с перекладными царскими. Ох, и нахраписты вы, германцы!
Бок. Не испытывай терпение Рейха, Распутин.
Распутин (с размаха бросает трубку). Обряжай старца, что уставилась? (Вырубова одевает Распутина.)
Вырубова. Душа моя, золото червонное! Радости-то сколько доставишь всем!
XIII
Зал царского дворца. Здесь вокруг уставленного закусками и питием стола буйное веселье под струнный оркестр: царь «отпотевает душой» с лидерами «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», редакторами патриотических газет и журналов.
Николай, одетый в малиновую косоворотку, подпоясанную шнуром, в широкие, защитного цвета шаровары, заправленные в сапоги, лихо отплясывает «Комаринского» с Дубровиным и Треповым. Входят Распутин с Вырубовой. Распутин с ходу врезается в пляшущее трио, оттесняя от Николая Дубровина и Трепова.
Распутин. «Ах ты, сук-кин сын комаринский мужик, ты пошто с царевной матушкой лежишь»!
Дубровин и Трепов отступают.
Распутин. Чего зенки-то распялили? Фу ты ну ты – ножки гнуты. Папа, не любят они Гришу. А Гриша кто? На-р-р-род! Значицца, народ свой не любят сатрапы твои. Дубровин, токмо я прибыл, а мне докладывают: «Черная сотня» запор Витте сделала. Вы ему бомбу сунули в трубу, а он увидал, да со страху и заперло. Неаккуратно как-то, а? Теперь ведь нам с Бадмаевым врачевать Виттушку надобно.
Николай II. Не утруждай себя сплетнями, Григорий Ефимович. Он сам себе бомбу подложил. Перед отставкой, чтобы жалели на покое.
Распутин. Душевно рад тебя видеть, Николай Ляксандрыч. Пошли-ка, потолкуем. Анна, за нами следуй.
(Берет под руку Николая II, отводит в сторону.) Папа, милай, тут дело тонкое, ума не приложу, с какого боку зайти.
Николай II. С какого тебе удобнее, Григорий Ефимович.
Распутин. Да знаю, знаю, один ты великая отрада и защита старцу Григорию. Я про што… надо бы немца того, ученого, как его… гау… вау… Анна!
Вырубова. Профессор Аугаген.
Распутин. Во-во. Надо бы этого гагена все ж в Сибирь запустить. Не противься, папа, грех берешь на душу.
Николай II. И ты, Григорий Ефимович, об этом! Я уже отказал германскому посольству.
Распутин. Дак отказ куды похабней согласия! Давеча отказал, а ныне осветлился, согласие дал. Вильгельм-то сусед-инператор полюбовный, в обхождении ласковый, одно слово – свой. Ну, зудит у него в одном месте: разузнать про наш сибирский замах. Мол, какой это разворот Николя́ своему крестьянину сотворил? Ну, и шлет ентого… Гагена все наше позаимствовать. А нам – малиновый звон на всю Европу – худо ли? Во как русак умеет извернуться: и хлебушко свой ныне с маслицем, и золотишко рекой течет, и мяса-говядины до отвалу.
Николай II. Ты упускаешь одно соображение, Григоий Ефимович – все эти сведения есть секретное достояние империи. Одному мне и малому числу сановников положено знать наш продовольственный и золотой запас. Ибо в случае войны знание этого вражеской стороной может великой кровью обернуться.
Распутин. Про каку войну гуторишь, папа? Ты где ее узрел?
Николай II. Но Столыпин категорически против! И Великий князь Николай Николаевич…
Распутин. Ну, родича твово Ник-Ника маслом не корми, а дай Германию обгадить. Ты все ж меня бы слушал…
Николай II (жестко). Григорий Ефимович! То, о чем просишь, есть дело императора, но не святого старца при дворе. И кончим на этом.
Распутин. Кончим, так кончим. Прощевай, папа. Анна, со мной! (Уходит.)
Николай II. Куда же ты, Григорий Ефимович?!
Распутин. А вот узнаешь куда! Подвинулся бы на троне. Для Столыпина.
Спальная комната императрицы, граничащая с детской. Здесь Александра Федоровна, заламывающая руки под тихий безнадежный плач цесаревича.
Распутин. Ох, дела, матушка, дела грешные. Однако иззяб я в Сибирях, дрожу чтой-то.
Александра Федоровна. Согрею, милый!
Распутин. Одного этого токмо и желал, во снах ты ко мне приходила.
Александра Федоровна. Что… что с тобой?!
Распутин. Не могу, царица. Рыдаю молча, а не могу.
Александра Федоровна. Что тебя мучит, откройся.
Распутин. Отказ государев.
Александра Федоровна. В чем отказ? Как он смеет?!
Распутин. Други мои и твои, послы германские запросили сущую безделицу. Но папа отказал. Теперь мне надо немедля идти, за их дело хлопотать.
Александра Федоровна. Да о чем ты? Какое дело?
Распутин. Нужда у них профессора германского в Сибирь запустить, дабы он там дела наши хлеборобные осмотрел и восславил на всю Европу, пользу от нас для Германии привез. Да вот папа против. Ему Столыпин с Ник-Ником отсоветовали и запрет наложили.
Александра Федоровна. Дон-нер веттер!! Жди меня здесь. Я умоляю – здесь! (Уходит.)
Николай II один в банкетном зале. Будто вихрем вносит царицу.
Николай II. Аликс! Не кричи! Не надо истерики, я так боюсь этого, что залезу под стол! Он был у тебя? Хотя зачем я спрашиваю. Я же объяснил ему: это опасно для государственного интереса империи…. Я бы никогда не унизил такой шпионской просьбой Вильгельма! Сядь, Аликс, я прошу.(Долго смотрит на жену.) В твоих глазах теперь всегда жгучий лед. Ты все-таки хочешь моего покорного унижения перед мужиком? Хорошо. Пусть профессор-шпион едет. Я лягу перед его каретой, и он вытрет ноги о мой сюртук. Я распоряжусь об охране и перекладных.
Ты помнишь Фридберг-замок в Гессене? Лебеди, газоны, покой, белые облака и наша любовь. Я слагал тебе дрянные стихи:
Айн, цвай, драй!
Аликс кюхельхен ист майн.
А ты возражала…
Александра Федоровна. Айн, цвай, драй!
Ники кюхельхен ист майн!
Николай II. Мы взмахивали крылами и улетали в райские врата… где ныне все это?! Ты плачешь… о чем?
Александра Федоровна. Я сравниваю. (Медленно идет к двери.)
Николай II. Не сравнивай! Это грязно!! Для всех грязно!! Для империи!
Александра Федоровна качает головой, уходит.
XIV
Алтайская губерния, Бийский уезд, село Старая Барда. Здесь около двадцати зажиточных, богато одетых крестьян – правление села, ведут разговор в ожидании знатных гостей.
Вдоль стены – стенд-выставка с сельхозизделиями: серпы, косы, пилы, топоры, овчинные полушубки, сапоги, валенки, деревянная, резьбой украшенная утварь. Диковинные, в человеческий рост куклы крестьян.
Входят Столыпин с Кривошеиным, раздеваются.
Столыпин. Здравствуйте, почтенные, соль земли нашей!
– Здрав будь, ваше высокоблагородие!
Первый крестьянин. Третий год молимся за твое здравие, батюшка Петр Аркадьевич. Не узнаешь?
Столыпин. Где-то виделись… Где же? Нет, прости, отец, не признаю, плоха память стала.
Первый крестьянин. Пожар у графа Тотлебена помнишь?
Столыпин. Еще бы.
Кривошеин. Так это… староста! Тот самый!
Столыпин. Это ты петуха Тотлебену пускал красного?
Первый крестьянин. Я, батюшка. Теперь грех до конца жизни замаливаю. А того иуду, что подстрекал к пожару, порешили мы. И не каюсь.
Столыпин. Вот это встреча. Как тебя по батюшке?
Первый крестьянин. Прохор, сын Фомы.
Столыпин. Прохор Фомич. И так же в старостах?
Первый крестьянин. Выбрало обчество и здесь, Петр Аркадьевич, когда переселились. А против обчества не пойдешь.
Столыпин. И сколько вас здесь, тотлебенских?
Первый крестьянин. Семьдесят пять семейств осталось. Двадцать не выдюжили, вернулись.
Кривошеин. И здесь ту же общину сколотили?
Первый старик. Ту же, да не ту. Земля-то у кажного в собственности, в отрубах. А хозяйство сообча ведем.
Столыпин. Позволь, Прохор Фомич, после всего, мною здесь увиденного, обнять тебя и высказать великую благодарность.
Первый крестьянин. Да за что, ваше высокоблагородие? Это тебе от крестьян российских…
Столыпин. Нет, увиденное здесь – это мечта моя с юности. А ты ее вот этими руками золотыми, вот этой головой смекалистой в дело воплотил!(Обнимает старика.) Теперь и помереть можно спокойно.
Первый крестьянин (вытирает слезы). Не-е, батюшка барин, теперя и тебе, и мне жить надобно, внучат на ноги ставить да Россию укреплять.
Кривошеин. Петр Фомич, братцы крестьяне, это же фантастика, миф, расскажем государю – не поверит! В селе маслобойка, сепаратор, электростанция, мельница, жатки, косилки. Синематограф свой! Школа и клуб для всех. Те-ле-фон! Откуда деньги-то взяли? На наш кредит особо не разгонишься.
– Так своя земля! Своя собственная!
– Указильщиков с шеи скинули, спасибо!
– Сами владеем, сами смекаем..
– Сами грыжу обретаем. (Гогот.)
– И налог по-божески, подходящий платим!
Столыпин. А все же. С самого начала как было?
Первый крестьянин. А было так. После отрубов взяли кредит сообча, да закупили на него, что позарез надобно: лошаденок, коровенок, плуги, жатки да семена. Горбы гнули с темна до темна, как водится. Земля здесь – что масло, чернозем – по колено. Ну как таку благодать под пастбища пущать? До хрипу спорили, носы в драке кровянили, однако ж решили: все под зерно посевом пустить! А коровенкам сарай сколотили, сенов вдосталь запасли. Они у нас-то, батюшка барин, все лето курам на смех в стойлах и простояли. Потому как пасти негде – одна рожь да пашаничка вокруг!
Кривошеин. Ай, голова! Надо же, сами додумались: европейское стойловое содержание!
Первый крестьянин. Во-во. Ну, сняли урожай, да обмерли от дива дивного: не сам сто, а сам двести с десятины взяли! Куды девать-то прорву таку?! Покумекали – и ну плоты сколачивать. Прослышали, что по Оби в Барнауле базар отменный, да с иноземцами.
Погрузили пашаничку с рожью на плоты, сплавились до Барнаула, да таку деньгу за зерно отхватили, что разом на ноги и встали. Там же все, что душа пожелала, закупили. Оно, конешно, пятеро в то лето грыжу подхватили, трое с натуги померло. А два десятка семей назад повернули, в Рассею – не с руки им, вишь, так уродоваться под гнусом показалось. Остались огнем каленые да работой пытаные. Сибиряки мы таперича. Живем, хлеб с маслицем жуем.
У нас ныне и агроном самолучший, и учительша, и лекарь с витирнарем. Механик свои́ имеется при синематографе с телефоном. Вот, думаем свой ероплан закупить: дюже охота с облаков на свое село глянуть.
Столыпин. Ах, молодцы! Распрямились! Несказанно рад я за вас. Прохор Фомич! А это что за изделия? (Подходит к выставке.)
Первый крестьянин. А это наша зимняя утеха. Зимой вечерок длинен, елстричество сияеть – не все же подсолнухи лузгать. Ну, умельцы свою душу и тешат: кузнецы, шорники, бондари, вышивальщицы. И кукольник свой имеется! Англичане дурни за это баловство золотой монетой отсыпают. Намедни танцора с города выписали: детишек наших плясать барский менувет учит. (Звонит телефон. Старик поднимает трубку.)
Чево тебе?
Голос. Фомич, тута немец лютует, плюется, швайном обзывает да бумагу в нос сует. Тебя, старосту, требует.
Первый крестьянин. Ишь ты, требует. Уважим. Ты ему, чтоб не плевался, плевальник-то завяжи. Мешок на голову – и давай сюда.
Голос. Это мы мигом!
Первый крестьянин. В наших краях германец со товарищи объявился. Без дозволения в наши наделы-отруба полезли, обмеры всякие делают. Ну, мы чинно-благородно вопрос ему: кто такие, мол, откуда и пошто без спросу? А он хлеборезку-то разинул – и орать: сам царь, мол, ему дозволил, да бумагу в нос сует. Ну, мы его, чтоб маленько остыл, со товарищи повязали да в холодную.
Столыпин. А что за бумага у него?
Первый крестьянин. Да курам на смех, барин, вроде от самого инператора. Токмо и делов у государя на нас германцев насылать. Я так думаю: разобраться надо, бумагу всяку подписать можно.
Вводят особу с мешком на голове. Особа мычит, топает ногами. Столыпин берет у сопровождающего бумагу, рассматривают с Кривошеиным.
Кривошеин. Аугаген!
Столыпин. Он самый. Я же просил, убеждал государя!
Первый крестьянин. Батюшка, Петр Аркадьевич, можа мы того… перестарались? Развязать, что ли?
Пленник мычит, буйствует.
Столыпин. Подождем. (Просматривает с Кривошеиным бумаги.) Полный статистический отчет развития трех губерний с переселенцами.
Кривошеин. Схема железной дороги, мосты. Прииски с золотодобычей.
Столыпин. Все как на ладони.
Кривошеин. Но это копии. А где оригинал?
Столыпин. Больше никаких бумаг при нем не было?
Первый крестьянин. Так они, прыткие, гонца от себя давеча услали. Ускакал, черт, не поспели мы перехватить!
Столыпин. Вот так. Весь продовольственный, земельный и золотой потенциал Сибири уплыл с нарочным.
Кривошеин. Почти полностью совпадает с нашими данными. Его еще в Петербурге многим снабдили.
Столыпин. Именно. Ювелирно сработали, мерзавцы.
Кривошеин. В случае войны всё как на ладони.
Столыпин. Немедленно в Петербург.
Первый крестьянин. Петр Аркадьевич, мы, видать, лишку с ними… вон ты аж с лица сменился!
Столыпин. Нет, Прохор Фомич, ты сделал все, как подобает. От правительства тебе и селу благодарность. Я распоряжусь у губернатора. Нам надобно в дорогу. Немцев отпустишь утром: что сделано ими, того уж не вернешь.
Прощайте, крестьяне, Бог вам в помощь. Мы отбываем с гордостью за вас. Вы – надежда империи.
– Прощай, ваше благородие!
– Премного благодарны за заботу.
– Хоша для себя стараемся, однако и для России фарт растет.
Первый крестьянин. Петр Аркадьевич, благодетель наш, я тут с духом собрался напоследок передать государю наше сибирское слово.
Столыпин. Ну, говори.
Первый крестьянин. По нашему пониманию неладно у престола, склизко. Гнал бы государь Гришку-расстригу. А то ведь позор на нашу российскую голову от всей Европы. Мы великий народ, негоже наш православный престол об какого-то хлыста марать.
Столыпин. Передам, Прохор Фомич, обещаю. (Уходят с Кривошеиным.)
Кривошеин. Ты увидел разницу между теми, тотлебенскими, и этими? Какой взгляд, осанка, энергия, наконец! Я впервые почувствовал буквально физически мощное, здоровое дыхание нации. Ее уже не возьмет никакая социал-революционная зараза.
Столыпин. Я тоже это почувствовал. И даже Аугаген с его шпионским рапортом отошел на второй план. Сибирь и реформы – уже постфактум. Они состоялись, слава Богу. Для меня сейчас на первый план выходят Западные губернии. Польша рано или поздно отломится от империи стараниями сепаратистов, а Германия никогда не откажется от зова предков: «Дранг нах остен». И если мы не проведем Закон о равноправии славян в Западных куриях – Россия потеряет хотя не голову, не сердце, но – правую руку.
Государь не обрел воли даже на то, чтобы задержать Аугагена с его шпионской инспекцией. Сможет ли переломить Государственный совет на принятие Закона? Вот что мучит более всего теперь.
ДЕЙСТВИЕ III
XV
Зал царского дворца. В нем царь и Столыпин.
Николай II. Я ознакомился с вашим отчетом по Сибири. Результаты реформ просто неохватны умом: в Сибирь перетекло около трех миллионов крестьян. Вернулись не более трехсот тысяч. Один к десяти. Мы приросли зерном почти вдвое, Сибирь затоварена хлебом, маслом и картофелем. Экспорт масла дал вдвое больше золота, чем все золотодобывающие артели.
Крестьянин ныне требует жаток, косилок, маслобоек. Это толчок к развитию промышленности, на которую в избытке деньги! Поздравляю, Петр Аркадьевич! Россия – на белом коне!
Что это у вас погребальный вид при эдаких фанфарах?
Столыпин. Погребальный вид, государь, от погребения в Госсовете Закона о Западных куриях.
Николай II. Ах, вот что. Не держите этот пустяк так близко к сердцу. Ныне вы победитель в реформах…
Столыпин (резко). Это далеко не пустяк, ваше величество! При наличии польского населения в Западных губерниях 2-3 процента, лишь они избираются в Государственный совет. Девяносто восемь славян из ста лишены этой возможности, чем поставлены в положение людей второго сорта у себя в Отечестве.
Николай II. И в чем вы видите справедливость?
Столыпин. Право представлять нацию в Государственном совете и принимать законы! Право коренной нации не быть людьми второго сорта! Это и есть высший принцип государственности, когда у руля государства стоят патриоты. Римская империя не предоставила таких прав своему демосу. Оттого и погибла.
Николай II. У вас столь трагичный тон, будто на троне России восседает вражеский лазутчик. А наш западный демос оброс шерстью и скоро станет на четвереньки.
Столыпин. На четвереньки, ваше величество, поставит всех нас Германия, где уже нет Бисмарка. Она втиснута в прокрустово ложе своих границ. И никогда не теряла волчьего аппетита на наши земли. Но противостоять ей в первом, самом жестоком натиске будут люди второго сорта, с сознанием ущербных эмигрантов на своей земле!
Николай II. У вас сегодня нудная потребность читать своему государю прописные истины!
Долгая пауза.
Петр Аркадьевич, драгоценный вы наш! Ну, так уж получилось! Я не способен ломать через колено, как вы! Явился Трепов, имея за спиной Дурново, и спросил: как им голосовать по вашему законопроекту в Государственном совете – «за»? Или по совести?
Столыпин. И вы ответили – по совести.
Николай II. Но как, как иначе ответить?!
Столыпин. Вы запустили козла в демократический огород. А он не хочет видеть разницы между «совестью» и «государственной необходимостью».
Николай II. Господин Столыпин! Есть предел терпению! Вы позволяете себе непозволительное!
Столыпин. Вы правы. Я достиг этого предела. Три года назад вы не захотели поддержать меня с законопроектом о равноправии еврейства. И эта проблема – козырь в руках революции. Она терзает Россию все злее и изощреннее в ответ на идиотские погромы черносотенцев!
Вы отказали мене в просьбе не пускать шпиона Аугагена в Сибирь – и императору Вильгельму ушел подробный стратегический отчет о российском потенциале. Что вызвало немедленно ответные меры Германии.
Николай II. Какие именно?
Столыпин. Я подготовил письменное донесение об этом. Вы получите его завтра. Ныне вы помогли утопить наиболее важный из всех Закон о Западных куриях.
Мне надоело в одиночестве сражаться на два фронта: со спесью дубово-столбовой аристократии и кротовой разрушительностью еврейских магнатов!
Надеюсь, вам удастся одному справиться со всем этим!
Примите прошение о моей отставке. (Идет к выходу.)
Николай II. Петр Аркадьевич! Это же… вы… как обухом по голове.
Столыпин. Позвольте перед уходом высказать пожелание сибирских крестьян: гнал бы государь Гришку-расстригу, мы великий народ, негоже наш православный престол о какого-то хлыста марать. Честь имею. (Уходит.)
Николай II. Господи, смири гордыню мою… Нет! Каков наглец! Что же делать? И кто виноват? Я ведь не могу быть виновным?! Каков наглец!
XVI
Гатчина, дворец императрицы. Комната Глинки. Здесь сама хозяйка – Юлиана Дмитриевна. Стук.
Глинка. Входите. (Входит Рачковский.)
Рачковский. Простите за раннее, незваное вторжение, сударыня. Обстоятельства чрезвычайного плана.
Глинка. На вас лица нет, Рачковский. Что случилось?
Рачковский. Столыпин подал в отставку.
Глинка. Этого… не может быть! Не должно быть!
Рачковский. Меня только что оповестили.
Глинка. Но что за причина?!
Рачковский. Проваленный Госсоветом его законопроект о Западных куриях.
Глинка. Боже мой… надо что-то делать. Это конец. Я немедленно, сейчас же к матушке, Марии Федоровне. Лишь она сможет удержать…. Только она и никто более… Петр Аркадьевич не подвластен более ничьему влиянию.
Рачковский. Именно потому я здесь. Еще одно, не менее жестокое. Зарубежная агентура Гартинга скопировала в берлинском посольстве отчет профессора Аугагена императору Вильгельму об инспекции по Сибири. Выводы Аугагена: еще два года таких реформ, и с могуществом России в случае войны не справится даже коалиция европейских стран.
Вильгельм в бешенстве, принимает беспрецедентные меры вкупе с банкирами. В Берлин к банкиру Парвусу-Гельфанду съехались главы банкирских империй: из Америки глава банкирского дома «Кун-Леб и К°» Яков Шифф и Феликс Вартбург. Из Франции Ротшильд. Принято решение о выделении императору Вильгельму и генеральному штабу 600 миллионов марок для подрывной работы в России. Определены кандидатуры главарей.
Глинка. Взлетели, стервятники! Кто главари?
Рачковский. Не засвечены активностью в России. Второстепенные теоретики, сидевшие по щелям в Женеве, Париже и Америке. Некие Ульянов, Троцкий и Свердлов.
Глинка. Петр Аркадьевич знает?
Рачковский. Я подготовил отчет об этом для императора, передал Столыпину и вот… лавиной известие об отставке. Не мешкайте, Юлиана Дмитриевна. Россия – на новой мине, куда более мощной, чем прежние. С вашего позволения, я удаляюсь. (Идет к выходу.)
Глинка. Петр Иванович…
Рачковский (ошеломлен). Слушаю вас.
Глинка. Ваши появления здесь так стремительны и скоротечны…
Рачковский. Я… не смею продолжительно оскорблять вас… своим присутствием.
Глинка. Вы не оскорбляете меня.
Рачковский. Я… не ослышался, сударыня?
Глинка. Вы не оскорбляете меня своим присутствием. Более того. Во мне мучительна потребность видеть вас.
Рачковский. Боже… мне позволено жить.
Глинка. Вы стали достойно жить, Петр Иванович.
Рачковский. Благодарю вас, сударыня. Сегодня… испепеляющий день… из горечи и… пронзительного счастья. Я ведь тоже в отставке велением государя. Вы этого не знали? (Уходит.)
XVII
Гатчина. Комната вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она стоит у окна с книгой. Входит Николай II.
Николай II. Ваши приглашения, маман, как всегда, категоричны и раскалены.
Мария Федоровна. Сядьте, Ники.
Николай II. Вы не могли бы переслать письмом то, чем намерены просветить сейчас? Что вы хотите от меня?!
Мария Федоровна. С кем ты останешься царствовать без Столыпина?! С кем намерен одолевать эту страшную, хищную и зрячую силу: с кучкой раззолоченных, ожиревших индюков? С ряженой толпой болтунов в косоворотках «а ля рюс»? На них нельзя опереться, они предадут, ибо алчут от твоего трона лишь злата, чинов и утех! Ты же слеп и слаб! Ты погряз в безволии, созерцании и кутежах!
Николай II. Это бесчеловечно, маман, так говорить со мною!
Мария Федоровна. Тебя засосало уже неприкрытое шпионство и распутинщина! Царствующая императрица с мужиком… на глазах у всей Европы! И ты терпишь!
Николай II (кричит, зажимая уши). Матушка, пощади!!
Мария Федоровна. Тебе никто этого не скажет, кроме меня! Я могла пожалеть сына, но не вправе щадить императора России! Ты принудил Столыпина к отставке. Уходит единственный, преданный тебе сановник, посланный империи Богом! Лишь в нем спасение России и твое, он истинная опора монархии! Последняя опора!
Верни его, Ники. Если не сделаешь этого – я уйду в монастырь и всенародно отрекусь от тебя.
Николай II (плачет). Я все сделаю, маман. (Уходит.)
Мария Федоровна. За что проклята Богом держава? Мать терзает венценосного сына…
В приемной стоит Столыпин. Николай II проходит мимо, промокая слезы платком, даже не взглянув на Столыпина. Тот, помедлив, заходит к императрице, кланяется.
Столыпин. Вы пригласили, государыня.
Мария Федоровна. Петр Аркадьевич, голубчик, я глубоко и панически озабочена вашим прошением об отставке. Мне, старухе, не следовало бы лезть в государственные дела, да мучит страх: без вас ведь обрушится все. Ники безволен и истерзан интригами, Распутиным и императрицей.
Столыпин. Вы преувеличиваете мое значение для России…
Мария Федоровна. Ах, бросьте, Петр Аркадьевич! Не время разводить цырлих-манирлих. Мы ведаем вашу роль в империи. Ее и потомки оценят. Не покидайте нас, голубчик!
Столыпин. Ваше величество, но прошение об отставке подано, и государь-император не отверг его.
Мария Федоровна. А он отвергнет! И ваши требования исполнит. И ваши сатисфакции негодяям утвердит. Ручаюсь вам.
Столыпин. Вы ставите меня в сложное положение, государыня.
Мария Федоровна. А в какое вы поставили нас? Помилуй Бог – в панику загнали. Меня, старую, бессонница, мигрень да трясучка который день изводят. Не упорствуйте в гордыне. Не нам – России более всего худо будет.
Обещаете, что возьмете прошение обратно! Да? (Столыпин склоняет голову.) Ох, как славно! Камень с души. Ступайте, голубчик, и ждите. Храни вас Бог для России.
Кстати, Петр Аркадьевич, что за новый вьюн Спиридович в полковничьем чине обвил трон? Это ваше протеже?
Столыпин. К несчастью, не мое. Генерал-адъютанта Гессе и министра двора Фредерикса.
Мария Федоровна. Но где Рачковский? Он совсем исчез.
Столыпин. Он отправлен государем в отставку. (Уходит.)
Мария Федоровна. Последыши Витте… опять облепили престол, проклятые!
XVIII
Царское село. Кабинет Николая II. Царь стоит у окна. Входит Столыпин.
Столыпин. Государь!
Николай II (не оборачиваясь). Вы получили мое письмо, господин Столыпин?
Столыпин. Я прочел его, ваше величество.
Николай II. Я полагаю, там достаточно моих сожалений и реверансов по поводу случившегося. Поэтому к делу. Я прошу вас взять свое прошение об отставке. (Столыпин молчит. Николай II оборачивается.) Вы ждете императорских дифирамбов? Извольте. Премьер-министр Столыпин нужен трону Романова как наимудрейший и незаменимейший сановник. Вы удовлетворены?
Столыпин. Государь, мое прошение об отставке не было актом чувств или амбиций. Оно возникло как результат ущемления славянских прав в империи славян.
Николай II. Это частности, господин Столыпин. Я жду ответа на главный вопрос: вы возьмете прошение назад?
Столыпин. Да, государь. При двух условиях.
Николай II. Каких?
Столыпин. Распустить обе палаты на три дня и за это время провести Закон о Западных губерниях по 87 статье волею императора. Это первое.
Второе: Трепова и Дурново, возбудивших саботаж в голосовании, выслать на некоторое время из столицы, прервав их работу в Госсовете.
Николай II (с цепким внимательным изумлением рассматривает Столыпина). Это беспрецедентно-карательные меры. Вы… не боитесь бунта на думском корабле?
Столыпин. Нет, государь.
Николай II. Вы… отдаете себе отчет, что вас ждет в этом противостоянии, где я… уже не смогу помочь?
Столыпин. Да, государь.
Николай II. Поразительно. Вы, наверное, переутомлены, господин Столыпин, коли ломите напролом. До этого у вас хватало выдержки отыскивать компромиссы.
Столыпин. У меня иссякло терпение, ваше величество, распутывать гордиевы узлы болтунов и интриганов. Да и времени на это нет. Вокруг России сжимаются тиски. Нас душат все ощутимее.
Николай II. Я… принимаю ваши условия. Но… дайте мне хотя бы два дня!
Столыпин. Как вам угодно, государь. (Уходит.)
Николай II. Это становится, наконец, невыносимым! Пора положить конец!
XIX
Август 1911 года. Крым, Ливадийский дворец. Николай II прогуливается по дорожке с начальником охраны двора полковником Спиридовичем.
Николай II. Ну-с, Александр Иванович, вы благоухаете петербургскими новостями. Прежде всего, о Столыпине. Что пишут газеты?
Спиридович. Нещадное избиение справа и слева, государь. Его и Вас.
Николай II. Я предупрежден!
Спиридович. Позвольте зачитать выдержки?
Николай II. Да-да. Из левых.
Спиридович (читает). «Столыпин бронзовеет в маниакальном величии. Его влияние на императора обретает все более явственную форму узды и железных шпор».
Николай II. Каковы борзописцы! Далее.
Спиридович. «Императорский акт принятия по 87 статье Закона о Западных губерниях есть не что иное, как диктат премьер-министра. Поздравим себя с двумя императорами: премьер-министром и просто оным».
Николай II. Подлецы!
Спиридович. «Еще ни одни парламент, ни одна Конституция Европы не были подвергнуты столь издевательскому ляганию копытами. И кем? Кентавром, где тулово и зад царские, но голова – премьер-министерская!»
Николай II. Довольно! (Ломает на мелкие куски ветку.) Какая мерзость. Этого следовало ожидать. И какова реакция самого Столыпина?
Спиридович. Упивается, ваше величество.
Николай II. В самом деле?
Спиридович. Неделю тому назад в Английском клубе в карточной игре сели за один стол Бобринский, Гучков, Столыпин и мой доверенный человек. Бобринский в разговоре заявил, что подлинный царь в России – это Столыпин, усмиривший смуту железной рукой и держащий ныне в этой же руке все нити политической и хозяйственной жизни.
Николай II. И что Столыпин?
Спиридович. Промолчал при скорбной улыбке.
Николай II. Красноречивое молчание.
Спиридович. Перешедшее после выпивки в буйное красноречие.
Николай II. Вот как?
Спиридович. Петр Аркадьевич весьма цветисто и с восторгом, но с тоской во взоре отозвался об английской конституционной монархии. Там монарх – фикция, пшик и не может прогнать своего премьера, как последнего лакея. Над судьбой премьера властен лишь парламент с большинством голосов.
Николай II. Он жаждет Англии в России. Витте жаждал Франции над Россией. Мне катастрофически не везет с премьерами.
Спиридович. Как не жаждать, ваше величество, когда фанаберии через край, до положение-то хлипкое, от воли монарха зависит.
Николай II. Вы уверены, что жажда Столыпина… не перешла в заговорные дела?
Спиридович. Похоже, что так. И есть тому немало доказательств. Я доложу о них, как только все оформится в документах.
Николай II. Вот откуда высокомерие и ультиматумы в последнее время! Я все более ценю вашу вездесущую осведомленность, Александр Иванович.
Спиридович. Это мой долг, государь. Позвольте уяснить некоторые частности охраны на предстоящих торжествах в Киеве в честь открытия памятника Александру II.
Николай II. Что вас тревожит?
Спиридович. Более всего наличие агентов охраны. Оно явно недостаточно в связи с распылением охранного аппарата на Столыпина и председателя Госсовета.
Николай II. Сколько агентов на охране Столыпина?
Спиридович. По протоколу немногим меньше, чем у вашего величества.
Николай II. Мы опять даем повод лаять борзописцам об уравнении наших прав. Зачем столько Столыпину? Воспользуйтесь арифметикой, мой друг. Вычитайте у премьера и прибавляйте в необходимые места, то бишь императору.
Спиридович. Слушаюсь, государь. И последнее. Начальник Киевского корпуса жандармов Кулябко…
Николай II. Тот самый воришка по рапорту Новицкого? Присвоение десяти тысяч рублей, отпущенных на филеров?
Спиридович. У вас блестящая память, государь.
Николай II. Я же начертал резолюцию на рапорте…
Спиридович (цитирует). «Отрешить от должности и заключить в крепость».
Николай II. Тогда в чем закавыка?
Спиридович. Позвольте мне самому разобраться в Киеве с этим делом. У меня подозрение, что из-под пера Новицкого выполз поклеп на Кулябко. К тому же менять шефа жандармов в Киеве накануне торжеств…
Николай II. Боже, и жандармерия погрязла в интригах. Ну извольте, разберитесь.
Спиридович. Разрешите отбыть в Киев?
Николай II. С богом, Александр Иванович. Я на вас очень надеюсь. И ценю.
Спиридович. Положу все силы служению престолу, ваше величество!
XX
Квартира Богрова в Киеве. За столом, на котором штоф с водкой, остатки закуски, какая-то смятая бумага, сидит в прострации Дмитрий Богров. По виду его заметно – пьет не первый день. Стук в дверь.
Богров. Кто-о?
Голос. Дмитрий Григорьевич, откройте.
Богров. Что значит «откройте»? Извольте назваться.
Голос. Откройте и увидите, кто.
Богров. Я никого не звал. Пшел к черту.
Голос. Извольте немедленно открыть! (Вполголоса.) Я от Ку-ляб-ко.
Богров. Позвольте… почему без пароля? Пароль.
Голос. А, дьявол! Я что, должен орать его на всю лестницу?
Богров открывает. Входит Рутенберг.
Богров. Ру-тен-берг?!
Рутенберг. Не ждали. И какой же пароль у вас оговорен с жандармом Кулябко?
Богров. С жандармом Кулябко у нас оговорен следующий пароль: «Вам телеграмма из Монте-Карло». Что еще вас интересует?
Рутенберг (достает два револьвера). Почему из Монте-Карло?
Богров. А потому что на отдыхе, оплаченном жандармерией Кулябко, я изволил пить шампанское и играть в рулетку именно в Монте-Карло.
Рутенберг. Мне кажется, вы не совсем понимаете свое положение, Богров. Вы разоблачены мною, как провокатор…
Богров. Коего, вы, эсеровский ангел смерти, обязаны убрать.
Рутенберг. Вам предоставляется возможность сделать это самому. (Кладет один револьвер на стол.)
Богров. Как вы великодушны, мой ангел!
Рутенберг. Возьмите себя в руки. Я обязан рассказать в ЦК о ваших последних минутах. Так ведите себя достойно.
Богров. Нет, я в самом деле благодарен вам, Петр. Подохнуть перед пустым штофом, уткнувшись мордой в прокисший салат… да еще в одиночестве… бр-р-р! Но явились вы. И я почти ликую.
Рутенберг. Прекрати паясничать!
Богров. Ах, Петя, Петя… сколько пафоса. Палач должен быть бесстрастен, как сфинкс. Прочти. (Расправляет смятый лист бумаги на столе.)
Рутенберг. Что это? (Читает.) Ты собрался сам?!
Богров. Именно. К ночи. Это черновик. Письмо, набело переписанное, уже выпорхнуло в почтовый ящик. Завтра оно пронзит моих законопослушных и неприлично богатых родителей. Но я буду уже далече. Так что ты явился весьма вовремя.
Рутенберг. Пикантная ситуация.
Богров. Что тебя не устраивает? Ты доложишь в ЦК об исполнении приговора провокатору, подтвердишь безупречную репутацию свою – ангела смерти. Сначала Гапон. Ныне – я. Кто следующий? Азеф?
Рутенберг. Ты не ошибся.
Богров. Так выпьем же и приступим?! (Пьет.)
Рутенберг. Но как ты мог? Предать наше святое дело…
Богров. Де-ло-о-о?! Да какое, к черту, у вас дело, Петя? «Свобода, равенство, братство!» Ты же умный человек. Ты должен понимать, что этот бессмысленный набор звуков – для гойского стада. Ваша… пардон, наша цель неизменна и стара в веках, как химический состав собачьего дерьма. Эта цель – ухватить штурвал всевластия и все блага, налипнувшие на него. Я нахлебался этой марксистско-розовый блевотины еще до моего филерства у Кулябко. Но, сдав жандармам двух гойских анархистов в ранге филера, я понял, что это тоже омерзительно. А впереди убийственное прозябание, где я должен сжевать и проглотить бесконечный ряд киевских котлет! И все!! И окочуриться!! В ранге механизма для переработки пищи на дерьмо.
Я осознаю, что… бездарен в любом созидательном деле. А значит, обязан похерить надежды, что мое имя хоть чем-то запомнится потомкам.
Ты знаешь, иногда я дико, до истерики завидую Герострату. Это оказалось так просто – поднести факел к тряпке в храме и спалить его к чертовой матери! Вот достойный способ остаться в веках!
Петя… я, кажется, догадываюсь, почему ты в революции… ты обожаешь… ликвидировать. Неважно кого. Но разбрызгивать чужие мозги по стенке – твое вдохновенное призвание, а?!
Рутенберг. Ты пьян! Я не намерен обсуждать это с тобой!
Богров. Тебя это задело? Ну не сердись, Петр. Я умолкаю.
Рутенберг. Позволь все же узнать: почему ты намерен стреляться?
Богров. Я же сказал: ску-шно-о! Ты осознай, что сотворил этот мерзавец Столыпин! Раньше Россия восхитительно бурлила: стачки! Бунты и поджоги! Леденящий восторг терактов! Скрип трона, который мы расшатывали!
А ныне? Глухое, могильное спокойствие. Империя стабильна и незыблема как чугунный памятник Александру! Она стала омерзительно богата, и славянская харя сибирского кулака нагло лезет уже в Европы! Не-е-ет! Увольте. Я предоставляю сосуществовать с этой харей вам, Рутенберг.
Ну, что, приступим? Я готов. (Берет револьвер.) Не отворачивайся! Во-первых, я могу от страха укокошить тебя… а во-вторых, мне так легче.(Подносит револьвер к виску.)
Рутенберг. У тебя есть способ остаться в памяти потомков.
Богров. Проклятье! Ты сбил настрой, скотина, негодяй!! О чем… ты?
Рутенберг. Ты можешь убить Столыпина.
Богров. Это словоблудие палача?
Рутенберг. Мое прибытие в Киев имело двойную цель: поручить убийство Столыпина Муравьеву и проверить тебя. Муравьев согласился при условии, что ты ему поможешь. Но сегодня ночью его арестовали. А ты получаешь блестящий шанс надеть белые ризы мученика и прославиться.
Богров. Но пробраться к Столыпину через охрану…
Рутенберг. Трудно. Более того – невозможно. Но если это тебе удастся – ты войдешь в историю наравне с Кибальчичем, Перовской, Савинковым. Мы обелим и восславим тебя через нашу прессу.
И потом… ты ведь агент Кулябко. Используй его в теракте.
Богров. Подожди-подожди… ты дьявол в искушении! Использовать Кулябко… блестящая идея.
Рутенберг. Дарю. Я могу разработать легенду для него.
Богров. Нет! Уж позволь, я сам. Я один обведу вокруг пальца всю эту тупоумную свору жандармов. Впереди целая ночь.
Рутенберг. Ты не прав, обвиняя себя в бездарности. Убрать Столыпина завтра сможет лишь гений террора. Тебе оставить револьвер?
Богров. У меня есть. Все! Иди! Я воспрял в упоительном восторге. Ты принес мне королевский подарок. Прощай. (Рутенберг уходит.)
XXI
Киев. Квартира киевского шефа жандармов Николая Николаевича Кулябко. Входят Спиридович и насмерть перепуганный Кулябко.
Кулябко. Александр, я теряюсь в догадках! Что произошло? На вокзале ты не подал руки, не ответил на приветствие, немедленно отбыл в охранное отделение, потребовал картотеку агентов и два часа занимался ею.
Что стряслось?! От царя?! Не молчи так зловеще… ты же родственник мой, шурин.
Спиридович. Сестра дома?
Кулябко. Ирина будет с минуты на минуту. Не томи же! Меня ноги не держат!
Спиридович. Я полагаю, скоро ты не станешь их утруждать. В камере сидят, а не ходят.
Кулябко. В ка…кой камере?
Спиридович. В кою заключен будешь по воле государя. Читай. Рапорт Новицкого о твоем лихоимстве. С государевой резолюцией.
Кулябко читает. Опускается на стул, по-рыбьи хватая воздух. Спиридович плескает ему в лицо стакан воды.
Кулябко. А ва…ва-ше… превосхо-дитс-с-с-с…
Спиридович. Опрошенные мною филеры показали под присягой, что из десяти тысяч, якобы розданных тобою, ни один не получил и рубля. Ну-с, родственничек, подгадил ты мне, верному слуге престола и Отечества. Не ждал!
Кулябко сползает на колени, обнимает ноги Спиридовича.
Кулябко. Не погуби-и-и, Александр… о сестре Ирине подумай… что с нею будет без меня?!
Спиридович. А ты о ней думал, когда польстился на эдакую бздюшноть: де-сять тыщ?! Тьфу! Руки марать-то побрезговал бы?
Кулябко воет, целует сапоги Спиридовича.
Спиридович. Ладно, утри сопли. Твое счастье, что государь вручил твою судьбу мне. Я расследовать и решать уполномочен.
Кулябко. Александр Иванович… светило ты наше… не отступись! Рабом твоим по гроб жизни стану… все, что скажешь, все, что пожелаешь!
Спиридович. Встань. Иди, вымой рожу, смотреть противно.
Кулябко идет в ванную. Спиридович достает несколько учетных карт тайных агентов, просматривает. Входит Кулябко.
Кулябко. Нет! Экая дрянь Новицкий! Сам ведь вдесятеро ворует, а мне…
Спиридович. А тебе сидеть. Ибо не научен – не суйся рылом в калашный ряд. Доложи, что сделано перед торжествами.
Кулябко. Третий день чистим город от подозрительных элементов. Арестовали некоего Муравьева без документов. Сегодня ночью вдруг требует меня тет-а-тет. Привели из камеры, с ним истерика: эсер, подпольщик. Надоело жить с петлей на шее. Член ЦК эсеров Петр Рутенберг, явившийся из Петербурга, приказал ему приступить к разработке плана убийства Столыпина с помощью местного Богрова.
Спиридович. Богров? (Ищет в картотеке.) Этот?
Кулябко. Он самый. Наш агент на жаловании в 185 руб. Как агент, жи́док, неактивен, сдал три года назад пару анархистов и все. Сын присяжного поверенного, иудея Григория Богрова. Папаша вхож к генералу Новицкому, вице-губернатору Чихачеву.
Спиридович. Стоп! Еще раз. По порядку. Богров должен помочь Муравьеву убить Столыпина на торжествах. Где Богров?
Кулябко. В городе. Теперь глаз не спускаем. Он отчего-то в дикой мерихлюндии, никуда не выходит, пьет.
Спиридович. Почему он не пришел, не доложил тебе о терзадании, если агент на жаловании?
Кулябко. Теряюсь в догадках. Если не появится сегодня – возьмем на цугундер, кишочки из живого потянем, сознается.
Спиридович. Так-так-так. Неисповедимы пути твои, Господи. Ай-яй-яй, как кстати.
Кулябко. Ты о чем, Саша?
Спиридович (ощерился) С-с-саша… что-то быстро ожил от государевой резолюции!
Кулябко. Александр Иванович… благодетель… да я…
Спиридович. Отныне под моим топором ходишь. Оттого напряги мозги и слушай. Дело государевой важности.
Кулябко. За вас, Александр Иванович, хоть в петлю!
Спиридович. Перед отъездом сюда я конфиденциально докладывал государю наше расследование заговора – при главенстве Столыпина.
Кулябко. Г-господи, твоя воля!
Спиридович. Столыпин набрал силу в реформах и ныне злобно тяготится второй ролью в империи. Его идеал – английская конституционная монархия. После переворота Столыпин становится конституционным монархом, как прямой потомок Рюриковичей…
Кулябко. Ах, подлец! Кого пригрел государь?! И что решено по Столыпину?
Спиридович. А ничего. Заговор – не переворот. Вот начнут оный… Но! Хорошо бы… стрясль чего-нибудь. Здесь.
Кулябко. Чего?
Спиридович. А ты подумай. Пошевели мозгами.
Кулябко. Если его… здесь…
Спиридович. Ну.
Кулябко. На торжествах…
Спиридович. Так-так.
Кулябко. Террористы…
Спиридович. Соображаешь, умница.
Кулябко. А с Кулябко, как с козла отпущения, шкуру живьем спустят!
Спиридович. Кто? Государь, избавленный от взбунтовавшейся тени? И еще. Если паче чаяния с козла отпущения надумают одну шкуру спустить, то по резолюции государевой обязаны спустить три. За воровство.
Звонит телефон. Кулябко берет трубку.
Голос. Ваше превосходительство, явился Дмитрий Богров, требует немедленной встречи с вами.
Кулябко. Давай его сюда! Быстро! (Спиридовичу.) Богров просится.
Спиридович. На ловца и зверь бежит. Выходит, не зря жалование платим. А, может, и богровское прикарманивал?
Кулябко. Прикарманивал – не явился бы.
Входит Богров.
Богров. Здравия желаю, ваше превосходительство.
Кулябко. Здоровеньки булы, Митяй. Сверхнеосторожно днем на квартиру. Что-нибудь приперло, стряслось? Что за спешка?
Богров смотрит на Спиридовича.
Кулябко. Александр Иванович Спиридович, начальник охраны императорского двора.
Богров. Как нельзя кстати. Во рту пересохло.
Кулябко. Выпей. (Наливает коньяка.)
Богров. Избавьте, Николай Николаевич. Мне ныне хрустально-трезвая голова понадобится. Если позволите – боржоми. (Жадно пьет.)
Кулябко. Ну-с, я слушаю.
Богров. Вчера, в восемь сорок вечера ко мне явился ранее знакомый по эсеровской партии Петербурга террорист, он же член ЦК эсеров Петр Рутенберг. (Кулябко и Спиридович переглядываются.) Разработаны два плана убийства Столыпина на торжествах. По первому из них теракт должны произвести мы с эсером Муравьевым, прибывшим с неделю назад. Если с кем-нибудь из нас что-то случается, в действие вступает второй план. Поскольку Муравьев сегодня ночью арестован, в Киев прибывает боевик с большим стажем Николай Яковлевич.
Спиридович. Кто такие Муравьев и Николай Яковлевич?
Богров. Муравьев, как я уже говорил, здесь несколько дней, жил у знакомой без документов. Николай Яковлевич опытный тер… тер…
Заваливается на бок. Кулябко подхватывает его.
Кулябко. Нет, ты все-таки коньячку прими! (Вливает в рот рюмку коньяку.)
Богров. Прошу прощения, господа. Не спал ночь, перегорел.
Кулябко. Дмитрий Григорьевич, драгоценный вы наш, поверьте, мы все понимаем.
Богров. Николай Яковлевич – это кличка. По словам Рутенберга, это гений террора. Приметы весьма скудные. Я записал. (Подает листок.) У него здесь влиятельные покровители, которые снабдят его документами и билетом в театр на представление, где будут государь и Столыпин. Там же в тайник ему будет положен револьвер.
Спиридович. Как станете поддерживать связь?
Богров. В том-то и штука – никакой связи нет. Мне предписано достать коробку грима и парик. Быть дома надо безвылазно. Он может появиться в любое время за свертком.
Кулябко. Тогда мы его и накроем, субчика!
Богров. Чтобы выслушать невинную побасенку – ошибся номером дома.
Спиридович. Вы абсолютно правы, Дмитрий Григорьевич. Что вы предлагаете?
Богров. Это сверхосторожная птица. Появится у меня с паролем: «Здесь живет Кукушкина Авдотья?» Заметьте, и пароль скользкий, неподсудный, наверняка где-то в соседнем доме эта Кукушкина и обитает.
Больше о нем ничего не известно. Любое наблюдение за моим домом, квартирой могут его спугнуть. Единственный шанс – увидеть его лицо хоть на миг. Парик он явно перекрасит, загримируется. И узнать его в театре смогу только я. А вот там с револьвером по моей указке его надо брать.
Спиридович. Разумно, весьма разумно.
Богров. И еще одно, господа. Там ведь будет и государь-император. И кто знает, на чье убийство толкнет фантазия этого кровожадного зверя. Необходимо всемерно усилить охрану царя, чтобы выставить приманкой одного, слабо охраняемого Столыпина. Так легче нам работать.
Спиридович. Николай Николаевич, с сегодняшнего дня повысьте жалование Дмитрию Григорьевичу вдвое. По завершении ареста террориста в театре поистине царские милости грядут. Для всех. Идите, господин Богров. Наблюдения за вашим домом не будет, я распоряжусь – слишком велик риск.
Богров. Как вы понимаете, господа, мне нужен пропуск в театр.
Кулябко. Дмитрий Григорьевич, это уж моя забота. Вам его доставят. Держите меня в курсе по мере возможности.
Богров уходит.
Кулябко. Ну, каков? Мое воспитание.
Спиридович. Весьма любопытный фрукт, весьма.
Кулябко. А в чем загвоздка?
Спиридович. Первая загвоздка в том, что пока ты с коньячком хлопотал при его, якобы, обмороке, я взгляд его поймал на себе. Коршунячий у него глазок-то, цепкий: верим ли мы его театру?
А вторая загвоздка: мы оба в полных дураках при таком раскладе. По этому раскладу нам надлежит доставить его в театр беспрепятственно.
Арестовать его нельзя, ибо если Николай Яковлевич и вправду существует, то без Богрова он окажется в театре сам и без нашего контроля укокошит кого угодно. Сам же Богров, доставленный нами в театр, обязательно жахнет. Добро в Столыпина? А ну как… в го-су-да-ря?!
Кулябко. Господи, твоя воля! Сохрани и помилуй! Так… что делать… делать-то что?!
Спиридович. Думать! Это тебе не филеров обчищать! Для того и ночь впереди. Вот что… придется подключать вице-директора Веригина. Крутая каша заваривается. Одни мы увязнем. Я оповещу и Курлова. Расхлебывать будем вместе. Но больше чтобы – ни одна собака! Голову оторву!
Кулябко. Да понял я, господи, понял! О-ох, тяжко-то как!
В темноте звучат аккорды второго акта «Евгения Онегина». Свет. На сцене – зал городского киевского театра. Блистающая знать императорского дворца аплодирует. В ложе генерал-губернатора император Николай II и императрица.
Встают. Тут же встает и зал. Царь с царицей уходят из ложи под аплодисменты и возгласы: «Слава императору!»
Столыпин подходит к ложе в партере, предназначенной для совета министров, где сидят министры и Кривошеин. Лакей-камердинер загораживает вход перед Столыпиным.
Лакей. Позвольте ваш пропуск.
Кривошеин (из ложи). Болван! Ты что, не видишь, кто входит?
Лакей (с невообразимой, санкционированной наглостью). Ваш пропуск извольте-с!
Столыпин. А если без оного?
Лакей. Не велено-с! Прошу не загораживать проход.
Кривошеин. Прочь с дороги, мерзавец!
Столыпин. Оставьте, Семен Власович. Драму переделывают в дешевый, но показательный фарс. Фредерикс не только изъял мою коляску и охрану в Киеве, но, оказывается, не выдал пропуска в нашу ложу.
Кривошеин. Какая мерзость… (Выходит из ложи.)
Столыпин. Видите ли, на уровне Фредерикса недопуск премьер-министра лакеем в министерскую ложу предполагает немедленное харакири от позора. Но не доставлять же всем такого удовольствия. Да и кинжала подходящего нет. Идемте, промнемся.
Прохаживаются в центре. Обе фигуры представляют собой магнит с отталкивающим полюсом. Блистающая мундирами масса теперь движется по отдаленному кругу, отжатая от Столыпина императорской опалой.
И оттого голос Столыпина, произносящего фразы (каждая из которых теперь уносится в историю) становится гулким и объемным, перекрывая всех и вся.
Столыпин. Рискуете, Семен Власович. На мне, прокаженном, уже поставлен крест – с молчаливого согласия государя. Но вам еще служить России.
Кривошеин. Петр Аркадьевич! Я, кажется, не давал… повода… так оскорблять меня!
Столыпин. Ну, полно, полно, голубчик. Простите великодушно, ради Бога, сам не ведаю, что несу.
Немецкая пара из толпы сановников.
Она (наводит лорнет на грудь Столыпина, спрашивает с немецким акцентом). Косподин Столыпин, какое знашение имеет крест на фаша грудь?
Он. Я-я. Крест ошш-шшень походит как над могила.
Кривошеин. Стыдитесь, сударь!
Столыпин (вязкая, тяжелая ярость вздымается в груди). Он не сударь. Судя по акценту, его статус-кво – HERR. А она, следовательно, херрова фрау. Итак, фрау, утоляя вашу любознательность, отвечаю: сей крест получен мною от управления «Красного креста» во время русско-японской войны за пожертвование медикаментов для тяжелораненых. Принимая во внимание опус вашего «херра» – «ош-шень походит как над могила», желаю вам удостоиться столь же могильных крестов во время, не приведи Господь, русско-германской войны.
Хохот, возмущенные крики, гул из сановной толпы.
Кривошеин. Надеюсь, вы все поняли? Или оказать любезность и перевести на немецкий?
Спиридович (говорит Кулябко в толпе). Где вас черт носит?! Что Богров?
Кулябко. Уже здесь.
Спиридович. Фу-у-у! А Николай Яковлевич?
Кулябко. Богров говорит – сидит у него на квартире с Ниной Александровной.
Спиридович. Какой еще, к дьяволу, Ниной Александровной?!
Кулябко. Она приехала вместе с ним. С бомбой. У обоих билеты в театр. Могут быть здесь с минуты на минуту.
Спиридович. Господа-бога три креста мать! Час от часу не легче! Они действительно существуют, эти двое? Или воспаленная фикция Богрова?! Ты проверил?
Кулябко. Но ты же сам запретил все проверки!
Спиридович. А у тебя своей головы нет?! Что, если они сейчас сюда… с бомбой?! Да к госу-да-рю?! Никого больше не пускать! Ни одной собаки! Если просочится кто – р-растерзаю! В порошок сотру! Сгною!
Столыпин (трубно, через весь зал). Господин Гирс!
Гирс (помимо воли подтянул чрево). Я вас слушаю.
Столыпин. Вчера, во время освящения памятника государю Александру II евреям учащимся было запрещено идти с крестным ходом. Из чьей головы вылупился сей многомудрый приказ?
Гирс. Приказ попечителя учебного округа Зилова.
Столыпин. И вы знали об этом?
Гирс. В общих чертах, ваше превосходительство.
Столыпин. Знать в общих чертах о распоряжении Зилова – все равно, что быть «немножко беременной». Как вы могли допустить такую низость, этот зоологический антисемитизм к отрокам и отроковицам?
Гирс. Я не намерен разговаривать и отчитываться в таком тоне!
Столыпин. Вы будете отчитываться! Но уже не премьер-министру, а следующей революции.
Кулябко. У Богрова… он…
Спиридович. Тих-х-ха! Возьми се-бя в ру-ки, слизняк! Ну?!
Кулябко. У него… револьвер. Топырится на боку. Хоть бы прикрыл, подлец!
Спиридович. Откуда?!
Кулябко. Да ч-ерт его знает! Тайник?
Спиридович. Именно! Ну… Г-господи, пронеси… где столыпинский охранник Есаулов?
Кулябко. Как ты велел, через двенадцать рядов посажен, в другом конце.
Спиридович. Все. Не спускай глаз!
Кулябко. С кого?
Спиридович. С Есаулова, дубина!
Кулябко. Что же это… Александр, меня трясет, того гляди, в обморок опрокинусь… может, накроем Богрова, пока не поздно?
Спиридович. Я тебе накрою! Я – к государю. Сейчас надобно быть рядом с ним. А ты бди!!! Зубы искроши, а бди! И не вздумай с твоим обмороком! На том свете найду в случае чего!
Кривошеин. Петр Аркадьевич! А не трахнуть ли нам по рюмашке коньяка? До звонка еще немало времени.
Столыпин. У вас бесценный талант, Семен Власович, – ловить фортуну за хвост в надлежащий момент. Трахнем, и не по одной. Чуть погодя. Есаулов!
Есаулов. Слушаю, Петр Аркадьевич!
Столыпин. Что это вас, братец, не видно? Будто в прятки со мной играете. Где прятались?
Есаулов. В пятнадцатом ряду, в пятьдесят седьмом кресле.
Столыпин. Что вас туда занесло?
Есаулов. Ваше высокопревосходительство, я настаивал на третьем ряду позади вас. Но мне категорически отказано Кулябко!
Столыпин. Даже так. Ну что ж, остальное неважно. Ступай-ка, братец, в буфет. Вослед за Кривошеиным. Я вскорости явлюсь туда.
Есаулов. Слушаюсь. (Отходит.)
Столыпин идет к царской ложе. Под ней прощался с Сухомлиновым и графом Потоцким уезжающий в Петербург министр финансов Коковцев. К Столыпину устремляется министр двора Фредерикс.
Фредерикс. Ваше высокопревосходительство, мне доложили об инциденте у правительственной ложи… тупой малоросский бедлам с пропуском возмутителен. Я настоятельно распорядился учинить следствие. И разобраться с Кулябко!
Столыпин медленно и молча обходит неодушевленный, стоящий на пути предмет. Приближается к Коковцеву.
Столыпин. Вы уезжаете, граф?
Коковцев. Сожалею, Петр Аркадьевич. Но вынужден – дела неотвязны и неотложны.
Столыпин. Боже, как я вам завидую.
Коковцев. Что так?
Столыпин. Впрочем, пустое. Одолевает в последнее время некая никчемность бытия.
Коковцев. Вам ли это говорить, Петр Аркадьевич, сделавшему для России…
Столыпин. Оставим, граф. Вы же все видите и понимаете. По всем признакам дело реформ перейдет к вам. Я подошел выразить мое полнейшее удовлетворение таким поворотом. Я признателен вам за честное мужество, коим вы руководствуетесь в нынешнем крысином шабаше при дворе.
Об одно прошу: ради Бога, не дайте им перегрызть хребет реформ!
От толпы отпочковывается Богров – чернявый молодой человек с редькообразным, вытянутым лицом, в засаленном, осыпанном перхотью сюртучке. Согнутая в локте правая рука его торчит нелепо и куце, прикрытая над кистью театральной программкой. Столыпин смотрит на Богрова.
Коковцев. Петр Аркадьевич, помилуйте, может, вместе отбудем? Сочту за честь предложить вам место в моем купе.
Столыпин. Храни вас Бог в пути. Вас и Россию.
Коковцев. Петр Аркадьевич, у меня, право, мороз по коже… да что это с вами, будто эпитафию себе…
Столыпин. Прощайте, граф.
Поворачивается к Богрову грудью.
ВОТ ОНО.
Театральная программка падает с руки Богрова. В руке браунинг. Гаснет свет. Два выстрела.
ГОЛОС ВЕДУЩЕГО. Россию подстрелили на взлете. И предсмертно перекрестивший ложу царя Столыпин поставил на династии крест. 9 сентября 1911 года окружной суд приговорил Богрова к смертной казни через повешение, состоявшееся 12 сентября в 4 часа утра.
Первый департамент Государственного совета приступил к рассмотрению преступных деяний Курлова, Спиридовича. Веригина и Кулябко, организовавших убийство Столыпина. Рассмотрение волею императора Романова было прекращено 4 января 1912 года. Царская резолюция гласила: «…Прекратить, без всяких для них последствий».
Музыкальный удар. Кадры кинохроники и фотографии выплескивают в зрительный зал кровавый и нескончаемый итог предательства: орущие рты толпы, горящие поля, гекатомбы трупов, вой собак, груды проржавевших, застывших паровозов, скелетные тени детей, калек, нищих.
И могилы, могилы, могилы – под обвисшим, чахлым российским флагом.
Все возвратилось на круги своя.
А значит, быть новому Столыпину
КОНЕЦ


























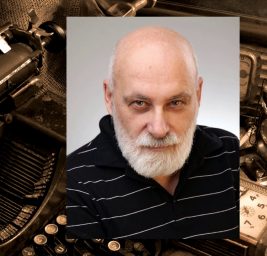





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ