Новое
- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения
- Иоланта Сержантова. «Нам не было скучно…». Рассказ
- Виктория Чижова: художник чарующих мгновений и солнечного блика
- Соль силы советских песен
- Тишина Освенцима — как приговор. А книга — как голос сквозь тишину
- Наш авангард
Лев Толстой — Но какова выдержка!
27.05.2019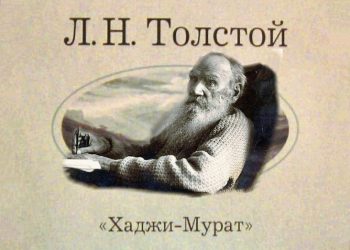
У меня плохая эмоциональная память. Соответственно этому я помню один эпизод без всякого сопереживания. Но всё-таки он мне врезался в память крепко-накрепко.
Так получилось, что моя семья стала обладать двумя квартирами. Умерла сестра тещи. Там была квартира больше нашей и вообще жить вместе – лучше. И мы зажили с тёщей. А вторая квартира вскоре пригодилась для сдачи студентам, ибо началась катастройка, и прожить на зарплату стало проблематично. Ну и при смене съёмщиков были хлопоты привести квартиру в порядок. А мне это претило. Я это воспринимал как досадную суету. Если б было возможно, я б только и делал, что писал литературо- и искусствоведческие статьи и книги и делал всё вспомогательное, что непосредственно для этого необходимо. Но как ни тяжёл и беспокоен стал быт, я умудрялся каждый день урывать время на своё хобби.
И вот раз в таком раздвоенном состоянии духа, тёмным осенним вечером, я отправился на вторую квартиру что-то там обустраивать. Сошёл с троллейбуса и стал переходить на другую сторону дороги. Довольно опасной. Потому что освещение там было не ахти, дорога широкая, по ней проносились на большой скорости машины. Нужно было быть внимательным и осторожным. А пользоваться пешеходным переходом и светофором я как-то так и не научился, хоть уже не жил в захолустье.
И на моих глазах вблизи под колесо легковушки попала перебегавшая дорогу собака.
Она последний раз подняла уцелевшую голову и со счастливым выражением в глазах уронила голову на асфальт. Как бы подумав: «Наконец, отсуетилась!»
—
Толстовство тоже плохо относится к суете. А загробную жизнь праведника, наверно, считает совершенно замечательной. Настолько, что сто`ит до смерти почти как бы не жить, чтоб заслужить оценку праведности. А ТАМ…
Приведу цитату из финала «Хаджи Мурата» (1896-1904) Льва Толстого (Хаджи Мурат смертельно ранен, и перед ним пролетает вихрь случайных воспоминаний):
«И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него».
И это почти единственное место в повести, где толстовство прорезалось непосредственно. Лев Николаевич как бы сумел загнать его в подсознание, год за годом сочиняя и правя текст.
Ещё одно – такое:
«…смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла…».
В правку текста входило и уничтожение других мест, где непосредственный прорыв толстовства осуществлялся. – Например:
«Хаджи Мурат с умилением вспоминал это время и те чувства, которые были в нём. Да, он хотел быть истинным мюридом. Мюрид, сказано было, должен отказаться от своих желаний, кроме Бога; забыть ту часть, которая принадлежит ему: сделать как будто он не существует. Должен отказаться от всего, что соблазняет человека на свете, так чтоб целый свет равнялся для него крылу комара; должен раскаяться во всех грехах, помириться со всеми. И всё это тогда испытывал Хаджи Мурат. Он ходил просить прощения у старика, Джимала, над которым все смеялись в ауле; подарил своему врагу кинжал в серебре и черкеску и оставил себе только ружьё, шашку и пистолет, подаренные дедом».
И что сделал Толстой с чистовиком текста? – Он там дал море разливанное красоты Этого света. Своему толстовству назло. Точнее, не всего Этого света, а того, что ближе к природе и дальше от цивилизации.
«Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап… Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика».
Аж звукоподражание пустил граф.
«Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана».
Замечаете любимое когда-то Толстым плохописание (трудночтение) с несколькими причастными оборотами. Чтоб дать, как когда-то, как можно больше для воображения читателем своего воспринимающего обоняния, слуха, зрения, опять слуха. Чтоб выразить, как когда-то, — сверхчуткостью, — ощущение крестьянства, впервые выходящего на свободу после отмены крепостного права.
Представляется, что гимном природе, он решил испытать своё сокровенное – толстовство. Мазохизм такой. И так преуспел, что даже подсознание подключил.
Например, градация (уточняющее повторение). Двойное описание в самом начале, во вступлении, репейника. Сперва – в оппозиции к более нежным сорнякам (кашке, маргаритке, сурепке, колокольчику, горошку, скабиозе, подорожнику, васильку – всё с изящными цветами) во ржи. Потом – в оппозиции ко вспаханному полю, в котором не осталось ни одного цветка. В обоих случаях репейник искалечен и погублен человеком. И даётся ложный ход восхищения силой жизни и сопротивлением смерти этих репейников. И в сам финал, — после процитированного прорыва пробуддистского пассажа, — возвращается этот ложный ход:
«Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».
Это последнее предложение повести.
Якобы восторг перед красотой и силой жизни, близкой к природе.
Для большего самоистязания Толстой отошёл от действительной истории Хаджи Мурата.
«Есть версия, что на самом деле не было никакой ссоры [Хаджи Мурата с Шамилем] и уж тем более предательства, это [переход на сторону русских] был план Хаджи-Мурата, принятый Шамилем, с целью разведки и получения информации в тылу врага» (Википедия).
По этой версии Толстому идею мол-предательства подсказала история мол-предательства декабриста Ростовцева, выдавшего декабристов Николаю, чтоб того напугать и чтоб тот отказался от престола. Мол-предательство должно было остаться никому не известным. О чём существуют книги в библиотеке правнучки Толстого. Понимай, в ту библиотеку та книга попала от самого прадедушки.
Зачем искажать историю?
Ну что-де простая военная слава. То ли дело – страдания души Хаджи Мурата по своей семье в плену, мол, у Шамиля. Это уж совсем-де благородно. Моральный восторг-драма обычной жизни.
«…он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится…».
Тогда как восторг этот вдохновлён противоположным – отказом от силы и полноты жизни.
Такое вдохновение противоположным спотыкалось, когда сюжет докатывался до фактов вожделённого толстовцем бесчувствия, и тогда текст соответственно становится предельно сухим и лаконичным (подчёркнуто):
«Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.
Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу».
Но какой чудный текст, когда обличение похлеще, чем этого писаря! Например, когда дурак-генерал фактически позорит графа Михаила Воронцова, победителя Наполеона под Краоном, рассказывая за столом, как Хаджи Мурат разгромил этого Воронцова, оборван княгиней Мананой Орбельяни и… «Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял».
Блеск! Как живое!
И блеск этот рождён скрытой энергией отрицания эмоций толстовцем!!!
Нет. Сознание, пущенное на волю ненависти (ненависти к свету, к царю) изливало не менее красочный яд:
«Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек».
Ну как обличителю не пообличать при случае? Человек слаб-с. Даже если это Толстой, художник, т.е. выражающий свой подсознательный идеал (нехудожественный период у Толстого я опускаю).
Или тайное пробуддистское отрицание страстности придало страсти и сознательному обличению? И он применил точку зрения персонажа. Более воспитывающую читателя. Вон – Николай I из себя себя оценивает. И мы, став на эту точку зрения, переживаем особое отторжение к подлецу.
Во всяком случае, Меерсон считает, что Толстой в «Хаджи Мурате» сделал литературный шаг вперёд:
«Можно охарактеризовать героя тем, как он выглядит, а можно — тем, как он видит. Именно это с блеском умеет сделать Толстой. В романах он часто снижает эффект такой субъектной характеристики лобовыми рассуждениями, но в «Хаджи-Мурате» он научается [воздерживаться от снижения эффекта]» (Персонализм как поэтика. С-Пб., 2009. С. 351).
Что подвигло Толстого на такой литературный шаг вперёд?
Живо-писание было откликом на подъём крестьянского самосознания от окончания крепостничества, персонализм – отклик на поражение толстовства: от нежелания смириться с поражением и переход на подсознательное его проведение в жизнь. То, что вдохновило на писание «Хаджи Мурата», в тексте почти не появляется выраженным «в лоб».
—
Я пишу и перечитываю повесть. И вот дочитал до горского воспевания красоты смертельного боя:
«В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им. «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны»».
Это противоречило сознательной установке воспевать нравы, далёкие от цивилизации. Надо было что-то противопоставить. Что? – Толстой противопоставил – природу без человека: пение соловьёв. Уж и не соображу, сознание или подсознание нашло такой выход. – Так же и в самом финале. Последнее предложение повествования о, собственно, Хаджи Мурате такое :
«Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце».
Остаётся объяснить себе, зачем рассказ о последнем героическом бое Хаджи Мурата предварён будничной сценой ответа Каменева на вопрос, с каким делом он приехал. В качестве ответа он вынул из мешка голову Хаджи Мурата. Её везли и всюду показывали.
Хронологический показ, думаю, приобщал бы читателя к героизму. Горскому героизму. А это не было задачей толстовца, затаившегося в душе автора. Ибо это – суета сует.
—
Толстовство как движущую силу повести, наверно, стыдно признавать преуспевающим в жизни и им подражающим литературоведам.
«Всё в этих словах [в духовном завещании «Благо любви» от 21 августа 1908] вроде бы истинно и прекрасно, и – что можно возразить против такой страстной проповеди блага и любви! Однако при ближайшем рассмотрении это завещание оказывается не чем иным, как страстной проповедью отвращения к жизни. По крайней мере, к той жизни, которая гениально показывалась Толстым в «Севастопольских рассказах», раннем и позднем «кавказском» циклах, «Войне и мире», «Анне Карениной». И вот сам же Толстой пишет, что «жизнь эта есть извращение жизни»! Какая жизнь? Русских солдат и генералов, Пети и Николая Ростовых, старого и молодого Болконских, Пьера и Наташи, Стивы и Долли, Анны и Вронского, Кити и Левина, Хозяина и Работника, Алеши Горшка и Холстомера – всё это не жизнь, а ее извращение?» (Басинский. «Два завещания Льва Толстого» в кн. «Скрипач не нужен». М., 2014. С. 39).
Будто не было перелома в духовной жизни Толстого, пришедшего к зародышу толстовства уже при оканчивании «Анны Карениной» (на художественном качестве которой оно ещё не сказалось).
И Басинский продолжает:
«Но зададим вопрос иначе: с тем ли завещанием имеем дело? За три года до написания «Обращения», которое, кстати, во многом повторяет многочисленные, широко распечатанные при жизни проповеднические статьи и письма Толстого, он закончил работать над «Хаджи-Муратом», который не без основания называют его художественным завещанием. Интересно, что эта повесть создавалась им в почти канонической «завещательной» атмосфере. Он сделал десять редакций и не мог успокоиться, пока не поставил окончательной точки. Он писал ее почти втайне, посвящая в это самых близких людей. Он строго наказал напечатать ее после своей смерти, что и было выполнено В.Г.Чертковым в 1912 году – с цензурными изъятиями в России и в полном варианте в Берлине. Он, стало быть, вполне отвечал за этот текст, если не уничтожил его, как Гоголь, несомненно, зная, что это его главное предсмертное произведение» (Там же. С. 40).
То есть Басинскому явно неведомо следствие из теории, изложенной в «Психологии искусства», что, если художественное произведение о чём-то, то оно не о том. Вот он и подумал, что раз повесть «Хаджи Мурат» славит героизм, то это про героизм. И до него не дошло, что хотел-то нам сказать Толстой этой повестью: примите толстовство! То же самое, что в «Благе любви».
Дальше у Басинского так:
«Интересно, однако, что стилистически «Репей» [вариант «Хаджи Мурата»] поразительно напоминает пушкинскую прозу: легкая, чеканная строка – максимум информации при минимуме затраченных художественных средств: «В одной из Кавказских крепостей жил в 1852 году воинский начальник Иван Матвеевич Канатчиков, с женой Марьей Дмитриевной…»
Это как: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова…» – и вместе с тем как: «Жил старик со своею старухой у самого синего моря…»» (С. 41).
Это мне, наверно, напомнило слова раннего Толстого о прозе Пушкина: «Повести Пушкина голы как-то» (http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/ejhenbaum-pushkin-i-tolstoj.htm). Моё подсознание, наверно, «подумало»: «А не переменился ли поздний Толстой, раз стал писать тоже голо?» – А так как я знал, что переменился – стал толстовцем, упрощенцем… То «подумалось»: не стилистическое ли это выражение толстовства и в «Хаджи Мурате» вопреки Басинскому?
И этот вопрос придал мне энергию поиска. Который и показал, что Басинский не прав, так мотивируя «Хаджи Мурата» как завещание Толстого:
««Хаджи Мурат»… шедевр, в который погружаешься, как в озеро, с некоторым запоздалым изумлением начиная понимать, что вот живешь и дышишь среди этих слов, как если бы отросли жабры, и с явной досадой уже возвращаешься в привычный мир, где всё то же, но так тускло и неинтересно, что тянет назад в озеро» (С. 42).































НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ