Николай Полотнянко. «Маневка». Рассказ
01.08.2019
/
Редакция

За окном старого прохудившегося барака свистел и выл осенний ветер. Облысевший клен качался, скрипел и скреб веткой по стеклу. Низкое, кочковатое, как болото, небо было высвечено октябрьским рассветом, но внизу, среди бараков и буйных зарослей мертвой полыни, еще царила полутьма, лишь кое-где в окнах приземистых и длинных строений загорались огни, и в печных трубах начинал завиваться белесый горьковатый дым. Бродячие псы лениво поднимали головы и мутными глазами смотрели на первых прохожих, в сараюшках заполошно вскрикивали петухи, и повизгивали свиньи.
Сквозь зыбкую полудрему Маневка слышала эти звуки, но глаза не открывала и не шевелилась. Хотя на уличной стене ее комнаты поблескивал иней, ей было тепло. На Маневке и возле нее лежали двенадцать разномастных котов и кошек. С ними она и спала, прогоняя только в жаркие, летние ночи, и когда к ней с ночевой приходил Гришка.
Из -за кошек у Маневки с соседями постоянная война. Кошки гадили в коридоре, орали, когда на них находил любовный стих, и Маневка устроила, в конце концов, для них лаз через окно. Летом кошки беспрепятственно ходили через выбитую четвертушку окна, в холодное время Маневка затыкала дыру старой стёганкой, и блудливые коты, запозднившись, стучали лапами по стеклу и просились на ночлег.
Восемь лет жила Маневка в поселке, и откуда она появилась, каким сквозняком жизни занесло ее сюда, никто не знает, да и не интересуется. Все восемь лет Маневку окружают кошки. Они находили ее сами, эти беспризорные и бездомные существа, выброшенные хозяевами на улицу, черные как уголь, рыжие как пламя, пестрые как звездная ночь. Имен своим сожителям Маневка не давала, и каждого из них называет «Эй, ты!» И удивительно, что на это обращение отзывалась именно та кошка, на которую в это мгновенье указывала хозяйка.
Под теплым кошачьим одеялом Маневке тепло даже в зимние ночи. В комнате так холодно, что дыхание обжигает глотку, а кошки навалятся на нее и греют. Правда, запах в комнате острый, уксусный, на полу разбросаны клочки шерсти, потолок задымлен до черноты, дверь болтается на одной петле. Печку Маневка топила раз в неделю, варила ведерную кастрюлю борща или супа на говяжьих костях и вместе с кошками хлебала, когда чувствовала голод.
Будильника у Маневки нет. Но по шуму и стукотне в бараке она знала, что время сейчас, где-то, полвосьмого, нужно вставать, но вставать не хотелось.
— Маневка! Вставай! — заорала под дверьми соседка. — Тебя коты не задушили там?— Встаю, Фрося, встаю, — лениво сказала Маневка и повернулась на бок.
Кошки недовольно зауркали.
— Вам что, — сказала Маневка. — Можно дрыхнуть, а мне на работу, ну-ка, давайте, расползайтесь!
Открыв глаза, она вспомнила, что вчера приходил Гришка, выцыганил последнюю пятерку, а до получки целая неделя. В кошельке осталось два рубля мелочью, да пустые бутылки в углу под рукомойником. Все ничего, и денег не жалко, но не пришел Гришка, хотя и обещал, загулял с кем-то. До полуночи не спала Маневка, все ждала, слушала как за тонкой стенкой из сухой штукатурки у соседей работал телевизор, концерт передавали. Коты всю избодали, зовя спать, а она все ждала. Но Гришка не пришел.
— Ну, пошли, окаянники! — сказала Маневка.
Первым поднялся рыжий кот, сдвинул все четыре лапы в одну точку, выгнулся, зевнул и, вытянув передние лапы, оперся на стену, где в черной деревянной рамке висели фотокарточки родных и «Благодарственное письмо», которое выдали Маневке в прошлогодний День строителя.
Встав с кровати, она подошла к рукомойнику, плеснула в лицо пригоршню холодной воды, утерлась, натянула на себя обляпанный глиной комбинезон и забила тяжелые опухшие ноги в кирзовые сапоги. Уже одетая, присела к плите и стала хлебать прямо из кастрюли позавчерашний суп. Рыжий кот запрыгнул на печку, подошел к кастрюле и опасливо посмотрел на хозяйку.
— Что, жрать захотели? — сказала Маневка и, зачерпнув большой литровой кружкой , вылила хлёбово в небольшой тазик, который был кошачьей кормушкой. Толкая друг друга, кошки расположились вокруг и принялись наперегонки осушать посудину.
— Мань! Идем, что ли! — позвала Фроська.
— Иду, счас…
Маневка придавила крышку кастрюли утюгом, чтобы кошки не сожрали остатки супа, выдернула из окна затычку и вышла в коридор. Запирать двери она не стала, просто накинула щеколду и вставила в петлю деревянную палочку.
На улице глянул на соседку и присвистнула.
— Что, опять хохотальник набок?.. Я чтой-то ничего не слышала.
— Это? — Фроська пощупала под глазом синяк. — Совсем сдурел. Вроде пока еще не заслужила, а он премирует…
Фроська была моложе мужа на пятнадцать лет и любила веселые компании. Муж ее ревновал и поколачивал иногда за дело, а иногда и впрок, считая, что битьем бабу не испортишь.
— Тебе хорошо, ты — свободная женщина, — сказала Фроська. — Это я в кабале у черта старого.
— Какая свободная, — вздохнула Маневка. — У тебя — свое, у меня — свое. Все толчемся с утра до ночи, конца и края не видно.
Возле дороги, ведущей к заводу из города, бараки расступились, и на открытом всем ветрам поле показались строящиеся пятиэтажные дома.
— Слушай, Маневка! Если тебе квартиру вырешат, ты куда кошек денешь? Вчера вон и предцехкома говорил, мол, не дадим Маневке Селезневой квартиру, если кошек в дом потащит. Пусть сперва свой зоопарк ликвидирует. — Ну его подальше! — сказала, задетая за живое Маневка. — Ему-то квартиру вперед всех дали. Лучше бы за собой смотрел, а то найду на него управу! Вчера вокруг печки глину на горбу таскала, тачка сломалась, а сварщика нет. А он, грит, не засчитаю, один ходок обвалился. А я как замажу? Вода холодная, глина черт знает где.
— Да ну его, Маневка, — беззаботно сказала Фроська. — Ты еще не знаешь, что вчера наши бабы — Сметаниха, Корпачиха и Любка Косая над Сашкой Воробьем учудили…
— А чо?
— Скинулись бабы, купили водки, принесли бражки, выпили — скучно. Вышли из барака, сели на завалинку, глядят — Сашка идет. Они тары-растабары, попросили принести гармошку. Пошла пьянка-гулянка. Очумели совсем, сама знаешь — у Корпачихи бражка с табаком, в голову бьет. Тут кто-то из баб и говорит Сашке, мол, че те пятьдесят лет, а ты без бабы, ни разу не женат. Слово за слово, решили бабы посмотреть, че у него в штанах, а то болтают на поселке, что у него там пустое место. Свалили Воробья, связали, стащили штаны, выкрасили все хозяйство суриком и вытолкнули мужичонку на улицу. А у него, представляешь, все наголе, народ в хохот. Участковый забрал его, куда-то увез… Фроська захохотала.
— Бесстыдницы, — сказала Маневка. — Как же можно позорить человека.
— Человека, анчутка его забери! — насмешливо и зло сказала Фроська. — Скажешь, и Гришка твой — человек? Присосался, как клоп, к бабе, а ты и уши развесила. Попадет к Корпачихе на чумную бражку, они ему еще почище устроят.
Разговаривая, женщины не заметили, как зашли на территорию кирпичного завода. Маневка хотела сказать Фроське, чтобы та не совала нос не в свое депо, но только махнула рукой и пошла к своей обжигательной печи, возле которой стоял, нацеливаясь, как журавль, на поддоны с кирпичами одноногий кран, и бульдозер отгребал с погрузочной площадки щебенку и сваренные в ошметки груды кирпича.
Маневка схлестнулась с Гришкой случайно, на дне рождения у Фроськи, еще два года назад. Она запоздала к началу гулянки, и когда вошла, прижимая к груди сверток с подарком, все места вокруг стола были заняты. Фроська по-соседски не обратила внимания на Маневку, только кивнула головой, один Гришка поднялся и уступил ей свою табуретку, a caм устроился рядом, на краешке дивана. Гришка был без жены, в красной рубахе и с гармошкой.
Что говорить, умел он зажечь народ, пальцы так и летали по планкам, глаза сияли масляным блеском. Гришка завораживающе поглядывал на Маневку и прижимал горячее бедро к ее ноге.
Беспамятно разгулялась Маневка, пела, плясала, только стукоток стоял и на плечах подпрыгивали бусы. Забыла скукоту своей одинокой жизни, обычно неподвижные, как замерзшие тараканы, коричневые маленькие глазки метали на гармониста зазывные искры, и Гришка подхватился с дивана, пошел с гармошкой в руках вокруг нее, да вприсядку. Славный был вечер, счастливый краешек жизни вспыхнул в тот день перед Маневкой и поманил за собой туда, куда она давно зареклась ходить.
Поселок — что худое сито: на следующий день все сороки-пересудчицы растрезвонили, что Гришка у Маневки ночевал. Вечером Гришкина сударка — Клавка заявилась с ребятней своей сопливой — разбираться.
Маневка только пришла с работы, замочила в корыте комбинезон, в тазу женские постирушки. Вдруг — дверь настежь, Клавка с порога орет:
— Он меня, гад, вчера специально споил, чтоб одному на гулянку удрать, к тебе под бок подвалиться!
Кошки от крика брызнули в разные стороны, но Маневка не испугалась, вытерла руки и подала Клавке табуретку, а пацанам сунула конфет.
— Не плачь, Клава, — сказала она. — Чему быть — тому не миновать. Любит меня Гриша, и я его. Уж тут ничего не попишешь.
— Это как любит? — задохнулась от злости Клавка. — Да совесть у тебя есть? Я же его, обормота, на ноги после лагеря подняла, костюм купила, штиблеты, он этому, — она ткнула пальцем в черноголового малыша, — отец родной! Кто мне все вернет?..
Маневка помялась, подошла к комоду.
— Сколько мы тебе с Гришей должны? — спросила она.
— Да он вчера последний червонец упер, — воскликнула Клавка, зорко глядя на Маневку. — Детям жрать нечего, он на базе что ни получит — все пропьет, нитки стырит, продаст — и опять ни копейки не вижу.
— Вот тебе двадцать пять рублей, — сказала Маневка, подавая Клавке деньги. — И никаких других делов.
— Может накинешь десяточку, — сказала Клавка, — выхватывая деньги из руки Маневки. — Вон эта орда, ведь ни копеечки алиментов на всех троих не получаю.
— Что за шум, а драки нет? — раздался веселый Гришкин голос. — Мне Сметаниха говорит, что ты Маневку бить пошла. Правда, что ли?
Гришка был на крепком взводе, на ногах стоял прочно.
— А это что? — он заметил в руке у Клавки деньги и ловко, одним движением, выхватил их. — Гляди-ко — четвертак!
— Маневка дала, — сказала Клавка.
— Не тебе дала, а мне. — Гришка протянул Клавке десятку. — Дуй в магазин и без пузыря не возвращайся.
Остальные деньги Гришка сунул в свой карман.
— Ты зачем ей деньги даешь? — строго спросил он, когда Клавка выскочила за дверь.
— Так чтобы от тебя отвязалась.
— Я что, малой? Сам не знаю, куда идти? А ну, брысь, мошкара, — он вытолкал ребятню за дверь и накинул крючок.
— Неудобно как-то, — задыхаясь, зашептала Маневка, — божий день ведь…
— Ерунда! — Гришка теснил Маневку к кровати. Свободной рукой он шибанул рыжего кота, который лежал на подушке. — Брысь!
— Ты чё дересся! — Маневка вывернулась и подхватила кота на руки. — Не смей кошек забижать!
— Фу ты, черт! — Гришка сел на кровать и захохотал. — Ну, прямо цирк у тебя, Маневка!
— Пускай! Тебе-то что. Посмотри, Гриша, какой он умный.
— Да ну его, — Гришка щелкнул рыжего кота по уху. — Задушат они тебя как-нибудь.
Маневка положила кота на подушку и подсела к Гришке.
— Скоро ко мне перейдешь, а?
— А чё переходить-то? Я уже перешел. Все на мне. Пальто еще месяц назад пропил. Возьму гармошку — и тута! Так что, переехал, Манева. Весь твой…
Клавка мигом обернулась. Принесла бутылку, веселая стала, песню запела про одинокую рябину. Маневка накормила пацанов.
Бутылка опустела. Гришка достал из кармана червонец, запустил Клавку по второму кругу в магазин. Пили, гуляли. Утром Манева проснулась, глядит — рядом Гришка, Клавка на полу с ребятишками, коты — кто где: в головах на кровати, на полу, на печке.
И понеслась жизнь — неделя пролетела, деньги у Маневки кончились, и Гришка с Клавкой сплыли к себе домой. В аванс опять заявились, в получку — опять.
Маневка не пила почти с ними, они все лакали. Клавка никаких видов на Гришку; напьется — и на пол кверху воронкой, а Гришка на кровать, разгребет кошек — и к Маневке. Веселая жизнь, но и шоколад приедается. От пьянки у Клавки живот заболел, уползла домой вместе с ребятней. А Гришка рядом.
— Может, уедем отсюда, Гриша, — говорила Маневка. — У меня в деревне дом, хороший еще, пятистенок. Пойдем в совхоз работать.
— Да я насквозь городской, Маневочка! — смеялся Гришка. — А в совхозе и быка от коровы не отличу. Опять же, работа пыльная.
— Жили бы своим домом, — гнула свое Маневка.
— Вот еще! — вскидывался Гришка и хватался за гармошку. «Подгорной» да ласками отворачивал в сторону неприятный для себя разговор.
А Маневке все неймется, особенно, когда она одна, без денег, в холодной комнате, со своим кошачьим хозяйством. «Не любит он меня, ох, не любит» — думала она. Не выдержала, пошла к бабке одной советоваться. Та взяла трояк, достала иголку, пошептала на нее, поплевала в угол и сказала: «Сунь незаметно к нему в одежду — и твой будет».
Но старушечья присушка не помогла. Гришка жил то у Клавки, то у Маневки, у кого были деньги, там и обретался.
«Гад, вот гад, и в каком только болоте вырос», — обиженно думала Маневка, но ничего не делала для того, чтобы расстаться со своим ветреным хахалем. Поселковские смеются, а ей хоть бы что. За Клавкиными пацанами ходила, обновки им покупала. Так и летело время, катилось день за днем, мелькая то светлым, то темным боком.
… Ходки сегодня ей достались трудные, на повороте печи. Тачка валялась, как и вчера, с отломанной ручкой, и Маневка ведрами натаскала в корыто глины воды, сделала замес и начала закладывать проходы, в которые загружались в печь сырые кирпичи и выгружались обожженные.
Ходок был покосившийся, с обваленным сводом. Пока забила все дыры, замазала глиной, чуть руки не отпали.
Пошла к сменному мастеру. Он сидел в красном уголке, щелкая облупленными костяшками счетов, что-то записывал.
— Чего тебе? — буркнул мастер, не поднимая головы. Он был с утра зол, как бобик. Садчики и выставщики кирпича — условники и принудбольные ЛТП — заваливали план, а это било по всем и, в первую очередь, по его карману прямой наводкой. Мастер подсчитывал расход мыла, рукавиц, чуней, газводы — сальдо было тоже неутешительным, опять же не в его пользу.
— Ну, чего маешься? Говори, — повторил мастер и откинулся на скрипучем стуле.
— Так тачка, Сергей Герасимович, сломанная, — потупясь, сказала Маневка. — Ручка отлетела еще вчерась…
— Я сказал сварщику. Сегодня будет, — проворчал мастер и снова защелкал костяшками. Маневка молчала. Шла она сюда — зло кипело, думала выскажет все напрямую, а открыла дверь, будто пар из нее выпустили, присмирела, поникла. Тем более мастер работал, считал. Начальству Маневка никогда не перечила, уважала его, особенно тех, кто в форме — милиционеров, военных.
— Говорят, квартиры будут скоро вырешивать, — сказала Маневка.
— Будут. Как решат, так и скажут, — сказал мастер. — Там на тебя в профкоме заявление от соседей. Будто заразу в доме развела, котов облезлых собираешь.
— Так это не мои, — решила схитрить Маневка. — У меня один Рыжик. А с кем он путается, я не ответчица. Он их сам, этих кошек, в комнату заманивает. Я ему говорила, а он не слушает.
Мастер недоуменно покачал головой.
— Ты не куролесь. Разве с котами разговоры ведут?
— Он все понимает, только блудливый. Два года всего. Вот постареет, успокоится…
— Ну, не знаю, — махнул рукой мастер. — Не мешай! Профкомовские пусть разбираются.
Выйдя от мастера, Маневка зашла в раздевалку, достала из сумки в шкафчике старый ржавый сухарь, размочила в воде и съела. На выходе у сатуратора выпила кружку газводы, огляделась по сторонам.
Тихо в цехе. Только изредка взвизгивали электролафеты, подвозящие вагонетки с полками кирпича из сушильных камер, да с грохотом выкатывались из раскаленного нутра печи вагонетки с обожженным кирпичом.
Подошла к не заделанному ходку, послушала, как переругиваются с выгрузчиками зэковские оторвы-садчицы, подхватила крючком корыто с остатками замеса и начала заставлять ходок кирпичами.
Перед обедом пришел слесарь. Протянул провод, прихватил сваркой ручку к тачке и ушел в свою слесарку. С тачкой стало полегче. Маневка мигом навозила глины, кирпичей к оставшимся ходкам, хотела их заделать без обеда, но садчицы, решившие поесть, увлекли Маневку за собой в раздевалку.
— Идем, тетя Маша! Зойке посылка пришла, на всех хватит.
Садчицы — молодые девки по двадцать — работали на печи уже полгода, спецкомендатура была в поселке, там они и жили в бывшем общежитии, вокруг которого построили забор с колючей проволокой наверху по всему периметру. Девки, несмотря на годы, были народом битым, повидавшим виды, нюхнувшим тюремного воздуха. Их освободили из лагеря с условием отработки оставшегося срока на заводе.
Маневку они звали тетей Машей, она была старше девчат на двадцать лет и смотрела на них, не понимая, что это за люди, и откуда взялись. Тюрьма, через которую они прошли, казалась Маневке чем-то загадочным и страшным, вроде самой смерти, и она никак не могла представить, что в ней можно жить.
Сидели они по разным статьям. Зойка — карманница, Розка-растратчица, Любка — за кражу носильных вещей.
По пути к ним нацелились примазаться выгрузчики, но девки их отшили и зашли в женскую раздевалку. Постелили на скамейку доски, поверх — газету. Зойка достала поллитровку.
— Двадцать один год отмечаю, — сказала она, наливая в единственный стакан водку. — Девятнадцать в «Метрополе» отмечала — цветы, иностранцы, балдеж. А через две недели черт дернул — сняла у одного фраера бумажник со скулы, да очиститься не успела. Упал он на пол прямо в кабаке, ногами дрыгает, кричит: «Там партбилет!» А я документов никогда не беру, зачем они?
Стакан прошелся по кругу, Маневка пить отказалась, сидела тихонечко, ела Зойкины московские гостинцы и слушала.
За дощатой перегородкой, в мужской раздевалке, переговаривались выгрузчики. Все ждали получку, и разговоры были о ней.
Внезапно в дверь кто-то затарабанил.
— Маневка! — раздался голос Клавки, переходящий в плач. — Маневка! Несчастье-то какое! Ох, несчастье!
Девчата быстро спрятали бутылку в шкафчик для одежды и сбросили с двери крючок.
В раздевалку ввалилась зареванная Клавка. От нее на Маневку пахнуло запахом перегара и пота.
— Ах, Маневочка! — запричитала Клавка, опустившись на скамейку. — Нету нашего Гришеньки! Помер, вчерась нашли уже ночью в овраге.
И что его туда унесло! Видать, чуял свою смертоньку!
— Как помер? В каком овраге? — заикаясь, вскрикнула Маневка, до которой только-только начинал доходить смысл случившегося несчастья.
— Пошел еще к Корпачихе, уже вечером, за бражкой и не вернулся. Я думала, он у тебя, а во втором часу ночи прибегают, говорят, в овраге он. Общежитские с девками гуляли в посадках и наткнулись. В морге уже Гришенька!.. Что делать, как хоронить? Денег-то рупь семьдесят!
Клавкины вскрики доходили до Маневки будто сквозь глухую ватную стену. Левую половину груди сжало, в глазах потемнело, она покачнулась, но ее подхватили девчата.
— Вот что, девки! — сказала Зойка, усаживая Маневку. — Надо людям помочь. У Маневки, наверно, тоже ни копья.
Девчата покопались в своих сумках и собрали тридцать рублей.
— На! — Зойка сунула деньги в Маневкину ладонь. — Этой стерве не давай. Расходуй только на Гришку!
Садчицы ушли, а Маневка недоуменно смотрела на трешницы в своем кулаке.
— Гроб надо, оградку, место на кладбище, — заговорила Клавка. Она уже отплакалась и смотрела на деньги.
— Сама все сделаю, — сказала Маневка и засунула тридцатку в карман комбинезона.
Хоронили Гришку в морозный осенний день, когда всю землю выбелил иней. Народу было немного: два мужика с базы, где Гришка работал, свои барацкие — Фроська, ее муж, Сметаниха, Корпачиха. Маневка, зажмурив глаза, поцеловала покойника в ледяной лоб и отошла в сторону, к Фроськиным ребятишкам. Черноглазый, в Гришкину породу, мальчик подошел к ней и уткнулся в юбку. Маневка взяла его на руки. Мальчонка доверчиво прижался к ней всем тельцем и обхватил шею руками. От этого прикосновения сердце у нее защемило, и она заплакала.
— Маневка, ты чего ревешь? — спросил мальчик.
— Холодно, вот и плачу, — ответила она, слизывая слезы с губ.
— А я не мерзну. Ты мне теплое пальто купила. А к тебе пойдем конфеты исть?
— Пойдем, милый, пойдем, — торопливо сказала Маневка. — Чай будем пить с конфетами, и с котом разрешу поиграть…
Гришку помянули, и после второго стакана, когда баб потянуло на песни, Маневка с мальчиком пошли к ней домой. Они шли по темной улице между бараками, мальчик смотрел на небо и считал крупные и яркие, звезды. Он не понимал, что произошло в этот день, и не знал, что его ждет, но ему нравилась теплая и шершавая рука женщины, которая шла с ним рядом.


























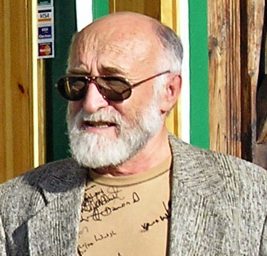





1 комментарий
татьяна
20.08.2019плачу,так давно не читала что то человеческое ,тепло….