Сергей Евсеев. «Самое главное слово». Повесть
07.09.2020
/
–Ý–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è

В начале было слово. И слово это было «мама». И в слове этом был заключен весь смысл и весь свет окружающего мира. Да, вот именно – весь свет. И весь мир был заключен в этом простом и емком слове, с которого начинается первая страница букваря, первое осознание себя, да и вообще все-все начинается… Все то, что и называют осознанной жизнью.
Мама – это свет, который озаряет начало нашей жизни. И который, если только человек остается человеком, святой лампадкой теплится в его сердце на протяжении всего земного пути. Хочет он этого или нет. Да, мамин негасимый свет в конце концов источается, скукоживается до малой лампадки. А в начале – в начале, когда деревья были большими, когда мир был просто необъятным, таинственным, загадочным и страшным, свет этот мамин был подобен свету солнца, потому что он озарял весь твой маленький мир – мир твоего раннего детства. Солнце вставало по утрам вместе с мамой, заполняя все вокруг своим ласковым и нежным светом, который ты ощущал даже во сне, чувствовал его через крепко сомкнутые веки. И от света этого шло великое тепло, которое согревало все твое существо до самых-самых глубин, заставляя на мгновение замереть твое маленькое сердечко, когда ты ощущал на своем виске или щеке теплое мамино дыхание, ее родной, ни с чем не сравнимый запах… Это длилось самую малость, всего какой-то миг, что казался тебе вечностью, в которой ты постепенно и растворялся, сморенный сладким утренним сном.
И свет этот неземной возвращался к тебе вместе с мамой уже поздним вечером, когда она приходила с работы, едва слышно отворяя дверь – он заполнял собою всю квартиру. И весь мир. Так казалось. И ты бежал со всех ног в коридор навстречу маме и с разбегу утыкался ей в колени, обхватив их своими ручонками… И в этом долгое время заключался весь смысл всей твоей маленькой жизни, которая в ту пору была подобна несмелому, едва пробивающемуся сквозь траву, сучья и прошлогоднюю пожухлую листву ручейку. Чистому, прозрачному, звонкому, устремленному в далекие, неведомые дали. В большой и загадочный мир. И мир этот постепенно, шаг за шагом, открывала для тебя твоя мама, все расширяя и расширяя его границы и горизонты. Но долгое-долгое время твой детский мир был ограничен домом и двором. И маленький этот мир твоего раннего детства был прекрасен. И необъятен, как сама вселенная. А центром этого мира, этой вселенной, пересечением всех путей-дорожек, началом и концом их был твой дом. Хоть и не тот, самый первый, в который тебя принесли из роддома, но зато тот, в котором ты осознал себя человеком и начал шаг за шагом осваивать и познавать окружающее пространство. И откуда начался твой собственный путь, который и называется жизнью. Путь по расширяющимся с каждым днем орбитам – сначала в песочницу, затем за ручку с мамой в ближайший магазин, что уж точно находился в другой галактике, а еще через какое-то время – в школу, которая располагалась где-то на самом краю той вселенной, центром которой был твой дом. Школа открывала пути к новым, неизведанным и манящим мирам… Путь к которым неизменно пролегал от родного порога. Недаром же говорят, что родительский дом – начало начал.
…Дом этот был огромен, он возвышался над миром, как неохватный взглядом многопалубный красавец корабль, чьи трубы и антенны упирались, кажется, прямо в небо. Вечерами корабль этот расцвечивался многочисленными оранжевыми и желтыми огоньками окон-кают, что призывно манили нас, ребятню, в сизом сумраке летних и зимних вечеров своим уютным, теплым светом. И этот дом-корабль был несказанно прекрасен и по-своему загадочен, потому что в любом его окошке, за темными разноцветными шторами таилась неведомая жизнь, в каждом – своя, незнакомая и до щеми в маленьком твоем сердечке притягательная. За каждым окошком, в этом манящем пятне таинственного света, была своя история, и своя тайна. Со двора загадочными казались тебе и твои собственные окна, хотя никакой тайны за ними вроде и не было. В самом светлом, кухонном, окне хлопотала у плиты бабушка, готовя нехитрый ужин для всей нашей небольшой семьи из трех человек, главой которой была, конечно, мама. Бабушка же была в твоей жизни величиной постоянной и естественной, как день и ночь, как земля и небо. Бабушка была всегда рядом, отчего казалось, что она – неотъемлемая часть тебя самого, вечная спутница твоей маленькой жизни. Она излучала тихий ровный свет, вселяла чувство умиротворенности, покоя. Она была вот именно – хранительницей домашнего очага и важной неотъемлемой частью дома. Без нее, ее ежедневных нехитрых забот и трудов, казалось, весь этот незыблемый домашний уют просто рухнет, рассыплется, как карточный домик.
Что такое – этот самый карточный домик, я к годам трем уже прекрасно знал, потому что бабушка моя имела привычку раскинуть на досуге игральные пестрые карты. Из них она каким-то чудесным образом узнавала, что ждет каждого из нас в ближайшем будущем. Легкая дорожка, казенный дом, крестовый король, ценные бумаги, – все это с бабушкиной легкой руки в разные дни нашей жизни ждало нашу маму, когда она собиралась, например, в командировку или просто утром на работу… Благодаря бабушке в моей жизни появились и как бы ожили самые лучшие на свете книги: большие, толстые, в добротных, хотя и изрядно потрепанных переплетах, с яркими притягательными картинками. Книги для меня составляли целый мир, другой мир, удивительный и манящий, который, казалось, никогда-никогда нельзя будет охватить и постичь полностью ни своим маленьким сердцем, ни, тем более, умом. А бабушка как раз и помогала охватить весь этот увлекательный мир, скрывавшийся за толстыми обложками многочисленных книг из старого шкафа, терпеливо день за днем, страница за страницей открывая для меня все новые и новые горизонты, страны и миры. И не только книжные. Помню, когда я уже достиг весьма солидного – «предшкольного» возраста, она, бывало, оторвав свой взор от читанной-перечитанной книги и задумчиво уставившись куда-то в окно, через какое-то время заводила свой неторопливый рассказ о том, как жили люди в «старое время». Немудреные эти рассказы из собственной ее жизни завораживали меня так, что я слушал бабушку с открытым ртом, боясь даже пошевелиться…
–ë–∞–±—É—à–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –Ω—è–Ω–µ–π ‚Äì –ê—Ä–∏–Ω–æ–π –Ý–æ–¥–∏–æ–Ω–æ–≤–Ω–æ–π. –ò –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –º–æ–∏–º –∞–Ω–≥–µ–ª–æ–º-—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–º. –ü—Ä–∏—á–µ–º –Ω–µ —ç—Ñ–µ–º–µ—Ä–Ω—ã–º, –∞ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–º, –≤–æ –ø–ª–æ—Ç–∏. –ú–∞–º–∞ –∂–µ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º, —Å–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≥–¥–µ-—Ç–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ-–≤—ã—Å–æ–∫–æ –≤ –Ω–µ–±–µ –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–¥–æ—Å—è–≥–∞–µ–º–æ. –ú–∞–º–∞ –±—ã–ª–∞ –∫–∞–∫ —Å–≤–µ—Ç –≤ –æ–∫–æ—à–∫–µ. –¢–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –±–∞–±—É—à–∫–∞. –ò —á–µ–º —Ä–µ–∂–µ –≤ —Ä–æ–¥–Ω–æ–º –æ–∫–æ—à–∫–µ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞-–∫–æ—Ä–∞–±–ª—è –ø—Ä–æ–º–µ–ª—å–∫–∏–≤–∞–ª —ç—Ç–æ—Ç –ª–∞—Å–∫–æ–≤—ã–π —Å–≤–µ—Ç ‚Äì —Ç–µ–º –≤—Å–µ —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π –∏ —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π —Ç–æ—Å–∫–æ–≤–∞–ª–æ –ø–æ –Ω–µ–º—É –º–æ–µ –±–µ–¥–Ω–æ–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ —Å–µ—Ä–¥–µ—á–∫–æ. –ò —Ç–µ–º –∫—Ä–µ–ø—á–µ —è –ª—é–±–∏–ª –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ç–∞ ‚Äì —Å–≤–æ—é –Ω–µ–Ω–∞–≥–ª—è–¥–Ω—É—é –º–∞–º—É.
Все мои сокровенные детские тайны, все переживания, радости, грусти и печали хранили прочные кирпичные стены нашего дома. Да, дом наш был самобытным и пестрым миром со своей аурой, своими сказками, надеждами и мечтами. Он сохранял свою неповторимую атмосферу: добра, света и счастья во все времена года: весной ли, осенью, зимой или летом. Дом был надежной пристанью и защитой от внешнего, часто – довольно грубого и даже агрессивного мира. Таковым представлялся весь наш огромный дом-корабль в целом и, главное, наша небольшая квартира во втором этаже, которая была лишь его малой частью, но зато нашим – с мамой и бабушкой – отдельным домом. И ты знал, что если тебе во дворе угрожала какая-нибудь опасность – в виде задиристого «пришельца» из соседних дворов или же в виде злобной и всегда всем недовольной соседки по подъезду тети Моти – нужно было лишь со всех ног добежать по лестнице до двери своей квартиры во втором этаже, постучать в нее и быстро юркнуть в образовавшуюся щель, как только бабушка начинала ее отворять, – и все опасности, страхи и угрозы оставались за твоей спиной, за плотно прикрытой входной дверью твоего дома. Дом – это все, что нужно человеку, а тем более маленькому человеку, чтобы чувствовать себя на этой земле уверенно, комфортно и счастливо. Ведь дома и впрямь все было для счастья: игрушки, книги, альбомы для рисования, цветные карандаши. Да мало ли чего там еще всякого было, уж лучше перечислить, чего не было… Ты лихо объезжал эти свои «владения», все три небольших комнаты, на трехколесном своем первом велосипеде с кузовком, периодически заглядывая к бабушке на кухню, откуда постоянно доносились разнообразные вкусные запахи…
… И только мама, дорогая моя, любимая, самая красивая на свете мама, так редко появлялась в этом Доме. Ну точно, как свет в окошке. Мама среди недели приходила со своей работы довольно поздно. И к тому же часто оставалась на круглосуточные дежурства, даже по выходным. Мама у нас была «большим» человеком: она преподавала в профессионально-техническом училище – обучала взрослых «дядек» и «теток» мудреной специальности радиста. Она учила своих подопечных азбуке Морзе и работе на радиоключе. Потому что только таким способом и можно было передавать важные сведения, например о погоде, с самых дальних точек и уголков нашей огромной, необъятной страны. После окончания училища мамины ученики разъезжались и разлетались по всем этим дальним «точкам» и часто, по праздникам, присылали маме толстые письма с красивыми поздравительными открытками внутри и с красочными марками на конвертах. По этим маркам можно было изучать географию страны. Но тогда я этого еще не понимал, меня эти марки привлекали своей яркостью и необыкновенными изображениями на них: незнакомых далеких городов, таинственных сопок, кораблей и даже, представьте, белых медведей и китов (чудо-юдо рыба-кит!). Как же я гордился своей мамой в те далекие-предалекие времена, когда все только-только начиналось и, казалось, что мама всегда будет молодой и ослепительно красивой, а жизнь будет длиться вечно.
Маленький человечек, надежно защищенный от «страшного» внешнего мира, каким я был в ту далекую мифическую пору, постоянно жил ощущением сказки, чуда. Порывы ветра за окном, шум деревьев, солнечные блики на полу, дождь, снег, звезды в сизом ночном небе – все это вызывало ощущение какой-то тревожной тайны, чего-то большого и необъятного, что часто-часто приводило меня в неописуемый восторг. Тайна и сказка таились буквально во всем: в бабушкиных мудреных словечках, в книгах, в картинках из тех же самых книг, в маминых шкатулках с разноцветными брошками и бусами, в замысловатых росписях, голубым по белому, кухонных тарелок, в затейливом узоре старого ковра на стене, в листьях-цветочках на тюлевых пыльных шторах, в бликах солнца, играющих в драгоценных хрустальных вазах в серванте. Но самое настоящее чудо, сказку наяву, дарила мне моя любимая мама в те редкие дни, когда одевала меня во все новое и брала с собой на работу, на детские праздничные утренники, всевозможные концерты, представления, или даже, – вот уж праздник так праздник! – в настоящий театр. С замиранием сердца шагал я в такие счастливые дни рядом с мамой, едва поспевая за ее стремительным шагом, крепко держа ее при этом за руку, как будто боясь упустить из рук свое счастье. И через мамину теплую ладошку мне передавались пульсирующие горячие струи, наполняя теплом и трепетом все мое существо. Мы быстро проходили по нашему большому, надежно защищенному со всех сторон великанами-домами двору, оставляя в конце концов за спинами наш громадный многоярусный дом-корабль, и оказывались в следующем дворе, потом еще в одном, пока не выходили наконец через ажурные чугунные ворота на большую улицу, посередине которой в обе стороны с шумом и ревом проносились огромные машины, грохотали и металлически лязгали на поворотах красно-желтые трамваи с добродушными «физиономиями», то и дело подмигивали, переключаясь с зеленого света на красный и обратно, светофоры, закрепленные на высоченных столбах. А со стороны многочисленных магазинов громко, на разные голоса, перекрикивая друг друга, зазывали купить свежего молока, квасу либо мороженого голосистые продавщицы в кипенно-белых колпаках и передниках… Словом, прямо за углом нашего дома моему изумленному взору открывались «иные миры», в которых было столько всего нового и интересного. Например, старый каменный фонтан с тяжелой темной водой в квадратном бассейне, его окружавшем, в котором плавали пожухлые листья вперемешку с разноцветными бумажками и прочим мусором. Или огромный памятник в виде высоченной стелы, устремленной к небу, расположенный на противоположной стороне улицы в небольшом скверике, окруженном старыми домами. В основании этого памятника была кособокая, выложенная из бетонных плит звезда, из которой росли синие и оранжевые цветы, названия которых я в то время еще не знал. Или – громадная решетчатая ракета из стальных прутьев, возвышающаяся над детской площадкой соседнего двора, с острым конусом верхушки, до которой, казалось, невозможно добраться по этим металлическим перекладинам, до того эта ракета казалась высокой – и впрямь устремленной своим острием в бесконечную синь неба с безмятежно плывущими по нему ватными барашками облаков. Выше ее верхушки были только деревья и дома, столпившиеся вокруг детской площадки и, казалось, внимательно рассматривающие нас с мамой своими строгими и подслеповатыми старческими глазами-окнами, в которых отражалось солнце…
Мама была проводником в новый, неизведанный еще тобой мир – такой огромный, удивительный и прекрасный… Чудесным, разноцветным, многоголосым и завораживающе загадочным делала этот мир сама мама, как бы наполняя его своей светлой сущностью: своей «особостью», женственностью и красотой. Так я чувствовал в ту призрачную пору своей жизни, которая называется детством. Так я вижу все то далекое, родное и невозвратное своим внутренним зрением и теперь: мама для меня была и остается источником света, радости и счастья.
… Помню погожий июньский денек – самое начало лета. Только что прошел благословенный летний дождь – налетел внезапно вместе с ветром и невесть откуда взявшимися тучами среди, казалось, абсолютно ясного солнечного дня, громыхнул громом, разогнав со двора ребятню по своим подъездам да квартирам, и принялся неистово скакать вдоль и поперек по дворам, детским площадкам, кустам и дорожкам, и лил, как из ведра, добрые полчаса. Как будто небеса прорвало этим вот невесть откуда взявшимся среди июньского знойного полудня порывистым и неожиданно холодным ветром – и вылился из них на наши головы целый сезонный запас воды… Я со священным ужасом и замиранием сердца смотрел, прилипнув носом к окну, на эти бесконечные потоки воды, низвергавшиеся с небес, периодически приседая от неожиданно оглушительных раскатов грома, словно бы и впрямь с треском, как изношенную старую материю, рвущих небеса на части, подобно тому как перед мытьем полов рвали на тряпки какую-нибудь ветхую простыню мама с бабушкой, и следил, как отдельные дождевые капли стремительно и извивисто, подобно слезам, скатываются сверху вниз по оконному стеклу с наружной его стороны. С каждым мгновением в комнатах становилось все темней и темней, и от суеверного первобытного ужаса замирало в груди мое маленькое сердечко… Но дома при этом было тепло и уютно, и где-то за спиной бабушка хлопотала возле плиты, нет-нет погромыхивая кастрюлями и чайником, и от этих звуков, привычных, домашних, быстро развеивался, улетучивался весь этот невесть откуда налетевший жестяной морок, враз сковавший все мои члены. А за окном, – батюшки-светы! – просто ад какой-то кромешный: темь и жуть, и плотная стена непрекращающегося дождя, сплошные белые полосы, словно кто-то невидимый и всесильный протянул через двор занавес из разнотонной материи, в одних местах – светло-серой, а в других – мутно-лиловой. Временами эти потоки водяных струй напоминали мне бешеную скачку небесных вороных коней – без дороги, наугад – испуганных чем-то или кем-то: кем-то невидимым, но огромным, сильным и беспощадным в своем яром гневе. Гулким цоканьем копыт этих неистовых пегих коней полнился наш двор. И особенно звонко они, эти копыта, стучали по жестяному козырьку подвала внизу, прямо под нашим балконом… И бег этих безудержных коней казался нескончаемым – бесконечным…. И не было уже никакой надежды на просвет в этой кромешной темени, неожиданно заполнившей собою все вокруг, а значит – на возвращение лета, солнца, тепла… Но через какое-то время с правой стороны начинало постепенно светлеть небо, и дождь неожиданно шел на убыль – его стена, еще минуту назад казавшаяся непробиваемой, потихоньку откатывалась куда-то в сторону, влево, за ближние дома. А вскоре уж и солнце все уверенней проглядывало сквозь мокрую листву деревьев и редкий уже – остаточный дождик становился похожим на слепой.
А когда я, надев в темном нашем коридорчике свои истоптанные сандалии на босу ногу, стремительно вылетел из квартиры и широкими шагами, перепрыгивая через две ступени, преодолел три лестничных пролета и выскочил на двор – ливень уже совсем почти перестал, источился. Только отдельные, запоздавшие капли все еще падали на козырьки подвалов и подоконники откуда-то с крыш и деревьев. И от этого мерного перестука казалось, что дождь все еще продолжается. Но каким удивительным – отчаянно ярким, новым и неожиданно прекрасным предстал теперь перед моим восторженным детским взором окружающий мир: все вокруг буквально сияло, лучась разноцветными бликами. А в бесчисленных лужах на асфальте, в которых купались голуби, отражалось ярко-синее, насквозь промытое дождем бездонное небо. Все вокруг полнилось необъяснимой радостью, счастьем и торжеством жизни. И где-то там, за дальним углом нашего дома, в столбе солнечного света сверкнула всеми своими семью плавно переходящими друг в друга цветами волшебная радуга-дуга. И я побежал в ту сторону, чтобы прикоснуться к этому чуду, а может, если повезет, оказаться внутри него, что ли… Но на то оно и чудо – чтобы неодолимо манить тебя к себе, а потом внезапно исчезнуть прямо перед твоим носом, подобно миражу, утреннему легкомысленному туману…
В общем, пока я шлепал своими сандалиями по лужам, радуга исчезла, испарилась в солнечных лучах, постепенно вошедшими в прежнюю свою силу. И я внезапно остановился прямо посреди двора, не добежав даже до крайнего подъезда, поняв, что радугу мне ни за что не поймать, не ухватить за разноцветный ее хвост. Потому что радуга – это нечто волшебное и чудесное, и это «нечто» невозможно потрогать руками, им можно только любоваться. И то недолго. Потому что чудо не может длиться вечно. Так же как и этот восхитительный летний день, который, едва только перевалив за полдень, неудержимо начинает катиться к закату. Такие вот грустно-философские мысли стремительно промелькнули в моей голове в те заповедные мгновения, пока я наблюдал за радугой и за тем, как она исчезла, растворившись в прозрачном, напоенном свежестью воздухе прямо на моих глазах. Пока я, наивный дурачок, бежал к ней навстречу. Вместо радуги в воздухе остались только разноцветные бриллиантовые звездочки, поблескивающие на влажных ветках тополей в солнечных лучах. И я застыл на месте, как вкопанный, чтоб хотя бы подольше удержать в поле зрения эти самые звездочки, то тут, то там подмигивающие мне лукаво в потоках солнечного света, напролом идущего сквозь влажные ветви деревьев. И тут перед моим изумленным взором предстало новое чудо: прямо посреди этого солнечного столба подобно сказочному видению появилась мама! Любимая, ненаглядная моя мамочка… И да – мама в своем летнем светлом платье и впрямь была подобна солнечному свету: в тот осиянный миг свет исходил именно от нее, так мне казалось. И этот чудесный свет наполнил собой до краев весь наш огромный двор. И я, завороженный этим неожиданным «видением», этим неземным светом и парализованный внезапным щемящим чувством в груди, какое-то время просто не мог сдвинуться с места, наблюдая издалека, как грациозно, словно бы паря в воздухе, приближается ко мне моя мама… Это воспоминание, больше похожее на сон, на светлый весенний фантастический сон – о солнечном летнем дожде, о чудесной радуге-дуге, какой ее рисуют в детских книжках, и о маме, словно бы плывущей в жемчужном, наполненном звоном разноцветных капель, падающих с деревьев, и насквозь пронизанном солнечными стрелами прозрачном колышущемся воздухе – сохранилось в моей душе на всю жизнь. Может, это и был сон – волшебный детский сон? В самом деле – такие яркие, разноцветные и счастливые сны, пожалуй, только в детстве и снятся. В нашем незабвенном и невозвратном детстве… Многое бы отдал, чтоб хоть краешком глаза сейчас заглянуть в те разноцветные свои детские сны. Только мама моя из этого сна была очень даже реальной – живой, настоящей, с неповторимым, «родным» запахом и с теплой ласковой рукой, прикосновение которой до сих пор явственно ощущаю на своей коротко стриженной голове…
– Сер-гу-у-ня, давай, сынок, просыпайся! Сегодня идем со мной в училище, посмотришь на моих ученичков, солидных уж дядек и теток… – слышу я сквозь сон ласковый и молодой мамин голос. Сердце вспархивает воробышком в груди: «Ура! Мама берет меня с собой на работу!» …
–ï—â–µ –Ω–µ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–≤—à–∏—Å—å, —è —Å–∞–∂—É—Å—å –Ω–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ –∏ —É–ø–∏—Ä–∞—é—Å—å –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º –≤ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –Ω–∞—à —à–∫–∞—Ñ —Å –∫–Ω–∏–≥–∞–º–∏, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤—à–∞—è –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –≥–æ–¥—ã –º–æ—è –º–∞–º–∞ –≤—ã—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç –ø—ã–ª—å, –æ–¥–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è–≤ —Å—Ç–∞—Ä—É—é –Ω–∞—à—É –∫–µ—Ä–∞–º–∏—á–µ—Å–∫—É—é –≤–∞–∑—É, –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–∂—É—é –Ω–∞ –∫—É–≤—à–∏–Ω, —Å–≤–µ—Ç–ª–æ-–∂–µ–ª—Ç—É—é, —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –∞–ª—è–ø–æ–≤–∞—Ç—ã–º–∏ —Ü–≤–µ—Ç–∞–º–∏ –Ω–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã—Ö –±–æ–∫–∞—Ö, —Å–ª—É–∂–∞—â—É—é —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å–µ —á–∞—â–µ –¥–ª—è –ø–æ–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏—Ö ¬Ý—Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ –≤ –≥–æ—Ä—à–æ—á–∫–∞—Ö, –∞ –Ω–µ –¥–ª—è —Ä–æ–∑, –≥–≤–æ–∑–¥–∏–∫ –∏ –≥–ª–∞–¥–∏–æ–ª—É—Å–æ–≤, —á—Ç–æ —á–∞—Å—Ç–æ –≥–æ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –Ω–µ–π —Ä–∞–Ω—å—à–µ ‚Äì –≤–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –º–æ–µ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –≤ –Ω–∞—à–µ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ –ø–æ—Ä–æ–π –±—ã–≤–∞–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –∂–∏–≤—ã—Ö —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, –∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ —Å–ª—É—á–∞—é –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤ –º–∞–º–∏–Ω–æ–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–∏–º –∂–µ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã–º –¥–Ω–µ–º, –∫–∞–∫ –∏ —É –Ω–∞—Å –≤ —à–∫–æ–ª–µ.
Мама наконец оторвалась от шкафа с вазой и взглянула на меня, внимательно и ласково: «Ну что, сынок, проснулся? А твои-то давно уж поднялись и успели позавтракать даже. А я сегодня, представь, иду на встречу с бывшими своими учениками в свое старое училище. Не забыл еще, как любил бывать в нем со мной, когда был маленьким? И твои Владик с Людой тоже вызвались поехать с нами, они, между прочим, уже собираются». Глаза мамины при этих словах наполнились лаской и любовью, совсем как когда-то, в далеком моем и невозвратном детстве, которое, похоже, снилось мне этой ночью. И от них во все стороны, подобно лучикам, расходились многочисленные морщинки. Милая, милая моя мама, когда же ты успела так постареть?
‚Ķ–ò –≤–æ—Ç –º—ã —Å—Ç–æ–∏–º –ø–µ—Ä–µ–¥ –º–∞–º–∏–Ω—ã–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ–º, –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ –≤—ã—Å–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–º –µ–≥–æ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ–º –≤ –¥–µ—Å—è—Ç–æ–∫ —à–∏—Ä–æ–∫–∏—Ö —Å—Ç—É–ø–µ–Ω–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å —Ç–∞–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ–≤–∞–ª. –û—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –≥–¥–µ-—Ç–æ –≤ –¥–∞–ª–µ–∫–∏—Ö –≥–ª—É–±–∏–Ω–∞—Ö –º–æ–µ–≥–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–º—É—Ç–Ω–æ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Ä–æ–±–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ—É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏: –≤–æ—Ç —ç—Ç–∏ –¥–µ—Å—è—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –∫—Ä—É—Ç—ã—Ö —Å—Ç—É–ø–µ–Ω–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞–¥–æ –≤–æ —á—Ç–æ –±—ã —Ç–æ –Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å, –¥–ª—è —á–µ–≥–æ —Ç—Ä–µ–±—É–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –≤—ã—à–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å –Ω–æ–≥–∏, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –∑–∞–ø–Ω—É—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–µ —Ä–∞—Å—à–∏–±–∏—Ç—å –Ω–æ—Å, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ, –≤–µ—Ä–Ω–æ, –∏ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã‚Ķ –ë—ã–ª–æ –∏–ª–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ? –ö—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç! –Ý–∞–∑–≤–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—à—å —Ç–µ–ø–µ—Ä—å ‚Äì —á—Ç–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ, –∞ —á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, ‚Äì —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ-—Ç–æ –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è–º–∏ –ª–µ—Ç. –ò –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ —Å–º—É—Ç–Ω–æ–µ, —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ–µ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å —ç—Ç–æ–π –≤–æ—Ç —Å–∞–º–æ–π –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ–π –∏ —Å —ç—Ç–∏–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–º –≤—Ö–æ–¥–æ–º ‚Äì –≤ —Å–≤—è—Ç–∞—è —Å–≤—è—Ç—ã—Ö, –Ω–∞ –º–∞–º–∏–Ω—É —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –ú–∞–º–∞ –≤ –º–æ–µ–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏, —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–º, –Ω–∞–∏–≤–Ω–æ-–¥–µ—Ç—Å–∫–æ–º, –±—ã–ª–∞ –≤–∞–∂–Ω—ã–º –∏ –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –Ω—É–∂–Ω—ã–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º: –≤–µ–¥—å –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–µ-–ø–æ-–¥–∞-–≤–∞-—Ç–µ-–ª—å-–Ω–∏-—Ü–µ–π, —á—Ç–æ –∫—É–¥–∞ –≤—ã—à–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, —á–µ–º, —Å–∫–∞–∂–µ–º, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã–π —É—á–∏—Ç–µ–ª—å. –û–Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–∏–º —É—á–µ–Ω–∏–∫–∞–º ‚Äì –Ω–µ —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞–º, –∞ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ —É–∂–µ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã–º, –Ω–∞ –º–æ–π —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥, –ª—é–¥—è–º ‚Äì –ø—Ä–µ–º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç–∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–µ–π—à–µ–π –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–∏: —Ä–∞–¥–∏—Å—Ç–∞, –≤ –º–æ–µ–º –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ ‚Äì –ø–æ—á—Ç–∏ —á—Ç–æ –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é —Å—Ç–æ–ª—å –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞, –∫–∞–∫ —Ä–∞–¥–∏–æ–∫–ª—é—á, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–µ–≥–æ —Å–æ–±–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—É—é –ø–∞–ª–æ—á–∫—É —Å —Ä—É—á–∫–æ–π, –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–Ω—É—é –Ω–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–¥—Å—Ç–∞–≤–∫–µ, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª –≤ –Ω–µ–≤–µ–¥–æ–º—ã–µ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã —Ä–∞–¥–∏–æ—ç—Ñ–∏—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ –º–æ–µ–º –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –±—ã–ª –ø–æ–¥–æ–±–µ–Ω –±–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º—É –Ω–æ—á–Ω–æ–º—É –Ω–µ–±—É —Å –º–∏—Ä–∏–∞–¥–∞–º–∏ —Ä–∞—Å—Å—ã–ø–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ –Ω–µ–º—É –º–µ—Ä—Ü–∞—é—â–∏—Ö –∑–≤–µ–∑–¥, –æ—Ç—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç—ã–µ –∑–≤—É–∫–∏ –º–æ—Ä–∑—è–Ω–∫–∏: —Ç–∏-—Ç–∏-—Ç–∞-—Ç–∏-—Ç–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–ª–æ—Å—å —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑–Ω–æ–π –ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏. –î–∞, —ç—Ç–∏ –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω—ã–µ —à–∏—Ñ—Ä–æ–≤–∫–∏, –∫–∞–∫ –≤ —Ñ–∏–ª—å–º–∞—Ö –ø—Ä–æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥—á–∏–∫–æ–≤, —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—Å–µ–≥–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –¥–æ –ª—é–¥–µ–π –Ω–∞ ¬´–±–æ–ª—å—à–æ–π –∑–µ–º–ª–µ¬ª. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ —á–ª–µ–Ω–∞–º —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏, –∑–∞—Å–µ–≤—à–µ–π –≥–¥–µ-—Ç–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ —Å–ø–ª–æ—à–Ω—ã—Ö –ª—å–¥–∞ –∏ —Å–Ω–µ–≥–∞ –Ω–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏, –∏–ª–∏ –∫–∞–∫–∏–µ –≤–µ—Ç—Ä–∞ –∏ —Ö–æ–ª–æ–¥–∞ –Ω–∞–¥–≤–∏–≥–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –Ω–∞—à –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∫ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –õ–µ–¥–æ–≤–∏—Ç–æ–≥–æ –æ–∫–µ–∞–Ω–∞ –∏ —á–µ–º —ç—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –≥—Ä–æ–∑–∏—Ç—å –∫–∞–∫ –ª—é–¥—è–º, –∂–∏–≤—É—â–∏–º –Ω–∞ ¬´–±–æ–ª—å—à–æ–π –∑–µ–º–ª–µ¬ª, —Ç–∞–∫ –∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞–º –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö —Å—É–¥–æ–≤ –∏ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–≤, –¥–µ—Ä–∂–∞—â–∏—Ö –∫—É—Ä—Å –∫ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–º –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º. –î–∞, –º–∞–º–∏–Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–º –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –Ω–µ–∏—Å—á–µ—Ä–ø–∞–µ–º—ã—Ö –º–æ–∏—Ö –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏–π, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–µ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–∏, –Ω–µ—Ä–∞–∑–±–æ—Ä—á–∏–≤—ã–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∏ –∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–º—É—Ç–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –º–µ—á—Ç—ã ‚Äì –æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è—Ö, –æ –¥–∞–ª—å–Ω–∏—Ö –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω—ã—Ö –∫—Ä–∞—è—Ö –∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö, –æ –∂–∏–∑–Ω–∏ –æ—Ç–≤–∞–∂–Ω—ã—Ö –∏ –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π –Ω–∞ —É–¥–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ç –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ ¬´—Ç–æ—á–∫–∞—Ö¬ª, –∑–∞–ø—Ä—è—Ç–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–Ω—á–∞–µ–º—ã—Ö —Å–Ω–µ–≥–æ–≤ –∏ –≤–µ—á–Ω–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç—ã –ö—Ä–∞–π–Ω–µ–≥–æ –°–µ–≤–µ—Ä–∞ –∏–ª–∏, –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, —Å—Ä–µ–¥–∏ –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö –ø–µ—Å–∫–æ–≤ –∞–∑–∏–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –ø—É—Å—Ç—ã–Ω—å. –ò –≤ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ —ç—Ç–∏—Ö –≤–æ—Ç —Å–∞–º—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, –ø–æ —Å—É—Ç–∏, –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏—Ö –≥–µ—Ä–æ–µ–≤, —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –∏ –º–æ—è –ª—é–±–∏–º–∞—è –º–∞–º–∞. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, —è –≥–æ—Ä–¥–∏–ª—Å—è –µ—é, –¥–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ –∂ –∏ –º–æ–≥–ª–æ –±—ã—Ç—å –∏–Ω–∞—á–µ. –ò —Å –∑–∞–º–∏—Ä–∞–Ω–∏–µ–º —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ —à–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ—é, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –≤ –Ω–æ–≥—É, –∫ –Ω–µ–π –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –≤ –º–∞–º–∏–Ω–æ —É-—á–∏-–ª–∏-—â–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª–æ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –∏ –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω–æ–≥–æ, –∏ –≤–µ—Å–µ–ª–æ–≥–æ, –∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–≥–æ‚Ķ
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—é –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π –º–∏—Ä. –ü–æ—Ç–æ–º—É-—Ç–æ –∏ —Å—Ç—É—á–∞–ª–æ —Ç–∞–∫ —É—á–∞—â–µ–Ω–Ω–æ –º–æ–µ –±–µ–¥–Ω–æ–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑, –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º –∫–∞–∫ —Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –º–Ω–µ –Ω–∞ –ø–æ—Ä–æ–≥ —ç—Ç–æ–≥–æ ¬´–¥–≤–æ—Ä—Ü–∞¬ª ¬Ý—Å —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º–∏ –æ–∫–Ω–∞–º–∏, –≤ —Å—Ç–µ–∫–ª–∞—Ö –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ç–∞–∫ –ø–æ-–¥–µ—Ç—Å–∫–∏ –±–µ—Å—à–∞–±–∞—à–Ω–æ –∏–≥—Ä–∞–ª–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ. –°—á–∞—Å—Ç—å–µ–º –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º –≤–æ—Ç –µ–≥–æ ¬´–ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–º¬ª –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ–º, –ø–µ—Ä–µ–¥ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –µ–≥–æ –∏ —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º–∏ –¥–≤–µ—Ä—è–º–∏ –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∑–∞–¥–æ—Ä–Ω–æ –≥–æ–ª–æ—Å–∏—Å—Ç–æ–π —Ä–∞–∑–Ω–æ–ª–∏–∫–æ–π —Ç–æ–ª–ø—ã –º–∞–º–∏–Ω—ã—Ö —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ –±–æ–ª—å—à–µ–π —á–∞—Å—Ç—å—é ‚Äì –¥–µ–≤—á–∞—ǂĶ –ù–æ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –≤–æ—Ç —ç—Ç–∏ –≤–æ—Ç –¥–µ—Å—è—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω—ã—Ö —Å—Ç—É–ø–µ–Ω–µ–∫ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —É–∂ –Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è —Å—Ç–æ–ª—å –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º, –∫–∞–∫ —Ç–æ–≥–¥–∞. –î–∞, —Ç–∞–∫ –±—ã–ª–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ ‚Äì –≤ –Ω–µ–∑–∞–ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã–µ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω—ã–Ω–µ, –ø–æ –ø—Ä–æ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç, —Å–∞–º–∏ –ø–æ —Å–µ–±–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∫–∞–∑–∫—É, —á—É–¥–µ—Å–Ω—É—é –Ω–µ–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω—É—é —Å–∫–∞–∑–∫—É –ø–æ–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–欪.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –∂–µ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ —ç—Ç–æ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–µ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±—ã —Å–∫—É–∫–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å, –∞ ¬´–¥–≤–æ—Ä–µ—ܬª, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–Ω–æ –≤–µ–¥–µ—Ç, –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ–ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–Ω–æ–µ ¬´—Ç–∏–ø–æ–≤–æ–µ¬ª –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∑–∞—É—Ä—è–¥–Ω–æ–π ¬´—à–∞—Ä–∞–≥–∏¬ª, –∫–∞–∫–∏—Ö –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –ø–æ–Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, —Å–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–º–∏, –µ—â–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä–∞–º–∞–º–∏ –æ–∫–æ–Ω –∏ —Å –æ—Ç–≤–∞–ª–∏–≤—à–µ–π—Å—è –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —à—Ç—É–∫–∞—Ç—É—Ä–∫–æ–π –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö. –ê –º–∞–º–∏–Ω—ã –±—ã–≤—à–∏–µ —É—á–µ–Ω–∏—Ü—ã‚Ķ –í—Å—è —ç—Ç–∞ –ø–µ—Å—Ç—Ä–∞—è, –±—É—Ä–ª—è—â–∞—è, –≤–µ—á–Ω–æ –¥–≤–∏–∂—É—â–∞—è—Å—è –∏ –∫–æ–ª—ã—à—É—â–∞—è—Å—è –∂–∏–≤–∞—è –º–∞—Å—Å–∞, —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–∞—è —Å–ø–ª–æ—à—å –∏–∑ —é–±–æ–∫, –≥–æ–ª—ã—Ö –∫–æ–ª–µ–Ω–æ–∫, —É–ª—ã–±–æ–∫, –æ–∑–æ—Ä–Ω—ã—Ö —Å–º–µ—à–ª–∏–≤—ã—Ö –≥–ª–∞–∑, —Ä—ã–∂–∏—Ö –∫—É–¥—Ä—è—à–µ–∫, —Ü–µ–ø–∫–∏—Ö —Ä—É–∫ –∏ —Ç—É–≥–∏—Ö —á–µ—Ä–Ω—ã—Ö –∏ —Ä—É—Å—ã—Ö –∫–æ—Å, –±–µ–≥–ª—ã—Ö –ø–æ—Ü–µ–ª—É–µ–≤ –≤ —Ç–≤–æ—é —á—É–≤—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –º–∞–∫—É—à–∫—É, –∞ —Ç–æ –∏ –≤ —â–µ–∫–∏, –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö —Ç–∏—Å–∫–∞–Ω–∏–π –∏ —É—Å—é—Å—é–∫–∞–Ω–∏–π, –∑–∞–¥–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤—á–∞—Ç–æ–≥–æ —Å–º–µ—Ö–∞‚Ķ –ê –µ—â–µ ‚Äì –∏–∑ –¥—É—Ä–º–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–≤: –æ—Ç—É—Ç—é–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞–∫—Ä–∞—Ö–º–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ–Ω–Ω–æ–π –æ–¥–µ–∂–¥—ã, –¥—É—Ö–æ–≤, –∫–æ–∂–∏, –ª–∞–∫–∞, –ø–æ—Ç–∞ –∏ –ø–ª–æ—Ç–∏‚Ķ –í –æ–±—â–µ–º, –≤—Å–µ–≥–æ —Ç–æ–≥–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, —Ç–µ–ø–ª–æ–≥–æ, –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–æ–≥–æ… –ò–∑ —Ü–µ–ø–∫–∏—Ö —ç—Ç–∏—Ö –¥–µ–≤–∏—á—å–∏—Ö —Ä—É–∫, –æ–±—ä—è—Ç–∏–π, –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–≤ –∏ —É–ª—ã–±–æ–∫ —Ç–∞–∫ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–≤–∞–ª–æ –≤—ã—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è‚Ķ –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫—É–¥–∞ —á—Ç–æ –ø–æ–¥–µ–≤–∞–ª–æ—Å—å! –ú–∞–º—É –æ–±—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–æ–º —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –æ–Ω–∞ —Å–∞–º–∞‚Ķ –±–∞–±—É—à–∫–∏-—Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∏. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –≥—É—Å—Ç–æ –Ω–∞–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ –Ω–∞–ø–æ–º–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ, –Ω–∞—Ä—è–¥–Ω—ã–µ –∏ —Å –ø—ã—à–Ω—ã–º–∏, –ø–æ–¥—á–∞—Å –¥–æ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞–º–∏ ‚Äì –ø–æ —Å–ª—É—á–∞—é —ç—Ç–æ–π –≤–æ—Ç —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏, —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ–¥—ã, —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π, –≤–∏–¥–∏–º–æ, —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ –∑–∞–≥–æ–¥—è –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å‚Ķ
Грустная, грустная картина. И в самом деле – куда что подевалось? От того прежнего, дурманящего, невозвратного. Где былой веселый девчоночий гомон, густо пересыпанный взвизгами и заливистым смехом, где все то неизъяснимое очарование живой женской массы, затягивающей тебя в самую свою середку? Где тот восторг молодости, красоты, нерастраченной энергии? И, главное, главное – где та, самая красивая на свете моя мама, которая была для меня сродни какой-то мифической богине, особенно, когда по обыкновению ждал – высматривал ее на углу дома, на пригорке, вечером, в долгожданный тот предзакатный час, когда уж подходило время возвращаться ей со своей работы. И ее появление вдалеке, в сквере, притаившемся в проеме меж домов, ее плавное парение среди деревьев в круге света было подобно весеннему половодью, первой летней грозе, этому слепому июньскому дождичку, только что щедро полившему газоны и асфальтовые дорожки в нашем дворе… И радуге, неожиданно вспыхнувшей в лазурном, колышущемся воздухе за углом твоего дома, в просвете между деревьями и соседними домами. Где, ну, где же, скажите, все это чудо, которое когда-то наполняло мою жизнь безграничным светом и счастьем?
Я непроизвольно притянул к себе, положив руку на острое мальчишеское плечо, своего двенадцатилетнего сына. Мне нужно было в это тонкое невесомое мгновение, вот-вот готовое разрешиться предательской слезой, хотя б на кого-то опереться, на кого-нибудь родного, надежного. И хорошо, что рядом оказался мой стремительно взрослеющий сын Владислав, как считают многие, чуть ли не полное подобие меня самого – тогдашнего смешного мальчугана из моих смутных воспоминаний и снов, которым уже почти что сорок лет… Воспоминаний, теперь больше похожих на какую-то чудесную волшебную сказку – из тех дивных красочных книг, что когда-то читала мне моя милая бабушка.
… Но мальчик тот ведь был на самом деле, гонял когда-то, как заводной, по этим вот лестницам и коридорам и потому он так же реален, как и эти старые стены, которые помнят тебя совсем еще маленьким, а маму – молодой, веселой и ослепительно красивой. В общем, такой, какой она навсегда осталась на старых фотографиях в толстом нашем, тоже старом, с потертыми зелеными корочками из плюша фотоальбоме. Только вчера ты перебирал не торопясь под мягким светом желтого абажура эти старые фотографии. И невольно вздрогнул, наткнувшись на необычайно серьезный, из-под не по возрасту густых бровей, взгляд того самого мальчика, каким когда-то был сам. «Откуда столько недетской серьезности и даже как будто скорби в этом мальчишеском чистом взгляде»? – подумал ты. Но на следующей фотографии тот же самый мальчик расплылся в счастливой улыбке, обнажив недостаток зубов во рту… Если бы кто-то задался целью продемонстрировать, что представляет из себя абсолютное счастье – можно было смело брать и показывать вот эту самую фотографию. Этот маленький человечек на пожелтевшей по краям фотографии светился неподдельным счастьем. А все потому, что по другую сторону от фотообъектива была мама – она тоже улыбалась мальчику из-за зазеркалья, из того угла, который остался по другую сторону реальности, улыбалась, как девчонка, кривляясь и дразнясь: «Беззубая та-ра-ра!»
– Па-а-ап, может, уже пойдем отсюда!» – настойчиво потянул меня сбоку за рукав мой сынишка.
– Пойдем, сынок, – согласился я.
Мы вышли на улицу, спустились по широким ступенькам парадного крыльца и завернули за угол белокаменного массивного здания училища. Прямо перед нами вверх забирала широкая асфальтовая дорога, по которой проезжали редкие в этой стороне машины, а вправо на небольшое взгорье уходила узкая тропка, протоптанная среди сочной июньской травы. Тропинка эта была ровесницей моих воспоминаний. «А вот и старая добрая знакомая», – мысленно удивился я. А вслух сказал, притянув к себе сына: «А, хочешь, сынок, я покажу тебе двор своего детства?» – «Конечно, папа, хочу», – откликнулся непривычно серьезный, словно бы и на него обрушились какие-то свои смутные воспоминания, мой неожиданно повзрослевший сын.
Я тихонько прижал его к себе, ласково потрепал по русой голове и мы стали вскарабкиваться по крутой этой тропинке на холм, где возвышалась серенькая безликая пятиэтажка, в которой раньше, кажется, была училищная общага. А за ней еще одна, и еще… За рядом этих одинаковых, нагроможденных друг над дружкой типовых блочных домов выделялся светлым пятном «современный» роддом, огороженный бетонным забором, в котором родился мой младший брат Максим. А случилось это, когда мне было столько же примерно лет, как сейчас моему сыну Владу. С того момента жизнь моя круто изменилась. Золотое время безоблачного и безгранично счастливого детства, когда я был главным объектом всеобщего внимания в нашей маленькой семье, а мама – моим «небесным светом» и центром моего мироздания, увы, закончилось с рождением маленького братишки. Да, с того момента точки притяжения, как и в целом расстановка планет в семейной нашей солнечной системе, кардинально сместились. Впрочем, и солнце, которым до сего дня для меня, повторюсь, всегда была мама, – как-то враз потускнело, а временами и вовсе перестало светить. С того времени для меня самым главным и родным человеком стала бабушка. Впрочем, скорее всего, так было всегда. Но это уже совсем-совсем иная история. И связана она уже в большей мере с другим нашим домом, вернее, квартирой, другими дворами и значит – совсем другими картинами и воспоминаниями.
‚Ķ –ò –≤–æ—Ç —è –≤–µ–¥—É —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å—ã–Ω–∏—à–∫—É, —Ç–∞–∫ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–≥–æ, –µ—Å–ª–∏ —Å—É–¥–∏—Ç—å –ø–æ —Ç–µ–º –∂–µ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è–º –∏–∑ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Å–µ–º–µ–π–Ω—ã—Ö –∞–ª—å–±–æ–º–æ–≤, –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å–∞–º–æ–≥–æ ‚Äì —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–≥–æ, —Å–º–µ—à–Ω–æ–≥–æ –∏ –¥–æ –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–≥–æ –º–∞–ª—å—á—É–≥–∞–Ω–∞ ‚Äì –≤ –º–∏—Ä –º–æ–µ–≥–æ –∫–∞–Ω—É–≤—à–µ–≥–æ –≤ –õ–µ—Ç—É –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞, –æ—á–µ–Ω—å-–æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Ö–æ—Ç—å —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –ù—É, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –æ—Å–∫–æ–ª–æ—á–µ–∫, —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ —Å–∫—Ä–∏–ø—É—á–∏–µ –∫–∞—á–µ–ª–∏, —á—Ç–æ –ª–∏. –ò–ª–∏ –ø–µ—Å–æ—á–Ω–∏—Ü–∞, –∏–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–µ —É–≥–ª—É–±–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–æ –∫–æ–ª–µ—Å–æ –º–æ–µ–≥–æ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥–∞ —Å –≥–æ—Ä–¥—ã–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–®–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫¬ª. –ò–ª–∏ –∫–∞–∫–æ–π-–Ω–∏–±—É–¥—å –∫—É—Å—Ç–∏–∫ –∑–∞ –¥–æ–º–æ–º, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–≤–æ—Ä–æ–≤—ã—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π-—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π –≤ –æ–±–Ω–∏–º–∫—É —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –ø–ª–∞—Å—Ç–º–∞—Å—Å–æ–≤—ã–º —Ä—É–∂—å–µ–º –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏–≥—Ä—ã –≤ ¬´–≤–æ–π–Ω—É—à–∫—ɬª. –Ø –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, —á—Ç–æ –º–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –¥–≤–æ—Ä –Ω–µ –æ–±–º–∞–Ω–µ—Ç –Ω–∞—à–∏ —Å —Å—ã–Ω–æ–º –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è –∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã —á–µ–º-—Ç–æ –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏—Ç –æ —Ç–æ–º –º–∏—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–∞—Å—Ç–∞—è–ª–æ –º–æ–µ –±–µ–∑–æ–±–ª–∞—á–Ω–æ–µ –∏¬Ý –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–µ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ‚Ķ –í–µ–¥—å –¥–≤–æ—Ä-—Ç–æ –Ω–∞—à –¥–æ–ª–∂–µ–Ω ‚Äì –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∂–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è! –ö–∞–∫ –∏ —è –ø–æ–º–Ω–∏–ª –µ–≥–æ —Å–≤–æ–µ–π –¥—É—à–æ–π, –ª–µ–ª–µ—è –µ–≥–æ –≤–æ —Å–Ω–∞—Ö –∏ —Å–º—É—Ç–Ω—ã—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö.
«Должен, да не обязан!» – мысленно одернул я сам себя бабушкиными словами. Я-то ведь хорошо знал, что ничего прежнего там, в моем дворе, где прошло детство, уже не осталось. Ведь обжегся уже на этом однажды! До определенного времени всякий раз по приезде в родной свой город, особенно зимой, я имел обыкновение наведываться в свой старый двор, как бы совершая «круг почета» по местам своего «легендарного» детства: школьный двор, затем проулок до поворота к домам, и вот, наконец, старый знакомый – остов нашего пятиэтажного дома, когда-то казавшегося огромным кораблем, а теперь – притаившегося под пышной снежной шапкой, как у Деда Мороза, и поглядывающего удивленно усталыми стариковскими своими глазами из-под пушистых бровей – снежных наметов на оконных козырьках и перилах балконов. Среди ранних зимних сумерек (отпуск мой чаще всего приходился на средину зимы) я, бывало, подолгу стоял в сторонке, прислонившись боком к старому тополю у школьного забора, и всматривался в окна своей бывшей квартиры во втором этаже. Дожидался, когда зажжется в одном из окон свет, как бы угадывая, как там теперь и кто там живет сейчас в нашем бывшем жилище, где столько пережито и передумано, где остались все мои детские сны и мечты, так похожие на сказки… Да, посещение этого затерянного среди старых пятиэтажек-хрущовок двора стало для меня в определенный период своеобразным ритуалом: каждый приезд в родной город я обязательно приходил сюда, чтоб постоять вот так, проникнуться прошлым, подзарядиться и набраться душевных сил, так сказать, для новых свершений и побед. Но однажды, в очередной свой приезд, а было это где-то в начале марта, когда уже зима зримо начинала уступать место весне и дни стояли, хоть и все еще морозные, но уже сплошь по-весеннему солнечные, я оказался в этом дворе задолго до наступления сиренево-алых мартовских сумерек и, к своему немалому изумлению, не ощутил привычного уже для себя «погружения» в прошлое, в детство. Дом наш бывший показался мне тогда, в закатных лучах жизнерадостного мартовского солнца, каким-то серым и неприглядным, ничем не отличающимся, в общем, от остальных таких же «хрущоб», по-стариковски столпившихся вокруг. Но, главное, наш балкон застеклили, причем, не деревом, а белым бездушным «сайдингом». И он сразу же отчего-то стал отталкивающе чужим. Некогда огромные сугробы, отделявшие асфальтовую дорогу от детской площадки, теперь едва доставали мне до пояса, от самой площадки и вовсе ничего не осталось, на ее месте рядочком выстроились мусорные баки. Но, главное, окрестные дома, надежно ограждавшие когда-то своими «могучими» спинами наш двор от внешнего мира и превращая его в уютный, почти заповедный уголок, теперь словно бы расступились, открыв со всех сторон улицу и соседские проходные дворы. Былое очарование враз улетучилось. И ничего – ровным счетом ничегошеньки с этим нельзя было поделать…
–ò –≤–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è—è—Å—å —Å —Å—ã–Ω–æ–º –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É —Å—Ç–∞—Ä–æ–º—É –¥–≤–æ—Ä—É, –≥–¥–µ –ø–æ –º–æ–µ–º—É —Ä–∞–∑—É–º–µ–Ω–∏—é –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–∂–∏–¥–∞—Ç—å –º–µ–Ω—è –º–æ–µ –∑–∞—Ä–µ–≤–æ–µ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ, —è —Ä–∏—Å–∫–æ–≤–∞–ª –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑, –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –Ω–∞ –æ–¥–Ω–∏ –∏ —Ç–µ –∂–µ –≥—Ä–∞–±–ª–∏ –∏ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞—Ç—å –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–µ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ: –≤–µ–¥—å –Ω–µ–ª—å–∑—è –∂–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —É–∂–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–æ–±–æ–π —Å–≤–æ–∏ –¥–≤–µ—Ä–∏. –î–≤–µ—Ä–∏ –≤ –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω—É—é —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞, –≥–¥–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Å–∞–º—ã–µ —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç–∞–π–Ω—ã –∏ –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω—ã–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ—Å–∫–∏–µ –º–µ—á—Ç—ã.
– Однако надо было хотя бы кого-то предупредить, что мы с Владом уходим, – спохватился я. И, обернувшись к сыну, попросил:
– Позвони, пожалуйста, маме и скажи ей, куда мы пошли!
Но это оказалось лишним: моя жена Мила махала нам рукой с противоположной стороны улицы и что-то кричала вслед, она была уже возле белой глыбы роддома, то есть, получается, все это время тенью следовала за нами. «Ну и пусть, – мысленно успокоил я сам себя, – пусть будет как будет».
…И пусть я уже не найду в том заповедном уголке моего канувшего в Лету детства знакомых только мне одному примет, пусть в душе не проснется былой мальчик, которым когда-то был я сам – зато я покажу своему подросшему сыну места, где начинался мой жизненный путь, откуда идут мои первые внятные воспоминания о себе и об окружающем мире. Самые чистые и светлые воспоминания. И где, возможно, остался хоть один камушек или бордюр, да пусть хотя бы трещина на асфальте, которые еще помнят мои резвые, некогда сплошь покрытые синяками и ссадинами ноги в грубых «скороходовских» сандалиях. В конце концов, остались же в нашем дворе старые тополя, которые как раз вот об эту пору густо устилали весь асфальт мягким пуховым ковром, – они-то уж точно были и остаются немыми свидетелями моего постепенного превращения из жизнерадостного ребенка-дошкольника в нескладного и ершистого подростка. Такого же, в общем, каким к нынешнему дню стал мой собственный сын, отчего-то непривычно присмиревший теперь. На удивление тихо, без привычной россыпи возражений и вопросов по всякому поводу, он молча следовал за мной незаметной тенью. Как будто и он что-то такое почувствовал!.. Я снова приобнял моего Владьку за плечи – и мы двинулись на приветливо зажегшийся с противоположной стороны дороги зеленый огонек светофора через проезжую часть улицы Сибиряков-Гвардейцев. Мы были практически уже у цели. Вот и добротный угловой дом, «сталинка», облицованный снизу крупным шероховатым серым камнем. На первом этаже его по-прежнему располагается хлебный магазин, на удивление, все с теми же витиевато-ажурными, как в старых моих детских книжках, буквами над входом: «Хлеб». Хотя бабушка почему-то называла его «булошной». Именно так и говорила: «Бу-ло-ш-ная», с мягкой московской «ш» посредине, в очередной раз посылая меня за хлебом, скрупулезно при этом отсчитывая мелочь… И тут я ощутил, как привет из детства, густой хлебный аромат, характерный для таких вот старых «булошных», который мы с мальчишками чуяли уже за несколько десятков метров до заветных дверей в магазин. На сэкономленную сдачу я по обыкновению покупал себе сдобную булочку по три копейки, облитую сверху белой сладкой помадкой и, едва выйдя за порог хлебного магазина, в первую очередь разделывался с этой самой помадкой. А если в кармане брюк отыскивалась зажиленная с прошлого похода «по хлеб» трехкопеечная монетка, то она немедленно отправлялась в щель расположенного тут же, у дверей магазина, автомата с газировкой. И я, давясь своей булочкой, завороженно наблюдал, причем, каждый раз словно впервые, как посверкивающий на солнце граненый стакан постепенно, с характерным шипением наполняется газировкой, приправленной душистым грушевым сиропом. Каким же это было наслаждением: уплетать прямо посреди улицы необыкновенно вкусную трехкопеечную сдобную булку и запивать ее сладкой газировкой. Ну и доставалось же бывало мне от бабушки вот за эти уличные несанкционированные «пиры», да еще и в компании с дворовыми моими дружками. Какая-нибудь излишне бдительная наша соседка по подъезду нет-нет, да и доносила моей бабуле, а то и маме о наших этих уличных спонтанных пиршествах возле «булошной».
Не знаю почему, но, дозволяя мне практически все на свете и нещадно балуя меня, бабушка была беспощадна в своем «праведном» гневе, если речь заходила о таких вот уличных перекусах – «кускохватаниях», как она их называла.
– Зачем ты позоришь нас с мамой перед людьми? – выговаривала мне бабушка, строго сдвинув густые свои смоляные брови. – Неужели тебя дома недостаточно хорошо кормят? Или у нас совсем нечего есть?
И в самом конце «пропесочки», видя мое неподдельное изумление и наворачивающиеся слезы, уже мягче добавляла:
– Ведь можно же было принести ту же булку домой и съесть ее по-человечески – с чаем!
И вот как, скажите, можно объяснить бабушке, что нет ничего вкуснее только что привезенной с хлебзавода, еще теплой сдобной булки, съеденной вот именно что на улице, в трех шагах от «булошной», да еще если запить ее сладкой газировкой из автомата (О, ужас, ужас! – ведь из этих стаканов пьют всякие алкаши!). Вспоминая обо всем этом, проворачивая в голове и душе, порядком уж отвердевшей, местами даже закостеневшей на нелегких житейских путях-дорожках, все эти цветные картинки детских своих воспоминаний, я как бы становился на какое-то мгновение тем чистым, наивным мальчуганом, которым был когда-то давным-давно, в золотое и, увы, невозвратное время своего детства.
Я окинул неторопливым взглядом весь этот добротный дом послевоенной еще постройки – и он снова поразил меня своей неохватной громадой, солидным и даже чопорным своим фасадом, ну, совсем как бывало в незабвенном моем детстве. Я сжал в своей руке холодную ладошку сына и двинулся вдоль этого огромного дома-стены дальше – туда, где в этой стене должна была быть брешь в виде огромной каменной арки в три, никак не меньше, этажа высотой и с огромными чугунными воротами, украшенными диковинными сферовидными узорами с расходящимися от них во все стороны стрельчатыми лучами. Бывало, мы бежали с мальчишками со всех ног от того же хлебного магазина с гиканьем и криками, стараясь во что бы то ни стало перегнать друг дружку, чтоб тому из нас, которому больше повезет, пусть хоть на полшага, но непременно вырваться вперед и первым запрыгнуть в эти ворота и со всей силы захлопнуть перед носом у отставших товарищей огромную эту чугунную калитку, да еще и придавить для верности ее снизу ногой, удерживая, сколько это было возможным, натиск оставшихся по ту сторону калитки своих друзей. Это было по-своему магическим в твоем понимании действом: ведь ты, если только повезло, первым оказывался во владениях своего двора, которые как бы охранялись всеми известными тебе из сказок и фильмов героями, а также всякими добрыми феями и волшебниками из тех красочных старых книг, что читала тебе когда-то бабушка. Тогда как друзья твои оставались на «неохраняемой» территории фактически беззащитными перед всякой-разной нечистью и злыми духами. При этом калитка стукалась о ворота с такой силой, что и по двору, и по улице еще долго плыл тяжелый протяжный звук, подобный набату или даже церковному колоколу. Как в фильме об Александре Невском, когда под такой вот звук набата весь честной люд сбегался на центральную городскую площадь. К нам же, бывало, тоже сбегались люди – в основном возмущенные тетки и старухи, просиживающие дни напролет на лавочках у своих подъездов. Случалось, как из-под земли появлялась злая дворничиха с метлой, сухая морщинистая старуха с красным мясистым носом и с вечно недовольным злобным взглядом из-под кустистых бровей, которую почему-то все литературно звали Салтычихой. В таком случае нужно было нам удирать со всех ног врассыпную от этой самой дворничихи, дабы не получить по спине метлой. И в более выгодном положении были в таких случаях те из ребят, которые скорее других оказывались по ту сторону от калитки, на улице.
Мы с Владом дошли наконец до арочного провала между домами и оказались перед чугунной ажурной калиткой с круглыми цветами-солнцами. Я взялся рукой за шершавый металл калитки и почувствовал тепло, исходящее от него, – оно враз наполнило все мое естество. Боже-боже, со времени детства прошла уже бездна времени. Одна эпоха сменила другую, и сейчас, кажется, наступала новая. Столько всяких радостей, бед и потрясений довелось пережить нам всем вместе с нашей бедной страной за это время. И сколько металла, даже с охраняемых государством памятников и монументов, пошло за эти годы в металлолом, а ворота эти, гляди-ка, устояли. И впрямь ведь – чудо какое-то. А за воротами притаился заповедный мир моего детства. И чтобы попасть в него, осталось сделать самую малость – слегка подтолкнуть рукой вот эту чугунную калитку, украшенную дивным, языческим каким-то узором. Но я отчего-то все медлил и медлил, как будто оказался перед священным местом, перед входом в храм, и неожиданно смутился, внутренне засомневавшись: достоин ли войти в эту «святую обитель», не рассеется, не исчезнет ли вот это хрупкое ощущение таинства и чуда, которое сейчас снизошло на меня, всецело завладев моим существом?
– Папа, ну что же ты, идем дальше! – подтолкнул меня сбоку мой сын, и я наконец оттолкнул от себя калитку и сделал этот решающий шаг с улицы во двор. В пределы «охранной территории», где злые силы, по нашим давнишним детским представлениям, теряют свою власть и ты оказываешься защищенным от всех бед, угроз и напастей. Ну, кроме, разве что, риска быть застигнутым врасплох всегда чем-то недовольной дворничихой Салтычихой. Но это ведь совсем-совсем другое. Салтычиха, хоть внешне и напоминала Бабу Ягу, на самом деле была все равно доброй, это понятно было даже нам, мальчишкам – ведь из ее «ведьминских» глаз, даже в мгновения самого страшного гнева, все равно исходили теплые лучики, и такие вещи ребятня очень даже тонко чувствует, как раз в этом плане она куда прозорливее своих вечно спешащих куда-то родителей… Не-е-т, зло на самом деле было совсем-совсем другим, и оно обычно пряталось как раз под внешне доброй личиной какого-нибудь излишне учтивого дядьки, внезапно останавливавшего тебя прямо посреди улицы и задававшего самые неожиданные вопросы. И это мы с мальчишками тоже уже знали, и не только от своих родителей и бабушек…
Я наконец переступил через чугунную перекладину старых этих ворот и, едва коснувшись ногой асфальта, услышал мягкий удар колокола откуда-то из глубины двора: «Бом-м-мм!» А следом еще один, и еще… И снова замер от неожиданного этого колокольного звона, встретившего нас с сыном на самом пороге «страны детства», как будто и впрямь оказался в святой обители, в заповедных владениях старинного монастыря.
– Папа, а что здесь где-то рядом есть церковь? – осторожно поинтересовался сын.
–ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª —è –ø—Ä–æ —Å–µ–±—è, –∞ –≤—Å–ª—É—Ö —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
‚Äì –Ý–∞–Ω—å—à–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–æ—á–Ω–æ ‚Äì –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –∑–¥–µ—Å—å –≤–∑—è—Ç—å—Å—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏? –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å ‚Äì –∫—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –µ—Å—Ç—å. –ö–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è, —Å–≤—è—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –ø—É—Å—Ç–æ –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—ǂĶ
–ú—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤ —É—é—Ç–Ω—ã–π —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω—ã–π –¥–≤–æ—Ä, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω —Å—Ç–∞—Ä—ã–º–∏, –≤–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –æ–±–ª—É–ø–∏–≤—à–∏–º–∏—Å—è –¥–æ–º–∞–º–∏ ‚Äì —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±—ã —Å—Ç—Ä–æ–≥–∏–º–∏, –Ω–æ –¥–æ–±—Ä—ã–º–∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç—Ä–∞–∂–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏–∑ ¬´–°–∫–∞–∑–∫–∏ –æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏¬ª. –ü–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ –¥–≤–æ—Ä–∞, –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ, —Ä–∞—Å–∫–∏–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤–æ –≤—Å–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –¥–µ—Ç—Å–∫–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞ —Å —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–µ—Å–æ—á–Ω–∏—Ü–µ–π, –∫–∞—á–µ–ª—è–º–∏, –ª–∞–≤–æ—á–∫–∞–º–∏ –∏ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–µ—à–µ—Ç—á–∞—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π, –≤–æ–¥—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –≤ —Å–∞–º–æ–º –µ–µ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ. –ü–æ–≤—Å—é–¥—É –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ–Ω—å–∫–∏ –æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Ç–æ–ø–æ–ª–µ–π. –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∏ –¥–≤–æ—Ä—ã –±—ã–ª–∏ —Å–ø–ª–æ—à—å –∑–∞—Å–∞–∂–µ–Ω—ã —Ç–æ–ø–æ–ª—è–º–∏. –ò –µ—â–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø–æ–º–Ω–∏–ª, –∫–∞–∫ –∂–µ –º—ã, ¬´–±–µ—Å–ø—Ä–∏–∑–æ—Ä–Ω—ã–µ¬ª –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, –ª—é–±–∏–ª–∏ –ø–æ–¥–∂–∏–≥–∞—Ç—å —Ç–æ–ø–æ–ª–∏–Ω—ã–π –ø—É—Ö, –≥—É—Å—Ç–æ —Å–≤–∞–ª—è–≤—à–∏–π—Å—è –≤–¥–æ–ª—å –±–æ—Ä–¥—é—Ä–æ–≤ –ø–æ –∫—Ä–∞—è–º —Ç—Ä–æ—Ç—É–∞—Ä–æ–≤. –û–≥–æ–Ω—å –≤–µ—Å–µ–ª–æ –≤—Å–ø—ã—Ö–∏–≤–∞–ª —Ç–æ —Ç—É—Ç, —Ç–æ —Ç–∞–º, –∏ —Ö–∏—â–Ω—ã–µ —è–∑—ã—á–∫–∏ –ø–ª–∞–º–µ–Ω–∏ –±–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É, —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∂–∏—Ä–∞—è –±–µ–ª—É—é –≤–∞—Ç—É –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π —á–µ—Ä–Ω—É—é –≤—ã–∂–∂–µ–Ω–Ω—É—é –¥–æ—Ä–æ–∂–∫—É. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω–Ω—ã–º –±–∞–ª–æ–≤—Å—Ç–≤–æ–º, –∏ –º—ã –µ–∂–µ—Å–µ–∫—É–Ω–¥–Ω–æ —Ä–∏—Å–∫–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –≤–∑–±—É—á–∫—É –≤—Å–µ –æ—Ç —Ç–æ–π –∂–µ –°–∞–ª—Ç—ã—á–∏—Ö–∏. –ù–æ —Ä–∞–∑–≤–µ –∂ —ç—Ç–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–æ –≤–æ—à–µ–¥—à–∏—Ö –≤ —Ä–∞–∂ –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ–∫? –î–∞, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –Ω–∞—Å —Ç–æ–≥–¥–∞ –º–æ–≥–ª–∏ –ª–∏—à—å —Å–∞–º—ã–µ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –º–µ—Ä—ã, –∫–∞–∫, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è –∂–∞–ª–æ–±–∞ –Ω–∞ –∞–¥—Ä–µ—Å —à–∫–æ–ª—ã –∏–ª–∏ —É–≥—Ä–æ–∑–∞ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∞ –≤ –æ–ø–æ—Ä–Ω—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª–µ–∫—É, –≤ –ø–æ–ª—É–ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –ù–æ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã–º–∏, –∫–∞–∫ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –≤ —Å–∞–º—ã—Ö –∫—Ä–∞–π–Ω–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö, –∏ —Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ –¥–ª—è –æ—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∫–∏. –£–∂–µ –æ—Ç —Å–∞–º–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞ –ª—é–¥–µ–π –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–µ–π—Å–∫–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ —É –Ω–∞—Å, –±–µ–¥–æ–ª–∞–≥, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏ –¥—Ä–æ–∂–∞—Ç—å –∫–æ–ª–µ–Ω–∫–∏, —Å–∞–º–∏ —Å–æ–±–æ–π –Ω–∞–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ —Å–ª–µ–∑—ã –∏ –º—ã, —Ä–∞–∑–º–∞–∑—ã–≤–∞—è –∏—Ö –ø–æ –ª–∏—Ü—É –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–º–∏ –∫—É–ª–∞–∫–∞–º–∏, —É–º–æ–ª—è–ª–∏ –Ω–∞—à–∏—Ö –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç–µ–ª–µ–π ¬´–ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç—å –∏ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ǘ嬪 –∏, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –æ–± –∏–Ω—Ü–∏–¥–µ–Ω—Ç–µ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º, –∫–ª—è–Ω—è—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤ —Å–∞–º—ã–π –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —Ä–∞–∑‚Ķ –ò –≤–æ—Ç, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–∞—à–µ–ª—Å—è —Å–ø–æ—Å–æ–± –∏ –ø–æ–∫—Ä—É—á–µ: –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è, –Ω–µ—Ç —Ç–æ–ø–æ–ª–µ–π ‚Äì –Ω–µ—Ç –∏ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã. –í–æ –∫–∞–∫! –•–æ—Ç—è, –µ—Å–ª–∏ —á–µ—Å—Ç–Ω–æ, –±–µ–∑ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –¥–≤–æ—Ä —Å—Ç–∞–ª —Å–≤–µ—Ç–ª–µ–µ –∏ –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –Ω–æ–≤–µ–µ, —á—Ç–æ –ª–∏. –ù–æ –≤–æ—Ç –±–µ–¥–∞: –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤ –Ω–µ–º —Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç—á–µ–≥–æ-—Ç–æ –Ω–∏ —Ä–µ–±—è—Ç–Ω–∏, –Ω–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞—à–Ω–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä—É—Ö –Ω–∞ –ª–∞–≤–æ—á–∫–∞—Ö, –æ—Ç –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞–º —Ç–∞–∫ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ. –ê —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –≤—Å–µ —Ç–æ –∂–µ, –≤—Å–µ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –±—ã–ª–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ, –≤ —Ç—É –¥–∞–ª–µ–∫—É—é –ø–æ—Ä—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –±—ã–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏. –Ø –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∏ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –∑–∞–∫—Ä—É–∂–∏–ª–∞—Å—å –≥–æ–ª–æ–≤–∞, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –±—ã —Ö–≤–∞—Ç–∞–Ω—É–ª —Å–¥—É—Ä—É –±–æ–ª—å—à–æ–π, –≤ –ø–æ–ª—Å—Ç–∞–∫–∞–Ω–∞, –≥–ª–æ—Ç–æ–∫ –∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–æ–≥–æ –≤–∏–Ω–∞, –∫–∞–∫ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –±—ã–≤–∞–ª–æ –≤ —é–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏—Ö –∫–ª–∞—Å—Å–∞—Ö, –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–∞–º—ã–º —É–∂–µ –≤—ã–ø—É—Å–∫–æ–º, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º ‚Äì –≤ —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä–∞–∑–≤–µ—Å–µ–ª—ã–µ –≥–æ–¥—ã. –ò –Ω–µ –≤ —Å–∏–ª–∞—Ö —Å–æ–≤–ª–∞–¥–∞—Ç—å —Å –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω—ã–º —ç—Ç–∏–º –≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ–º, —è –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–∏–∑–∫—É—é –ª–∞–≤–æ—á–∫—É –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏. –Ý—è–¥–æ–º —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –∂–µ –ø—Ä–∏–º–æ—Å—Ç–∏–ª—Å—è –º–æ–π —Å—ã–Ω –í–ª–∞–¥. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –µ—â–µ –Ω–µ –Ω–∞—à, –≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, –Ω–µ –º–æ–π –±—ã–≤—à–∏–π –¥–≤–æ—Ä, –∞ —Å–æ—Å–µ–¥—Å–∫–∏–π ‚Äì –¥–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –µ—â–µ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –≤–¥–æ–ª—å —Ç–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞, –∫ —Ç–æ—Ä—Ü—É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–µ–ª–∏ —Å–ø–∏–Ω–∞–º–∏, –∏ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–∫–∞—Ç—É—é –≥–æ—Ä–∫—É. –ù–æ –∏ —ç—Ç–æ—Ç –¥–≤–æ—Ä, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, —Ç–æ–∂–µ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –Ω–∞—à–∏—Ö, —Å –º–æ–∏–º–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–∏–º–∏ –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏-–æ–¥–Ω–æ–¥–≤–æ—Ä—Ü–∞–º–∏, –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–π. –ì–¥–µ –∂–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å–µ —Ç–µ —Å–æ—Ä–≤–∞–Ω—Ü—ã-–º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, —á—å–∏ –∑–≤–æ–Ω–∫–∏–µ –∑–∞–¥–æ—Ä–Ω—ã–µ –≥–æ–ª–æ—Å–∞, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –≤—Å–µ –µ—â–µ –ø–æ–º–Ω—è—Ç —ç—Ç–∏ —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –¥–æ–º–∞, –∏—Ö –æ–±–ª—É–ø–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —Å—Ç–µ–Ω—ã –∏–∑ —Å–≤–µ—Ç–ª–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞? –°–ª–æ–≤–æ–º, —ç—Ç–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è —Ç–∞–∫–∂–µ –±—ã–ª–∞ —á–∞—Å—Ç—å—é —Ç–æ–π –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª ¬´—Å—Ç—Ä–∞–Ω–æ–π –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞¬ª. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, —ç—Ç–æ—Ç –≤–æ—Ç –¥–≤–æ—Ä –º–Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –±–æ–ª—å—à–µ –º–æ–µ–≥–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ. –ù—É, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –¥–æ–º–∞ –∑–¥–µ—à–Ω–∏–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç –Ω–∞—à–∏—Ö ¬´—Ç–∏–ø–æ–≤—ã—Ö¬ª –ø—è—Ç–∏—ç—Ç–∞–∂–µ–∫: –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ä–µ–µ –∏ –æ—Å–∞–Ω–∏—Å—Ç–µ–π, —á—Ç–æ –ª–∏. –ò –ø–æ—Ç–æ–º—É, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–º –∫–∞–∫–∏–º–∏-—Ç–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±—ã –Ω–µ—Å–ª–∏ –≤ —Å–µ–±–µ –∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ –Ω–µ–≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—É—é –ø–µ—á–∞–ª—å –∏ —Ç–∞–π–Ω—É, –ø–æ—Å—Ç–∏—á—å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø–æ–¥ —Å–∏–ª—É –µ—â–µ –Ω–∞—à–∏–º —é–Ω—ã–º, –Ω–µ–æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–º —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞–º. –ú–Ω–µ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∂ –∑–∞—É—Ä—è–¥–Ω—ã–µ, –∫–∞–∫, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ –Ω–∞—à–µ–º –¥–æ–º–µ, –∞ –±–æ–ª–µ–µ —Å–æ–ª–∏–¥–Ω—ã–µ, —á—Ç–æ –ª–∏, –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥—ã. –¢–∞–∫–∏–µ –≤–æ—Ç, –∫–∞–∫ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –¥–æ–º–∞—Ö. –ù—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –º–Ω–µ –±–æ–ª—å—à–∏–µ, –ø–æ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–∞–º–∞–º–∏ –Ω–∞ –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç—ã –æ–∫–Ω–∞ –≤ —ç—Ç–∏—Ö –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–∞—Ö. –ò —à–∏—Ä–æ–∫–∏–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–Ω—ã–µ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—ã, –≤–µ–¥—É—â–∏–µ –≤ –∏—Ö –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–Ω—ã–π —Å—É–º—Ä–∞–∫. –ù–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –º–Ω–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ –¥—É—à–µ –∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –æ–∫–æ—à–∫–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö—É, –Ω–∞–¥ —ç—Ç–∏–º–∏ —Å–∞–º—ã–º–∏ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–∞–º–∏, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤—ã—à–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö —ç—Ç–∞–∂–µ–π ‚Äì –ø–æ–¥ —Å–∞–º–æ–π –∫—Ä—ã—à–µ–π, –∏ –∫–∞–∫ –±—ã –≤–µ–Ω—á–∞–≤—à–∏–µ –∏—Ö –æ–±—â—É—é –∑–∞—Ç–µ–π–ª–∏–≤—É—é ¬´–∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—É—é¬ª –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ü–∏—é.
В угловом подъезде, что был сейчас аккурат за моей спиной, жил когда-то мой друг Игорь Селиванов, учившийся в параллельном классе. Жил он, как и я, с мамой и бабушкой. Мама Игорева преподавала в НЭТИ, электротехническом нашем знаменитом институте, а бабушка, как и моя, была всегда дома, на хозяйстве. И так же, как и моя, бывало, когда мы забегали за чем-нибудь к нему домой, на четвертый этаж, привычно предлагала нам чаю с печеньем и конфетами, но прежде – обязательно тщательно помыть руки. Это было непреложным законом всех наших бабушек и мам… А пока Игорь пропадал на какое-то время в конце длинного сумрачного коридора своей солидной, «профессорской» квартиры, я с замиранием сердца рассматривал разноцветные корешки книг, которые как магнитом притягивали меня к себе и которыми с полу до потолка (аж под три с половиной метра высотой!) были заполнены застекленные книжные стеллажи, занимавшие всю «глухую», тянувшуюся от входной двери и до поворота в кухню стену. От обилия самых разнообразных книг, начиная с подписных изданий «классики» и не заканчивая, конечно же, разноцветными томами «Библиотеки приключений», у меня просто перехватывало дыхание. Я бы, наверное, так и стоял, как йолуп царя небесного (привет от любимой бабушки!), с открытым ртом, таращась жадными глазами на все это несметные книжные сокровища, если б из темного конца коридора не появлялся в какой-то момент Игорь и не увлекал меня за собой ко входной двери, и дальше – на бескрайние просторы наших перетекающих друг в друга дворов со всяческими укромными, «потайными» местами, оборудованными нами, например, в проемах среди гаражей, где мы устраивали свои партизанские землянки, явочные квартиры и штабы…
В соседнем, расположенном перпендикулярно к Игореву доме, в крайнем, только с другого конца, подъезде жил мой одноклассник Андрей Чернышов по прозвищу Черныш, который был выше и крупнее меня раза в полтора. У него был такой же высокий и крепкий отец: он ходил в исследовательские экспедиции на китобойных судах и потому в квартире у Андрея было много чего интересного и диковинного – разные приборы, карты, планшеты и бесчисленные фотографии, на которых были сплошь корабли, море и, конечно же, сам Андрюхин папа в самых разных ракурсах: на палубах огромных судов дымчато-серого цвета и на берегу, в основном – в теплом, с меховой подкладкой, длинном плаще и в огромной полярной шапке-ушанке на натуральном меху. Все это: и приборы, и карты, и фотографии – просто завораживало нас, пацанов, дворовых и школьных друзей Андрея. И мы все ему немного завидовали. Не у всех же отцы ходят в полярные исследовательские экспедиции. Тем более что у многих вообще не было отцов.
А вот бабушка моя не слишком-то поощряла эти наши хождения «по гостям», ну разве что по крайней какой надобности, например, узнать уроки на завтра, если по какой-то причине пропустил занятия, или как решать трудную задачу по математике. А так – нет: нельзя и все! И потому мы большую часть своего времени проводили на улице, гоняя друг за дружкой по этим вот старым проходным дворам с криками: «Вперед, в атаку! Ура-аа-а!»…
– Па-ап, – окликнул меня сбоку Влад.
– Что, сынок?
–°—ã–Ω –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –±—ã —Ö–æ—Ç–µ–ª –Ω–∞ –º–æ–µ–º –ª–∏—Ü–µ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –∏–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ —Å–æ–∫—Ä—ã—Ç–æ –æ—Ç –ø–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏—Ö –≥–ª–∞–∑.
– Пап, а ведь ты, когда был таким же, как я сейчас, может, даже меньше, наверное, бегал по этим дворам со своим друзьями, играл на этой вот самой площадке. Это правда?
– Да, это правда, сынок, – я снова притянул к себе моего сына, который, кажется, именно сейчас задумался о вечных тайнах жизни, о непрестанном движении времени, которое все постоянно преображает и меняет вокруг, и об удивительном свойстве человеческой памяти, в которой все всегда сохраняется таким, как было когда-то раньше.
Невыразимое, трепетное, как первоцвет, чувство мы испытали в эти несколько невесомых мгновений одновременно с моим враз повзрослевшим сыном, сидя в солнечном старом дворе на низкой лавочке посреди детской площадки – словно бы на это короткое время мы слились в одно целое: наши мысли и чувства стали общими, перетекая от сердца к сердцу и наполняя наши души ощущением какого-то необъяснимого чуда. Сам я словно бы уменьшился в два раза, став вровень со своим сыном, отчего испытал необыкновенную легкость во всем теле, словно бы освободился от долгое время сковывавших все мои члены невидимых, но непомерно тяжелых оков. Душа взметнулась невидимой пташкой к небесам, и такую легкость я тотчас ощутил во всем своем теле и, главное, внутри себя, что и самому впору было б взлететь подобно воздушному шарику над этим старым двором, над домами и деревьями, над всем этим бренным и столь дорогим моему сердцу миром… В эти несколько драгоценных мгновений я в полной мере ощутил в себе того мальчика, каким когда-то, давным-давно, был сам. И даже обступившие нас дома как будто стали шире и выше в этот заповедный таинственный миг, заслонив своими спинами само небо. И я вдруг поплыл, и душой и мыслями, да и в целом всем своим существом устремившись в далекие, манящие дали, на просторы своего безоблачного детства, и впрямь на какой-то миг почувствовав себя мальчишкой и пережив в этот трепетный миг совершенно непередаваемые эмоции и чувства, связанные с одним затерявшимся в дальних закоулках памяти эпизодом…
…Всех ребят, моих друзей, мамы давно уж позабирали домой обедать, а я остался один-одинешенек посреди двора, меня почему-то никто не звал к обеду. А небо тем временем уже сплошь затянуло тучами и вот-вот его рассечет пополам зигзагообразная молния, а следом, после небольшой паузы, грянет гром, и оно прорвется вкривь и вкось, как изношенная тряпка, и на землю хлынут потоки дождя, теплого, долгожданного, всеочищающего и все искупающего, как внезапные детские слезы. И вот этот заповедный, страшный этот миг, когда я остался один, всеми забытый, никому, ну никомушеньки просто не нужный, посреди нашего враз опустевшего и притихшего двора, который, как космический корабль за секунду до старта, тоже словно завис в этом мгновении, – этот бесконечный миг все длился и длился. А я с замершим, словно над бездной, сердцем отмечал про себя, как все вокруг, хоть и медленно, ну точно, как при замедленных киносьемках, но все же продолжает двигаться: как бесшумно клонятся вправо ветки деревьев вверху, у самых макушек, как молодая, незнакомая мне женщина в коротком, картинно развевающемся на ветру цветастом домашнем халатике, содрав с бельевой веревки последнюю тряпку, со всех ног припускает к среднему подъезду, но движения ее, как и все вокруг, замедленны, и оттого необыкновенно грациозны. И до того это все было красиво и необычно, что я так и застыл посреди двора истуканом, не в силах просто оторвать глаз от завораживающей этой картины: от хлопающих на ветру подъездных разболтанных дверей, от клонящихся, как по команде, деревьев, от этих ослепительно белых женских ног, заголявшихся временами почти что до основания, когда в такт шагам незнакомки порывисто распахивался этот чертовый ее халатик… И нежданные, совершенно беспричинные слезы таки наворачиваются на мои глаза в этот кульминационный миг, длившийся, казалось, целую вечность. …Последний самый миг перед оглушительным, как водопад, ливнем, долгожданным, все очищающим и все-все поглощающим под нещадными своими струями – и прошлое, и настоящее, и эти вот мои внезапные детские слезы вперемешку с соплями …
– Сережа, Владик, идите скорей сюда, – донесся до нас со спины окрик моей жены и матери моего сына – Милы. Ее неожиданный вскрик и впрямь был подобен грому среди ясного неба, прорвавшего тонкую пелену, отделявшую нас с Владом в этот заповедный, затянувшийся до бесконечности миг от реальности, и мы одновременно оглянулись, уставившись недоуменными, все еще отсутствующими взглядами в сумеречный провал между домами, с застывшим в этих взглядах одинаковым вопросом: «Что случилось?»
Мила фотографически замерла в столбе света среди каким-то чудом уцелевших старых раскидистых тополей, как дивный стебелек, саженец какого-то нездешнего диковинного деревца – вся такая юная, свежая, с потоками струящихся по плечам ржано-золотистых, слегка вьющихся волос, в своей «вечной» подростковой джинсовой юбке много выше колен, ярко-желтой футболке, так выгодно подчеркивающей солнечность, светозарность всего ее трепетного драгоценного облика. Не женщина, а девчонка-старшеклассница из моих туманных юношеских снов.
– Ну, наконец-то я вас отыскала! – донеслось до нас из глубины междомового этого сквера, выходящего на проезжую улицу. Что удивительно, говорила она, вроде, не повышая голоса, но при этом словно бы находилась в нескольких всего шагах от нас, на расстоянии вытянутой руки – настолько четко и близко, казалось, звучало каждое ее слово: «Ну, идите же скорее сюда, посмотрите, какая красота!..»
И в этот самый момент с той стороны, где была Мила, снова ударил колокол: «Бум-бом-ба-аам!» Этот завораживающий, медленно растекающийся по округе звук заставил нас с Владом разом очнуться от своего полусна и двинуться в сторону сквера, где поджидала нас наша мама.
–ò —É–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —à–∞–≥–æ–≤ –Ω–∞—à–∏–º –≥–ª–∞–∑–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–∞—è (–æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ, –¥–ª—è –º–µ–Ω—è) –∏ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞: –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ —Å–∫–≤–µ—Ä–∞, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å —Ç—Ä–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –¥–æ–º–∞–º–∏, –Ω–∞ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∑–∞–±–µ—Ç–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ –º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≤ –≤—ã—Å–æ—Ç—É, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–µ, –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –±–µ–ª–∞—è —á–∞—Å–æ–≤–Ω—è —Å –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π –±–æ—è—Ä—Å–∫–æ–π —à–∞–ø–∫–æ–π-–∫—É–ø–æ–ª–æ–º, —É–≤–µ–Ω—á–∞–Ω–Ω–æ–π –∫–∞–∫ –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ, –∑–æ–ª–æ—á–µ–Ω—ã–º –∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–º.
Церквушка и впрямь оказалась неожиданно красивой, как стройная белая невеста, бог весть каким образом очутившаяся посреди обыкновенного городского скверика, устроенного в тесном проходе между домами, на том самом месте, где раньше был заурядный дворовый фонтан с полуржавой трубой в центре, торчащей из крашенного бордовой краской бетонного конуса. Столь же ядовитой краской были выкрашены и стенки этого вечно замусоренного палыми ветками и листьями вперемешку с бумажками и окурками бассейна. Бумажки эти, за редким исключением, в основном были наспех выдранными из школьных тетрадей листами, либо в клетку, либо в косую линейку, из которых ребятня по пути из школы домой массово, наперегонки мастерила бумажные кораблики и запускала их в этот незатейливый водоем. Намокая, эти легкие и малоустойчивые парусники, похожие на смутные наши мальчишеские сны, быстро теряли свои плавучие способности и неизбежно шли ко дну, постепенно замусоривая этот странный «коммунальный» фонтан. Сейчас же этот бассейн был полностью, под ноль, забетонирован, превратившись в ровную площадку-возвышение типа подиума, на которую можно было подняться лишь с одной только, парадной, стороны по широким бетонным ступеням.
Мы поднялись по ним на этот самый подиум и подошли к часовне, на которой выделялась позолоченная, как на кабинетах начальства, табличка. На ней черным по золотому шла надпись: «Часовня в честь Владимирской иконы Божией Матери, возведена в 2004 г. и освящена настоятелем….»
– Ты видел, ты знал, тебе нравится? – обрушила на меня поток вопросов, подобный пулеметной очереди, моя жена.
Я лишь неопределенно пожал плечами – дескать, откуда же я мог знать, если часовня эта сооружена значительно позже того момента, когда я побывал здесь последний раз – лет десять, а то и больше назад.
С тех пор, как я перестал находить в этих местах, во дворах этих старых отзвуки и следы своего детства, я перестал их и навещать. И кто бы мог подумать, что теперь, когда я появился здесь вместе со своим подросшим сыном, все так неожиданно вернется… Как наваждение, как весеннее половодье…
– Мама, а ты ведь все испортила, – тихо, с каким-то пронзительным чувством вымолвил мой сын Владислав.
– Ну, конечно, – развела руками Мила, – я их обыскалась, обежала почти все окрестные подворотни. И что в результате? Я же, как всегда, все и испортила!
–Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—Ç—è–Ω—É–ª –∫ —Å–µ–±–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø–æ–≤–∑—Ä–æ—Å–ª–µ–≤—à–µ–≥–æ –∏ —Ç–∞–∫ —Ç–æ–Ω–∫–æ –≤—Å–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–≥–æ –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—â–µ–≥–æ —Å—ã–Ω–∞ –∏, –ø–æ—Ç—Ä–µ–ø–∞–≤ –µ–≥–æ –ø–æ –≤–∏—Ö—Ä–∞—Å—Ç–æ–º—É –∑–∞—Ç—ã–ª–∫—É, —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
– Не обижай маму!
–í–ª–∞–¥ –≤–º–µ—Å—Ç–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Ç–∞–∫ –ø—Ä–æ–Ω–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∏ —É –Ω–µ–≥–æ, –Ω–µ—Ä–æ–≤–µ–Ω —á–∞—Å, –∫–∞–∫ –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —É –º–µ–Ω—è —Å–∞–º–æ–≥–æ, –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—Å—è –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Å–ª–µ–∑—ã.
– Не обижай маму, слышишь! – как можно тверже повторил я и взглянул поверх его русой вихрастой головы в ту сторону, где в просвете между ближними домами и деревьями проглядывал торец пятиэтажки, той самой, в которой прошло мое раннее детство, вот до такого примерно возраста, в котором сейчас пребывал мой сын. Я смотрел рассеянно на угол своего бывшего дома, освещенного с торца ярким полуденным солнцем, и мне в какой-то момент пригрезился мальчик в светлой рубашке в голубую клетку с коротким рукавом и синих, высоко подтянутых шортах, словно бы высматривающий кого-то в той самой стороне, где были мы. Он напряженно всматривался вдаль и не видел нас, потому что… Я вдруг понял: потому что он ждал свою маму. Неужели этим мальчиком был я?!
‚Äì –°–µ-—Ä–µ-–∂–∞-–∞, –Ω—É, –≥–¥–µ –∂–µ –≤—ã? –í—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ —Å–∫–æ—Ä–µ–π –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ, –ø–æ—Ä–∞ —É–∂–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ–º–æ–π! ‚Äì —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —è –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –≤–∑–≤–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –≥–æ–ª–æ—Å —Å–≤–æ–µ–π –ø–æ—Å–µ–¥–µ–≤—à–µ–π –∏ —Å—Ç–∞–≤—à–µ–π –≤ –¥–≤–∞, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ, —Ä–∞–∑–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ –ø–æ —Ä–æ—Å—Ç—É –º–∞–º—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –Ω–µ –º–æ–≥, –∫–∞–∫ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ, –æ–±—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å —Ä—É–∫–∞–º–∏ –µ–µ —Ç–∞–ª–∏—é, —É—Ç–∫–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –Ω–æ—Å–æ–º –≤ –≥—Ä—É–¥—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å, –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, –µ—Å–ª–∏ –æ–±–Ω—è—Ç—å –º–∞–º—É –∑–∞ –ø–ª–µ—á–∏ –∏ –ø—Ä–∏—Ç—è–Ω—É—Ç—å –µ–µ –∫ —Å–µ–±–µ, –æ–Ω–∞ —É—Ç–∫–Ω–µ—Ç—Å—è —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ-–¥–µ–≤—á–æ–Ω–æ—á—å–∏ –≤–∑–¥–µ—Ä–Ω—É—Ç—ã–º –Ω–æ—Å–∏–∫–æ–º –º–Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–∂–µ –≥—Ä—É–¥–∏…
– Не обижай, – еще раз повторил я, уже непонятно, к кому обращаясь, к притихшему своему сынишке или на этот раз к самому себе. – Потому что мама – это и есть королева того волшебного царства, в котором нам с тобой сегодня посчастливилось побывать…
–ò —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∂ —Ç–∏—Ö–æ –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª:
– Без мамы было б невозможно чудо. И счастье. Ты уж поверь мне, сынок.
…Первое и, наверное, самое главное слово нашей жизни – «Мама». Первое, самое важное и часто – последнее. Так было и так пребудет во веки веков. По крайней мере, до тех пор, пока еще человек приходит в этот мир естественным, человеческим путем, стало быть – по божьему замыслу и его же законам.
























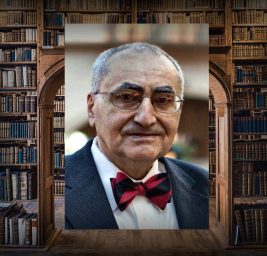








1 –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π
–ê–Ω–∞—Ç–æ–ª–∏–π –ö–∞–∑–∞–∫–æ–≤
08.09.2020–•—Ä–∞–Ω–∏ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å –Ω–∞—à–∏—Ö –º–∞–º…