Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского
- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе
- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ
- Саша Чёрный. Страшный мир
- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ
Объекты цивилизации: сурок и поэзия нежности
28.07.2022
Согласно Сергею Аверинцеву, «основанная греками и принятая их наследниками поэтика „общего места“ — поэтика, поставившая себя под знак риторики». О, эта основа, её греческая полнота и власть! Её окрыляющая высь. Её возвышающая плоть! Её общность, перетёкшая в нас, заставляющая находится в рамках, в материнском чреве её, в околоплодных водах.
Как перегрызть пуповину, вырваться наружу?
Это подвластно лишь поэтам атмосферы, таким как Стефания Данилова! Она может среди стужи выбежать из дома и не замёрзнуть. Может сорваться из уюта и поехать на такси. Она может многое. И поэтика, как жанр, вмещает личное, возвышенное, окружающее и внутреннее пространство. Поэзия, как ремесло, в нашем 21 веке не прогрессивно, оно регрессивно. И лишь, как вопль души – поэзия безремеслена и наивна одновременно в своей мудрости и сказочности.
Итак, общие признаки, начнём с них:
«Петербургский поэт и культуртрегер. Публикуется в журналах «Юность», «Дружба Народов», «Полутона» ,«Бельские просторы», «Север», «Аврора», «Перископ», «Дон Новый», «Дети Ра», «Зинзивер» и др. Участница семинаров Международного форума молодых писателей РФ и СНГ, «Мы выросли в России», АСПИ, Школ СЗФО, «Курсов Курской». Критик в команде Pechorin.net. Спикер, эксперт и судья федеральных фестивалей и конкурсов. Лауреат премий «Северная звезда», «Пушкин и XXI век», победитель международного слэма Д. Рубина «Metaverse» и семинара «Мы выросли в России». Автор 20 книг, выходивших в АСТ, РиполКлассик, Пальмире, Издательстве МВГ. Организатор фестиваля «Всемирный день поэзии» и «Всероссийского поэтического акселератора ВПрофессии».
А ещё невообразимая, безупречная поэзия, от которой сходишь с ума!
«завидую знавшим тебя в семнадцать.
им были стихи и смех.
мне так не хочется взять — и сдаться.
я тоже не хуже всех — тех, с кем была или не была ты, горели о ком глаза.
ты не притронулась даже к латте,
что я тебе заказал.
кто ты?
за что мне такая плата —
словно пустой вокзал
эта кафешка с прекрасным видом, вышедшим из кино:
город здесь сам себе служит гидом.
но ты не глядишь в окно.
да, без обид, но… мы безобидно встречаемся, и давно.
что я увидел за это время?
что о тебе узнал?
дело здесь не в тональном креме.
не в недостатке сна. видел усталых.
и, знаешь, лица — их — излучали свет.
свет, понимаешь, такая птица:
случается, либо нет.
мне выпадает холодный белый цвет твоей темноты.
ты ведь горела. перегорела?
с виду — все та же ты.
больше не пишешь влюблённых строчек.
больше не лезешь в кадр.
больше не ставишь кровавый прочерк
лезвием на руках.
больше не бегаешь на концерты
тех заводных ребят.
крыши? романтика? и эт сэтэра…
больше не про тебя.
ты безразлично листаешь профили
(были когда-то же Мефистофели…),
пили когда-то — вино ли, кофе ли?
искренне, за двоих.
ты вырастаешь из старой кожи,
всё без эмоций теперь итожа.
мне больно думать, что я же…тоже
мог быть одним из них.
мог бы в горящих глазах сниматься.
больно. и я смеюсь.
завидую знавшим тебя в семнадцать.
и, все-таки… остаюсь.
неоспоренность идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в нормативистской теории (τέχνη) – ибо каждый стих Стефании – это некий код, тайны которого она раскрывает через схоластику, отметая общие места нетерминологически, а синонимически.
Но обратимся к топосам. Топика в латинской традиции связывалась скорее с содержанием, чем с выражением, и была наиболее подвижной её частью, гораздо легче других поддающейся разного рода транспозициям. В этой области «классическая» традиция отделялась от традиций на народном языке не столько границей, сколько широкой промежуточной зоной.
Сегодня шла по Фонтанке, вмерзшей в себя саму.
А мысли мои тонули в черемуховом дыму,
подсовывали мне кадры из прошлого — на, гляди!
Все это во мне. Всё это. Всё это — не позади.
Мне незачем обернуться. Я знаю, что за спиной
мост имени человека, которого нет со мной,
почти как слоновьи ноги — четыре больших трубы.
И даже если ослепну, все это продолжит быть.
Я с прошлого лета где-то замёрзшей рекой иду.
И это мой пеший танец на солнцем залитом льду.
А смерть моя, если надо, пожалуйста, под ногой —
удар посильней — и вот он, какой-то там мир другой,
где те же слоновьи ноги. И тот же проклятый мост,
где мы стоим на общей фото не в полный рост,
и сброшенный с безымянных бесцветный металлолом —
сегодня все стало детским секретиком под стеклом.
Ни кома, ни амнезия, ни время, ни слепота
не сбросят два силуэта в ладони реки с моста.
Пройду мимо них — и точка. И дело бы да с концом,
но страшно встречать в прохожей кого-то с моим лицом.
Это топос в чистом виде, который встречается редко и многомерно:
топосы это природные явления,
топомы это выражение чувств дружбы, любви, осознание быстротечности времени, это оценки: хвала, восхищение, утешение.
Есть топосы поведения, характерного для отдельных людей или групп.
Топосы, имеющие наиболее прочные корни в практике латинской словесности, возникают в определённых узловых моментах произведения, главным образом в заключении и особенно в зачине: таковы, например, формула скромности, объявление о неслыханных прежде вещах, жалобы на безумные времена и упадок нравов.
Топосы заняли особое место в исследованиях медиевистов потому, что они стали объектом теоретического осмысления со стороны авторов, и это в огромном фундаментальном у Стефании:
У моря простёрся город, и имя ему — Печаль.
Пейзаж горизонтом вспорот, пустынен его причал.
Маяк чуть повыше пирса, по крышу стоял в пыли.
Смотритель сто лет как спился, а нового не нашли.
Плакучие кипарисы — из них ни один не цвёл.
Я, кажется, в нём родился и молодость в нем провёл.
Здесь, в хижине обветшалой, с рассыпавшейся золой.
И что-то в груди мешало, как будто бы в путь звало
за тысячу миль отсюда, все выше и выше от
печали и ближе к чуду. И город остался под
истерзанными ногами. И были шаги наверх.
Я не был знаком с богами, но слышал их странный смех:
не то чтобы очень добрый, не то чтобы очень злой.
Сменилась Печаль задором и высохла с глаз долой.
В горах распускался город, и имя ему — Любовь.
Богач, хромоногий, гордый — туда мог попасть любой.
Магнолии в нём и пихты, терновник и девясил.
И город любил таких, кто весь город в себе носил,
кто полон был им по горло, брусчатку считал за шёлк.
Мне нравится в нем погода. Зачем я сюда пришёл?
Не знал я на то ответа, но, кажется, город знал.
За мной, не теряя следа, шла солнечная весна,
и лето детьми скакало по классикам на ветру.
Всё это меня пугало. Я думал, что я умру.
Мне все открывались двери, все звали меня домой,
я чувствовал, что не верю, что я поражён чумой.
Мерещились все врагами, не знавшие про Печаль.
Я поговорил с богами, и каждый в ответ молчал.
Я снова вернулся в город, который меня создал.
Какие мои-то годы, какая моя звезда?
Печаль у меня на сердце, печаль у меня в душе.
Мы с нею играли с детства, мы дружим сто лет уже.
Глаза мои излучали печальную благодать.
Я — выходец из Печали, и смысл ее покидать?
С Любви приходили письма, посылки, варенье, мёд.
Я не был от них зависим: печальный меня поймёт.
Предстал предо мною выбор: что мне им в ответ писать,
и я надписал, что выбыл из города адресат.
Легко носить крест печали, когда она так легка.
Я стал пребывать ночами смотрителем маяка.
У моря я ждал погоды, а море со мной вдвоём.
У моря простёрся город.
И имя его — моё.
ЭТО МНОГОУРОВНЕВЫЙ хронос
как редчайший металл, как алмаз.
Яркий концепт
мир сосредоточен и внезапен!
В ПОЛУТОНАХ ПОДАН демос
Моя Любовь говорит негромко. Но слышен стекольный звон.
Она привыкла стоять в сторонке, когда её гонят вон.
Она не плачет в рукав, когда на неё орёт адресат.
По самым наипоследним данным, она не пойдёт назад,
как бы ни гнали её оттуда, где она видит Дом.
Моя Любовь говорит: «Не буду откладывать на потом».
Она отпивает из всех бутылок, поэтому так честна.
За ней след в след и дыша в затылок, вступает в права Весна.
Моя Надежда, как дошколёнок, не пишет ещё слова.
Она в зелёном для всех влюблённых пребудет всегда жива.
Ее забрасывали камнями тысячи тысяч лет,
в ночи бежали за ней с огнями, и все потеряли след.
Из всех возможных горячих точек натравливали собак,
собаки их растерзали в клочья с улыбкою на зубах.
Пойдет, конечно, за ней по следу ещё не один злодей.
Моя Надежда умрёт последней, последней из всех людей.
А Вера крепче меня в три раза и старше своих сестёр.
У Веры три разноцветных глаза и каждый из них остёр.
Она вытаскивает меня из всей моей черноты.
Когда мои взгляды на жизнь менялись и были глаза пусты,
когда голоса заменяло эхо, страшнейшее на Земле,
молчало всё — от стиха до смеха, от первого до после…
Когда сказавший, что время лечит, мне, оказалось, врёт,
то Вера взваливала на плечи меня и несла вперёд.
Моя Любовь не придёт, наверно… Она на краю Земли.
Я вновь лежу на плече у Веры.
Надежда стоит вдали.
Ее зелёное платье флагом вздымается на ветру.
Сегодня я зарекаюсь плакать.
Сегодня я не умру.
Сегодня будет длиною в Вечность. Вчерашнему — поделом.
Нам не страшна никакая нечисть, ждущая за углом.
Любовь идёт ко мне отовсюду, со всех четырёх сторон,
в пустых ладонях сверкает Чудо.
Мы справимся вчетвером.
ИСКРЕННИЙ ВЕЧЕРНИЙ плутос
совершенно маленький и распластанный с симбиотике.
Но топос, топос – эти синие линии, плавный полёт, розовый интервал, и море, море образов!
покажи мне то время, где я сильней, чем сейчас.
это сто сигаретных пачек тому назад,
это два институтских курса и школы часть,
это те, еще не подкрашенные, глаза.
покажи мне то время, где я еще не люблю
никого, кроме мамы и палевого кота,
где часов по двенадцать дома стабильно сплю,
это детское время без «если» и без «когда».
покажи мне то время, когда мне тринадцать лет,
и четверки мои — наивысшая из проблем,
я не думаю о парнях, о добре и зле,
и не еду грехи замаливать в вифлеем.
покажи мне то время, где я не авторитет,
где не нужно рубить младенцев и жечь костры,
где еще не даю в долг, не беру в кредит,
где слова мои еще не совсем остры.
покажи мне то время, где я выхожу гулять
и на старых качелях лечу до любых планет.
где еще после каждого слова не ставлю «..ять».
где вопросов жизни и смерти ни капли нет.
покажи мне то время, когда я живу игрой,
не дежурной улыбкой, ненависть затаив,
и друзья еще умеют стоять горой,
и когда это все, что у них на меня стоит.
покажи мне то время, где под ноги не смотрю,
где только родители вправе прижать к груди,
где крысы тащат сырные крошки в трюм,
и я не знаю, что ждет меня впереди.
Острота мышления, заточенность на определённую цель, выход в запределье…
Образы, как изумруд и сапфир!
Существуют на свете пары — огонь и лёд.
Битых чашек осколки и кольца летят в окно,
А они обратно сор в избу несут со двора
Раз привыкли скандалить на публику, напоказ,
половинки моста в реку навек врастут.
А пока все продолжается так как есть,
в Петербурге стоять известнейшему мосту.
Это тот самый сор, из которого по-Ахматовски растут стихи, мифология, коды, священные руны, молитвенные камни Стефании.
И немного личного:
ОТ себя!
Желаю, как я желаю – огромного и вселенского признания. За-вселенского! Выше-вселенского! Через-вселенеское! Солнца, солнца! Лун!
Ибо каждое слово – наотмашь, в грудь!
Светлана Леонтьева
гл. редактор альманаха «Третья столица»
фото взято из открытых источников
























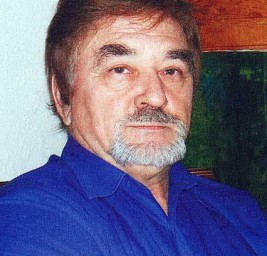





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ