Новое
- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Лариса Есина. «Марта и Марат». Рассказ
- Елена Сомова. «Вычитание влаги». Сатирико-философское эссе
- Лексика отопления
- Сценарист фильма «Мастер и Маргарита» Роман Кантор – о пространстве вдохновения
- «Пироскаф» Е. Баратынского
О тексте, интерпретации, интересах
30.09.2024
В интервью Нина Феликсовна Щербак, кандидат филологических наук и доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ, делится своими взглядами на литературу, искусство и жизнь. Беседа охватывает широкий круг тем: от классики до современного метамодернизма, от Тургенева до Цветаевой.
Нина Феликсовна рассматривает связи между текстом, его интерпретацией и человеческим опытом, а также анализирует изменение ценностей в искусстве и обществе. Особое внимание уделяется роли творчества в современном мире.
Это интервью будет интересно как специалистам в области литературы и культурологии, так и широкому кругу читателей, интересующихся культурными процессами.
— Что Вы считаете в жизни самым интересным и почему?
Это ужасно, но я считаю в жизни самым интересным творческую работу. Мне кажется, что нет ничего интереснее. Другая реальность позволяет творить чудеса. Это относится и к преподавательскому работе, и к книгам, и к лекциям, и к онлайн курсам.
— Расскажите о Ваших любимых книгах.
Я затрудняюсь назвать все. Мне кажется, что самые любимые книги это те, которые оказали такое влияние, что захотелось следовать их канве в жизни. Хотя, по большому счету, копировать книги в жизни — очень наивная идея, из прошлого. Но в некотором смысле, если идеал хороший и достойный, то подобная практика превращается в воспитание, и правильного воспитания. Из многих книг я бы назвала, например, «Мелкого беса» Федора Сологуба, романы Ивана Тургенева, повесть «Петербург» Андрея Белого, «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой, рассказы Стефана Цвейга, роман Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед».
— Почему именно такой выбор?
Литературный выбор часто диктуется чисто субъективными ощущениями. Мы же не всегда знаем, почему нам нравится та или иная музыка? И очень важно, как и кто рассказывает Вам об этих книгах. Я, конечно, всегда старалась проживать книги, пытаться ощутить их, но это не всегда уместно. Каждое произведение нельзя прожить, но какие-то вещи остаются в сознании.
— Вы имеете в виду русскую классику?
Мне кажется, что русское самосознание воспитано во многом русской классикой. Идея «тургеневской девушки», и так далее. Это идеал, который закладывается в раннем возрасте. Письма Татьяны Лариной, или бедная Лиза Карамзина… Поэтому Иван Тургенев для меня – это автор, который создал идеализированное представление о жизни, слишком надломленное, тем не менее, мною очень любимое. Тургенев ведь, насколько я знаю, был сам в положении человека глубоко несчастного и постоянно безнадежно влюбленного. Я всегда вспоминаю, как посещала под Парижем поместье Буживаль, куда он последовал за Полиной Виардо. Туда, где он жил в квартире, болел и радовался только тому, что слушал, как эта оперная дива ходила по своей квартире наверху, совсем близко от него. То есть, в некотором смысле, получается, что литература нас формирует, а потом это формирование – заканчивается, когда Вы понимаете, что текст был продиктован собственной жизнью автора, собственными травмами. При всем при этом, не любить потом эти произведения очень сложно.
— Вы говорили о Чехове?
Я недавно перечитывала не только Тургенева, но и Чехова. Меня поражает до какой степени потрясающей становится его недоговоренность, мизансцены, нестыковки, молчание, нервность, оборванные струны. Чехов настолько инноватор, экспериментатор и ценитель жизни, что становится жутко и страшно, и удивительно прекрасно от одной мысли, что Вы погружаетесь в это русское ощущение жизни, без надежды, и все равно с какой-то сиюминутной возможностью выживания.
Английская литература, вернее, литературоведение, позволю себе сказать, иногда в этом плане идет несколько впереди. Там стараются заглянуть вглубь текста, ощутить его потайные коды. Например, в направлении постколониальная литература есть такая тенденция – развенчивать старые идеалы. Идеалы стагнации и стереотипов. Если для XIX века считалось, что в романе «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте особый интерес представляет собой Джейн с ее бесконечной любовью к мистеру Рочестеру, рыцарю и кумиру, то в романах постколониальной литературы, возникает такая фигура как автор Джоан Рис, которая пишет роман «Широкое Саргассово море». В этом романе история рассказывается от лица первой жены мистера Рочестера, креолки, которую автор Шарлотта Бронте в известном романе XIX века – сожгла на чердаке. Новый роман – это история становления юной креолки, а не белого британского колонизатора, ее собственная судьба, вне колониальной зависимости, собственная идентичность.
Если под этим углом посмотреть на русскую классику, возникнет огромное количество вопросов, которые очень болезненно обсуждать. К примеру, с точки зрения психоанализа классики литературы все попадают под определенные комплексы. И даже Пушкин – под комплекс кастрации, то есть страха. Этот страх – как считают литературоведы психоаналитического направления, диктует паттерны поведения, расстройства, безнадежности, томления, которые могут возникать в произведениях русских авторов. Пушкин, конечно, совершенный гений, светлый гений, поэтому дело не в комплексе, а в том, что подобная неуверенность в себе в общем-то характерна для русского человека. И с этим не то, что нужно бороться, но принять это, понять, может быть, внести коррективы.
Или другой пример. Русские символисты. Такие удивительно красивые, чудесные стихи. Когда вы смотрите психоаналитическую трактовку, вы видите, что им присвоен термин «истерия», то есть в некотором смысле – преследование несуществующего идеала. Подобный «приговор» нисколько не снижает красоты поэзии Блока или Цветаевой, но дает определенные ответы, следует ли этим идеям следовать в жизни.
— А Марина Цветаева?
О Цветаевой мне сложно говорить, потому что ее поэзия – настолько сильно отличается от любой другой, настолько пронизывающе гениальна и сильна, что в общем-то ей и правда – нет равных. Ее Иосиф Бродский выделяет среди четырех золотых имен мировых поэтов. Тем не менее, в процессе представления этой поэзии складывается определенный паттерн поведения, который может не то, что навредить, но принести очень большие страдания. Умный человек это хорошо понимает. При всем при этом, когда я читаю «Повесть о Сонечке», или даже смотрю художественный фильм о Цветаевой, конечно, не попасть под ее очарование и губительную силу очень сложно.
Культура, таким образом, насколько спасает, настолько она может быть губительна.
— А современный мета-модерн?
Да. Именно поэтому в современную эпоху возникает мета-модерн. Это искусство – новое, наивное, приземленное, якобы искреннее. Это смесь комиксов и ностальгии, постоянное раскачивание от серьезного к ироничному, и обратно. При всем при этом, только такой паттерн неоромантики и неореализма дает возможность выживания.
Вот почему наше молодое поколение более приземленное? Скорее всего из-за того, что им удается не пользоваться романтической амплитудой чувств, они более практичны. Яркий пример этого – роман моего любимого писателя Э. Лу «Во власти женщины». Э. Лу – норвежский писатель, который пишет «обвязками», как сценарист. Он пишет обвязками и создает в тексте сцены. Но история его любви-словно приземлена. Он, например, когда рассказывает о своей подруге Марианне, пишет весьма «неромантичные вещи», хотя чувств у него море. Долго рассказывает, как Марианна выбирает красное вино, и как она просит его комментировать вкус этого вина. Он, будучи мужчиной сдержанным, как все скандинавы, не знает, что делать. Поэтому – начинает давать односложные комментарии. Марианна требует большего! Наконец, наш герой вынужден сказать, что это дерзкое вино, как уверенный в себе, нормальный мужчина просто поддакивает женщине, только бы она успокоилась. Но Марианна, не замолкая, требует еще дополнительных эпитетов. В этой борьбе и попытке понять друг друга – мужчине и женщине – много от современного положения вещей, когда личное взаимодействие становится главенствующим.
Другой яркий эпизод Э. Лу вот такой. Герой просыпается ночью и говорит, что плачет от любви, а когда встречает Марианну с новым парнем, бросает только единственную фразу: «Встретил ее с компьютерщиком. Он мне не понравился». Вместо того, чтобы, как в былые времена, набить ему физиономию. То есть вся амплитуда чувств снижена.
Мета-модерн действует в искусстве потому, что он приходит на смену прошлым эстетическим ценностям, но в искусстве всегда действуют такие понятия как гибридность и амбивалентность.
— А Стефан Цвейг?
Это все авторы прошлых поколений, это очень сильная романтизированная проза. Она романтизирована идеей абсолютов. Стефан Цвейг переживал колоссальные трагедии в своей жизни, уехал в конце жизни с женой в Америку, потом в Бразилию, где покончил жизнь самоубийством. Тем не менее, его проза – это своего рода эталон истории чувств, в общем-то ушедших из повседневности, относящиеся к военному времени, совсем к другой эпохе.
— А когда наступила эта эпоха перелома?
После Второй мировой войны в Европе поменялись ценности. Они очень сильно поменялись, потому что после Второй мировой войны нельзя было говорить о жизни и любви, как было до Войны. После страшной трагедии, которая обрушилась на Европу, художники, музыканты, поэты изобретали совершенно иные методы и способы жизни своих произведений. Была заново построена система ценностей в искусстве, заново сформирована. В Америке были такие писатели как Теннесси Уильямс, который написал «Трамвай «желание»», в котором словно воочию мы увидели, как образы прошлого в лице Бланш Дюбуа (в одноименном фильме играла замечательная актриса Вивьен Ли) – гибнут. Героиня попадает в сумасшедший дом, не в состоянии вынести, что ее идеалы рухнули. Перья, кинематограф, влюбленности – рушится все. На смену приходит ценность в виде грубости, насилия и животной машины, в лице главного героя. Вот такие перемены.
Как это было отразить в искусстве? В искусстве появляются совершенно иные формы воздействия, новые формы жизни, которые рушат старые стереотипы.
— Например?
Например, появляется понятие «новая музыка». Новая музыка рушит привычные схемы. Я заимствовала понятие новой музыки у музыкантов, своих лучших и дорогих друзей. Там возникает целый ряд удивительных инноваций, которыми художники и музыканты пользуются. Они пользуются тем, что форма произведения претерпевает изменения. Появляются, например, понятия мультипликации, аккумуляции – они становятся важнее привычной репрезентации. То есть произведения искусства коренным образом трансформируются.
— И?
Современный автор пытается все примирить. Оппозиция — парадигма прошлых времен. Музыканты всегда пытались все примирить, но послевоенное время диктовало совершенно иные условия. Поэтому, кстати, в постколониальной теории литературы появляются понятия гибридности и амбивалентности. Это ближе к истине. Нет жестких оппозиций. Нет привычных схем. Если изображена ярках сцена на картинке – она не связана совсем с этическими нормами. Это форма воздействия. Искусство должно ранить – вот лозунг послевоенного времени. Поэтому меняются и механизмы восприятия.
— А текст?
Любой текст претерпевает ре-интерпретацию. Каждый раз при чтении текст высвечивает для читателя новые значения. Есть такие еще «зоны не-комфорта» в психоанализе. Эти «зоны не-комфорта» — слова и мотивы, которые задевают при чтении. Своеобразные «зеркала» психики, которые говорят, где находятся зоны травмирования у читающего. Так вот, если хоть какая-то идея, или слово, или логика не нравится, это часто не объективное знание, а субъективное. Можно задуматься – почему не нравится.
А правильный подход – стараться во всем видеть хорошее, в любой ситуации, в любом тексте. Отстраняться от него. Проживать книги можно и нужно иногда, но не до степени потери сознания. Отстранение позволяет оценить ситуацию более здраво, сделать выводы в отношении будущего.



















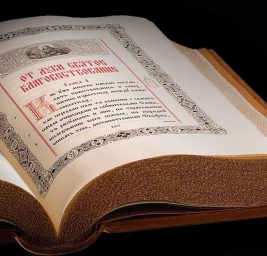













НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ