Ляман Багирова. «Ночные цветы». Рассказ
15.10.2024
/
Редакция

Белые, бледные, нежно-душистые,
Грезят ночные цветы,
С лаской безмолвной лучи серебристые
Шлёт им луна с высоты.
Силой волшебною, силой чудесною
Эти цветы расцвели,
В них сочетались с отрадой небесною
Грешные чары земли.
Слова из романса «Ночные цветы»
– И кто у нас осчастливил мир своим визитом сегодня? Моя жена! Это тебе!
На скатерть лег букет роз. Белая скатерть, тяжелые, алые розы…
Летнее утро пробивалось сквозь льняные занавески, золотило край стола и выгнутую спинку дивана. Утро обещало хороший день.
Еще не открывая глаз, Гутя улыбнулась. Все было так, как она любит: поцелуй мужа, манящие запахи из кухни (ах, ты мой умелец-кулинар! Всегда побалует жену вкусным завтраком), крахмальное постельное белье, ласковое солнце августа.
Это был ее месяц, царственный, неповторимый август, в честь которого когда-то назвали ее, Августу Валерьевну Литову.
Правда, солидным полным именем ее никто кроме коллег не называл. Для родных, друзей соседей она была просто Гутя, Гутечка, Гутарчик или даже Гуттаперчик – дань невероятной худобе и гибкости. С годами и того, и другого поубавилось, но остались три бесценных богатства: изумительная легкость на подъем, мгновенная готовность к сочувствию и потрясающее умение рассеять тьму вокруг себя. В ее присутствии растворялось все дурное: больные фантазии, призраки, страхи, лишняя тревога и беспокойство. Предметы, мысли и чувства становились простыми, понятными и родными, словно обретали первозданную чистоту и трогательность. Муж иногда звал ее Гутя-лампочка, или Гутя-полдень.
– Да почему я – полдень? – недоумевала Гутя, – вроде бы в пять утра родилась.
– Потому что, – Сергей брал глубокомысленную театральную паузу, и поднимал вверх указательный палец, – потому что … тени исчезают в полдень!
– Домашний философ, – смеялась Гутя, но радостно ей было, что самый близкий человек так верно угадал ее главную черту – нести свет. Она хорошо помнила, как на каком-то застолье муж произнес тост:
– Я хочу поднять этот бокал за свою супругу, за ее золотое сердце и золотые руки. Но больше всего я хочу выпить за ее силу. Когда она рядом, все спокойно, просто и надежно. Ну, а если она вдруг увидит динозавра, то можно быть уверенным, что это реальный динозавр, а не плод собственных фантазий или страхов. Но, к счастью, никаких динозавров она не видит, не реальных, ни придуманных, они рядом с ней появиться бы не посмели! – последние слова утонули в смехе гостей.
– Перехвалил меня, – ворчала Гутя перед сном, – еще подумают, что женой хвастаешься.
– Ничего ты не понимаешь, – возражал муж. – Тост – это маленькая молитва, это концентрированная энергия добра, направленная на что-то конкретное. Или кого-то. Почему говорят: тостуемый пьет до дна? Потому что в кратком тосте он получает столько энергии, что ее непременно надо запить как таблетку, чтобы она растворилась, стала частью тебя и пошла на пользу.
– Философ! Недаром кандидат философских наук! – улыбалась Гутя, и рука ее ложилась на плечо мужа. – Так бы век тебя и слушала.
– Да? – оживлялся Сергей, и плечи его медленно расправлялись, а на губах появлялась наивно-самодовольная улыбка.
– И ребенок, – прибавляла тихо Гутя. – Милый мой ребенок. Хлебом не корми – только похвали!
Она улыбалась сквозь дрему. Из кухни доносились легкий стук, скворчание, пыхтение и бульканье. Судя по всему, задумано было нечто сверхизысканное.
– Ты что?! Кто тебе разрешил на постель лезть?!
Гутя вздрогнула и резко села. На нее умильно смотрели два круглых черных глаза. Крахмальная розовая простыня украсилась отпечатками четырех лап. Лушка… Любимая болонка. Их утешение, любовь и нежность.
Она появилась в их доме вовремя. И мгновенно заполнила своим крохотным кудрявым тельцем странную пустоту, которая возникла, когда выросли не только дети, но и внуки. В ней было что-то недоброе, в этой пустоте, и дом, привыкший к постоянному и многоголосному шуму, гаму и смеху, в одночасье затих и словно испугался своей тишины. И супруги, безмерно устававшие от невообразимого гвалта и мечтавшие о покое, вдруг, не сговариваясь, приняли решение: нам нужен питомец, нужен немедленно, сейчас! И пусть это будет собака. С ней надо гулять два раза в день, она требует к себе внимания, она менее самодостаточна, чем кот, а, значит, заполнит собой эту непонятную и недобрую тоску, окатывающую сердце.
И Лушка справилась! Глазастому и голосистому комочку шерсти оказалось подвластно то, с чем ни справлялись ни любимые книги, ни верные, но старые друзья, ни вечно спешащие и занятые отпрыски. Ах, Лушка, Лушка… Ты и сама не знаешь, что ты значишь для нас…
– Но сейчас тебе точно достанется! Свежее белье, а ты пыльными лапами! Спрыгни немедленно! Ой, ой!
Лушка, обидевшись, что ее искреннее поздравление не оценили, подпрыгнула. Описав в воздухе дугу, приземлилась на стол, боднула букет и поддела когтем атласную ленту-перевязку. Та соскользнула и растрепалась, но Лушке этого оказалось мало. Разметав розы по столу, она удовлетворенно тявкнула и умчалась на собственную лежанку.
–Ах, негодяйка! – беззлобно протянула Гутя, взглянув на стол. И замерла на пороге гостиной…
Алые розы на белой скатерти…
Алое на белом…
***
… Ах, какие звезды над их городом, чудо, а не звезды! Каждая как наливное яблоко. Так и хочется Гуте надкусить их, чтобы брызнули звездным соком! Но не дотянешься. Задирает головенку Гутя, а звезды-яблоки дразнят, висят на низком черном небе, не падают…
– Не высовывайся в окно, Гутя, упадешь. Кому сказала? – в голосе мамы нехорошие нотки. Сейчас влетит Гуте по первое число. И все-таки это самый родной в мире, уставший, строгий мамин голос.
– Мама, а у нас всегда такие звезды? А они везде? – Гутя подходит к маме.
– На себя посмотри. Как ты растрепалась! Сорванец, а не девочка. Принеси гребешок.
– Не надоооо! – Этого пыточного деревянного зубастого орудия трехлетняя Гутя боится как огня.
– Надо! А то ночью волосы спутаются, и завтра будешь лохматая как Бобик. Но он собака, с него не спросится, а на тебя пальцем во дворе будут показывать: «Смотрите, какая неряха идет. Еще и меня заругают, скажут: тетя Марина за дочкой не смотрит. Ты этого хочешь?»
Этого Гутя, конечно, не хочет. Беспородный шестимесячный Бобик недовольно трясет ухом. По его мнению, он не лохматый, а солидный, уважающий себя пес средней пушистости.
Мамина рука легко водит гребешком по Гутиным волосам, пока они не превращаются в сплошной золотой поток.
– Красавица моя! Как шелк золотой волосы, – улыбается мама.
– Как у тебя? – голос Гути требовательно-настойчив. Самое лучшее может быть только у ее мамы, а раз Гутя ее дочь – то, значит, у нее должно быть все мамино. Хотя, волосы у мамы совсем белые. Но это ничего, у Гути тоже будут такие!
– Нет, доченька, как у папы, – шепчет мама и почему-то смотрит на звезды. А они, бесстыжие, так и манят, так и дразнят наливным своим звездным соком…
Но Гутя не слышит маминого шепота и не чувствует, как мама относит ее в кровать. Гутя уже спит сладким детским сном.
***
– Мама, а почему мы уехали из нашего города? – Семнадцатилетняя Гутя теребила синюю ленту в косе. – У нас ведь был такой красивый дом, рядом была речка, горы, лес, а какие звезды! Я помню! Зачем нужно было переезжать в эти цементные джунгли и ютиться втроем в однокомнатной квартире на окраине? Здесь из окон только ржавые трубы видны!
– Потому что, эти трубы и этот цемент милее мне тех звезд. – Гутя впервые услышала мамин голос таким хриплым. – Потому что они и забрали твоего отца. Тоже все повторял, что нигде нет таких ярких звезд, как в его родном городе. Восторгался ими, цветами ночи называл…
– Что?!
– Сядь. Ты спросила – я отвечу. В конце концов, ты имеешь право знать.
***

Мы встретились до войны, а поженились уже после нее. До войны у него были золотые легкие кудри, точно как твои, а у меня были длинные каштановые волосы. После войны, и у меня, и у него волосы стали почти белыми, а нам было всего по двадцать шесть лет. Все как в стихотворении Рождественского: «Видно, много белой краски у войны».
До войны это был здоровый парень, широкоплечий, румяный, имел первый разряд по плаванию. После войны вернулся с туберкулезом, худой, бледный, но крепкий, словно из одних жил сотканный. Никому в обиду не давал: ни себя, ни меня.
Поженились мы, и нам от завода выделили комнату в общежитии. Ее я сама обустраивала, мебель, утварь нехитрую расставляла. Отцу категорически запретили тяжести поднимать. Не больше полкилограмма, да и то недолго. От малейшего напряжения могла хлынуть горлом кровь.
Жили мы небогато, конечно. Помощи никакой, родители в войну погибли. Но потихоньку пошел на поправку, даже на щеках румянец появился. Хотя, может быть, это туберкулез марафет ему наводил…
Мать замолчала… Потом, словно очнувшись, заметила:
– Зиму очень любил. Говорил, что зимой звезды особенно яркие, и свет их отражается на снегу.
Я уже тебя носила. Отец радовался, сына ждал, сам купил ванночку, кроватку смастерил, коляску разрисовал голубыми цветами.
В тот год зима затянулась. Двадцать третьего марта выпал снег, какого не было в последние десять лет. Помнишь наш дом?
Гутя, вся превратившаяся в слух, едва моргнула.
– Дорожку, которая вела от калитки к крыльцу? Так вот вся она стала снежным туннелем. Снега навалило так много, что пришлось лопатой прорубать проход. Дорожка и без того была довольно длинная. А тут получилось что-то вроде узкого туннеля со снежными стенами. Но, по крайней мере, хоть из ворот можно было выйти: на улице-то уже дворники расчищали.
Устали мы страшно. Отца я к лопате не допускала, но он все равно бросался мне помогать, Справились как-то, но тяжело пришлось очень. К счастью, такого снегопада уже не было. Но март в наших краях – коварный месяц.
И тут как на грех, сообщили мне, что от завода нам, как молодой семье, ожидающей прибавления, выделен мешок картошки. Радость, конечно.
Оделись мы с отцом, и пошли по этому туннелю как две матрешки. Он в своей военной шинели, и сверху я его еще широким вязаным шарфом обмотала, чтобы не простыл, и я – пальто, пуховая шаль под ним, на голове беличья шапка, а поверх нее ковровый платок. Все кроме пальто – подарки отца. Баловал меня…
Потащили мы нашу картошку, трюх-трюх, к автобусу, потом выволокли мешок и к дому. Тащила я больше, а отец шел сзади, подталкивал ногой и губы у него были сведенными в ниточку и совсем белыми – так ему было больно, что не может мне помочь. А кого на помощь позовешь? После войны все по своему горе мыкали. Мне еще повезло, у меня муж рядом, а другие надрывались одни…
И вот дошли мы до дома. Друг друга подбадриваем: еще шажочек, еще немного – и уже дома, картошки наварим, дома соленые огурцы есть, масло, пирушку устроим, чаю потом напьемся вдоволь.
А туннель узкий как гроб. Вдвоем никак не пройти. Только поднять мешок и идти – один впереди, другой за ним. Тогда Валерочка скинул шапку и говорит: «Не могу. Что хочешь делай, но не допущу, чтобы беременная женщина мешки таскала. Поднял груз и пошел вперед. Я за ним.
Прошел полдороги, положил мешок на землю, сказал: «Сейчас, чуть отдохну, и пойдем дальше».
Я осторожно обошла его и стала подталкивать мешок ногой, понемногу продвигаться вперед. И вдруг слышу за спиной странный звук. Так журавли порой кричат: «Гурлык, гурлык».
Обернулась и вижу: стоит твой отец, шинель нараспашку, шарф на земле, голова опущена, руками уперся в снежную стену, а на нее кровь хлещет… Легочное кровотечение. Нельзя ему было тяжесть поднимать, и мы вдвоем не сообразили, бросить этот проклятый мешок у калитки и понемногу картошку перетаскивать в дом. Все сразу сделать хотели. Вот и сделали…
Тогда мои волосы и стали совершенно белыми. Сколько буду жить – этой картины не забуду: узкий длинный туннель, снежная стена и алая кровь на ней.
Он прожил после этого три дня. Все жалел, что не увидит ребенка и просил, если родится мальчик назвать как его – Валерием. Говорил, что Валерий – означает «здоровый, сильный», и он сам был здоровым, если бы не война и туберкулез. А вот, что девочку можно назвать Валерией, мы как-то не подумали.
– А если девочка, тогда Августа. В августе родится, вот и пусть и будет Августой.
Так и назвала.
– Но… Но… А папа?..
– От завода мне пенсию выплачивали за отца. Соседи помогали, в ясли потом тебя отдала. Мир не без добрых людей. Ничего, прожили как-то.
Тебе было три года, когда я встретила того, кого ты называешь папой. И он достоин этого. И по иронии судьбы он тоже Валерий.
Поженились, он удочерил тебя, потом родился твой брат. Он никогда не различал детей, ты для него всегда была и остаешься первым ребенком, любимой дочерью.
Но первое, что я попросила сделать, когда мы поженились – уехать из этого дивного места. В трущобы, в подземелье, каменные джунгли, куда угодно, только, чтобы не оставаться среди этих гор, лесов, речек и звезд, которыми так восхищался твой отец. Я не могла больше их видеть. И когда мы перебрались сюда, то я готова была целовать ржавые трубы и благодарила Бога, что за ними не видно звезд.
— Мама, не плачь!
Но текут, льются слезы у той единственной, что вдохнула в Гутю жизнь…
***

– Ты есть идешь? Завтрак давно готов. Что случилось?
Сергей встревоженно смотрел на жену. Она так и стояла на пороге гостиной, глядя на рассыпанные по скатерти розы.
– Это кто у нас такая хулиганка? Лушка! Ты зачем красоту нарушила? Я так старался! – притворно-строгий голос обратился к болонке. Та довольно сопела на лежанке.
– Сейчас я их в вазу поставлю, не расстраивайся. Собака, что возьмешь…
– Нет, нет, я сама, – очнулась Гутя. И прибавила улыбнувшись:
– Что у нас?
– Блинчики с черничным джемом, паштет из куриной печени с орехами и пряностями, поджаренный хлеб, три вида сыров, виноград и кофе!
– Ты мой шеф-повар! Чудо!
Сергей горделиво развернул плечи.
– Идем завтракать, потом надо подумать, что подавать будем к вечеру, дети нагрянут.
– И друзья подгребут, – рассмеялась Гутя. – Пошли наслаждаться завтраком вдвоем.
– Р-р-р-р! – раздалось с лежанки.
– Простите, втроем! Лушка, к миске! Твой завтрак отдельно! Сейчас иду, только цветы в воду поставлю.
Гутя собрала цветы в хрустальную вазу, поставила на середину стола. Потом помедлила минуту, переставила вазу на тумбочку и застелила стол новой скатертью.
Синей, расшитой звездами…
























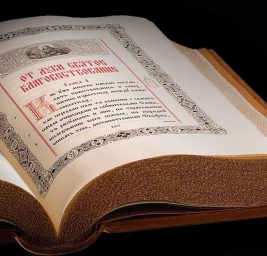








НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ