Культура чтения в произведениях М.Ю. Лермонтова
09.02.2025
/
Редакция

В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
М.Ю.Лермонтов, «Пророк»
В юбилейном для Михаила Юрьевича Лермонтова 2024 году в ставропольской Лермонтовке состоялись медленные чтения произведений классика русской литературы. Цикл проведен при участии научного сотрудника ИНИОН РАН, канд. филос. наук Ю.Ю. Черного и профессора СКФУ Л.И. Бронской. Встречи проходили два раза в месяц, в них приняли участие более 100 человек. В кругу медленного чтения были обсуждены роман «Герой нашего времени», поэмы «Демон» и «Мцыри», письма поэта. В октябре, в день 210-й годовщины со дня рождения классика, были подведены итоги работы, отмечены позитивные стороны методики и обозначены перспективы по дальнейшей работе в данном формате. Статья – итог рассуждений автора после кропотливого изучения лермонтовких текстов.
Чтение сегодня определяют по-разному. Это и вид речевой деятельности, который обеспечивает общение, и совокупность практик и процедур работы с письменным текстом, и специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов. А еще это одна из основных форм опосредованной коммуникации. Опосредованное общение с характерами лермонтовских персонажей точно характеризует отношение к чтению и книге в первой трети XIX века.
Согласно определению, «культура чтения – это комплекс навыков в работе с книгой, включающий осознанный выбор тематики, систематичность и последовательность чтения, а также умение находить нужную литературу с помощью библиографических пособий, пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, применять рациональные приемы, максимально усваивать и глубоко воспринимать прочитанное (тезирование, конспектирование, аннотирование, рецензирование и т. п.), бережно обращаться с произведениями печати» [1, С. 70].
Чаще всего литературное произведение не может существовать помимо своего носителя (пергамента, бумаги, монитора и пр.). Поэтому оно влияет на читателя не только своим содержанием, но особенностями этого носителя, его материальной фактурой. Читатель и, в частности, книга, создают особый парный симбиоз культурного взаимодействия. Так, чтение свитков в античном мире требовало участия обеих рук — читая, человек мог при этом диктовать, а вот писать — уже нет. Революционные изменения, вызванные появлением формата «кодекс», породили новые, невозможные прежде жесты: появилась возможность листать книгу, находить и цитировать какой-либо отрывок с помощью указателей-оглавлений, отсылающих к ее листам или страницам, отрываться от чтения, сравнивая различные фрагменты в одной и той же книге или в разных книгах, читаемых одновременно…
Лермонтов с малых лет много читал. Подтверждением тому является его домашняя библиотека. К сожалению, полностью она не сохранилась. После смерти внука бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева раздала книги друзьям поэта. Однако даже по остаткам некогда богатой библиотеки можно судить о разносторонних интересах Лермонтова. Как и все в те времена, он читал французскую литературу, а также немецких и английских писателей в оригинале. Любил он и русских писателей и поэтов. А вот «Откровение Иоанна Златоуста» сам поэт называл своей самой любимой книгой. Предпочитал сочинения Пушкина, баллады Жуковского, роман «Айвенго» Вальтера Скотта, «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Корсара» Байрона, балладу «Сказание о древнем мореходе» Кольриджа и др.
Естественно, навыки чтения, определенную его культуру, используя их в качестве своеобразного антуража, поэт передает своим персонажам. Исследуем несколько произведений поэта, в которых присутствует основа для анализа: поэму «Маскарад» (1835), стихотворения «Сашка» (1835-1836), «Боярин Орша» (1835-1836), поэму «Демон» (1829-1839), роман «Герой нашего времени» (1837-1839), не завершенное стихотворение «Сказка для детей» (1839-1840), стихотворение «Пророк» (1841).
В силу писательского дарования Михаил Юрьевич много и охотно наблюдал за юными девушками. Наблюдения получали выход в коротких, но ёмких строках. В неоконченной «Сказке для детей» девочка лет 14 проявляет себя так:
Она была стройна, но с каждым днем
С её лица сбегали жизни краски,
Задумчивей большие стали глазки;
Покинув книжку скучную, она
Охотнее садилась у окна,
И вдалеке мечты ее блуждали,
Пока ее играть не посылали. [7]
Княжну Мэри (второстепенный персонаж от 16 до 18 лет) находим в схожем положении: «Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза её, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко…» [3]. Обе персоны, будто вторая продолжает первую, демонстрирую явную апатию к чтению, да и сам автор снисходителен к их морали и интеллекту, хотя и без осуждения.
В нравственной поэме «Сашка» еще одна дама, волей поэта, невнимательна к прочитанному:
И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветр и день был на закате,
Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто, сев к окну,
Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и отливы,
Их мерный бег, их золотые гривы. [7]
«Французская книжка» весьма хара′ктерно демонстрирует отношение поэта к иностранной литературе, общо излучая ироническое пренебрежение.
Юные чтецы и чтецы, как говорится, «на возрасте» имеют у Лермонтова схожие мотивы к чтению или мысленному обращению к книжному источнику. Если юные девы читают от скуки, то в «Демоне» пожилого старика-сторожа на кладбище стимулирует испуг:
…Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать… [5]
Много и охотно читают в «Маскараде». Прочитав, рефлексируют. Чтение становится частью действия, от того, что прочитают персонажи, зависит развитие сюжета. Действующие лица настолько прорисованы, что каждый демонстрирует свою манеру общения с текстом. Баронесса, долго и нервно рассуждая о глобальных вопросах («зачем живем?») и изначальной жертвенности женщин, упоминает при этом писателя Жоржа Занда (привычное звучание «Жорж Санд», псевдоним Амандины Авроры Люсиль Дюпен) как хорошо известного и вычитанного ею автора и настолько сама себя накручивает, что, взяв в руки книгу, признается:
Нет, не могу читать… меня смутило
Все это размышленье, я боюсь
Его как недруга… и, вспомнив то, что было,
Сама себе еще дивлюсь. [5]
Арбенин, будто экстрасенс, обращается к князю Звездичу с провокацией и предложением развить умение обычного чтения до возможности «Читать на лицах чуть знакомых вам / Все побужденья мысли…» [5]. (Через шесть лет Лермонтов усилит этот мотив в «Пророке»: «В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока» [6]). Много сюжетных ходов связано с написанием и чтением записок. Арбенин пишет Звездичу, приглашая на вечер к N, Звездич пишет Нине, Арбенин читает это злосчастное письмо, решая, что женщина за маской была Нина, а не Баронесса и пр. Баронесса, сама внесшая достаточный негативный взнос в историю с браслетом и предстоящее преступление, предупреждает князя о неведении Нины, а также о неверной осведомленности и дурном настроении Арбенина после изучения записки:
Она
Не знает ничего… но муж… читал… ужасен
В любви и ненависти он —
Он был уж здесь… он вас убьет… он приучен
К злодейству… вы так молоды. [5]
И, что самое трогательное, перед смертью отравленная мужем и чувствующая предсмертный озноб Нина просит служанку:
Саша, дай мне книжку.
Как этот князь мне надоел опять-
А право, жаль безумного мальчишку! [5]
Насыщен рассуждениями о манере и своеобразной культуре чтения в обществе в первой трети XIX века роман «Герой нашего времени». Само предисловие уже и есть весьма сардоническое рассуждение Лермонтова на эту тему: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий» [3]. Лермонтов буквально обвиняет читателей романа в пренебрежении с предрассудком. Он сравнивает все написанное до него с неким поверхностным чтивом: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины» [3]. В этом он весьма физиологичен, поскольку сам был, по воспоминаниям близких, вполне всеяден за столом. Но, что касается интеллектуальных продуктов, он сторонник резкой и неприглядной реальности, что не мешает ему от души поиграть с читателем, оставляя за ним право делать выводы и моральную оценку персонажей: «Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар» [3].
Подобные рассуждения разоблачают и самого автора. Характеристика «порядочное общество», в котором якобы читают правильные «порядочные книги», само по себе наивно, поскольку, вдумайся сам классик в его суть, обязательно понял бы, что это и есть главная утопия, ибо такого общества попросту не существует. А существует реальный читатель начала XIX века, который в основном бытовал в обеих столицах и которого писатель тут же обвиняет в легковерии: «Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых…» [3]. Спустя много лет уже в ХХ веке писатель Артур Кёстлер будет подтрунивать над подобным читательским вероломством:
«Любить писателя и потом встретить его — всё равно что любить гусиную печенку и потом встретить гуся».
Михаил Юрьевич имел в характере достаточно иронии и сарказма, чтобы зацепить своим слогом дурных и бесталанных писателей, чьи промахи он определенно пронёс через свой опыт чтения. Так, в главе «Максим Максимович» не без внутренней улыбки выдает: «Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которые решительно никто читать не станет» [3]. У Стругацких в «Понедельник начинается в субботу» есть некий магистр, выступающий с докладом «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно». Посредством данной машины писатели высмеяли художественную кургузость, недостаточную герметичность миров некоторых писателей, чья беспомощность очевидна даже не продвинутому читателю. Лермонтов не менее стильно говорил об этой беллетристической беспомощности еще в XIX веке.
Печорин отвлекается перед роковым поединком именно чтением: «Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом… Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..». Весьма показателен переход от чтения «с усилием» к чтению, увлекающему настолько, что Михаил Юрьевич вкладывает в уста Печорина собственные прямые рассуждения о своем предке Томасе Лерманте.
В главе «Фаталист» Лермонтов и вовсе, сравнивая конфликт мыслительной работы с опытом бытия, делает это с использованием образа чтения:
«В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» [3].
При этом понимается, что «известная книга» – это некий ментальный слепок реально прожитой когда-то вот этой самой «действительной жизни». Что очень в духе поэта, ведущего отсчет себя от древнего шотландского рода, корни которого «действительней», чем то, как он живет сегодня. Будто не сам Лермонтов читал о своих предках, а предки его в сей момент читают условную книгу о нём («дурное подражание»), поэтому сюжет его нынешнего существования такой плоский и никчёмный.
В завершение хочется поговорить о духовной силе книги. Неоконченная лермонтовская поэма «Сашка» начинается строфой:
Наш век смешон и жалок, – всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про тёмные волнения души,
И только слышишь муки да страданья. [7]
Весьма ёмкое определение читательских предпочтений, хотя и не без лукавства. Понятный заигрыш с читателем отнюдь не означает, что Лермонтов не хочет видеть по ту сторону страницы человека вдумчивого, интеллектуального. Эта надежда – основа любого литературного творчества – важный мотив для поэта. Лермонтов верит, что его прочтут с пониманием, и эта вера присутствует на страницах его произведений. В «Боярине Орша» есть примечательный отрывок. Второстепенный персонаж – монах-чернец, стерегущий мятежного Арсения, демонстрирует выраженное благочестие и, когда слепой отец игумен подает ему знак вступить в разговор, будучи уже готов сорваться на ругань, вдруг одумывается:
…И вот слепец махнул рукой!
И понял данный знак монах,
Укор готовый на устах
Словами книжными убрал
И так преступнику вещал: <…> [2]
Вот это «словами книжными убрал» говорит о способности персонажа подниматься над ситуацией благодаря опыту общения с печатным источником, каким бы он ни был. Это свидетельствует о восприимчивости его натуры к печатному слову и способности принять книгу как полноценного наставника.
Культура чтения – важная часть личности, характеристика её общего культурного уровня. При этом решение задачи общего развития навыков чтения идет вместе с литературным развитием. Лермонтовское литературное наследие сегодня приобретает особое значение, ведь оно воспитывает вкус к русскому языку, сильно травмированному и захламленному в современных реалиях. Читая Лермонтова, получаешь возможность полноценно воспринимать русские классические произведения и анализировать их.
Гл. библиотекарь
отдела культурных инициатив
Ставропольской КУНБ им. М.Ю. Лермонтова
Ирина Игоревна Смагина
г. Ставрополь
___________
Примечания
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике (междисциплинарный): учебное пособие / – Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. – С. 70.
2. Лермонтов, М.Ю. Боярин Орша / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/orsha.txt (дата обращения 19.01.2025)
3. Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/geroi.txt (дата обращения 20.01.2025)
4. Лермонтов, М.Ю. Демон / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/demon.txt (дата обращения 19.01.2025)
5. Лермонтов, М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/maskarad.txt (дата обращения 20.01.2025)
6. Лермонтов, М.Ю. Стихотворения (ПСС, том 1) / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/pss1.txt (дата обращения 19.01.2025)
7. Лермонтов, М.Ю. Стихотворения (ПСС, том 2) / М.Ю. Лермонтов // Библиотека Машкова. – URL: https://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/pss2.txt (дата обращения 19.01.2025)

























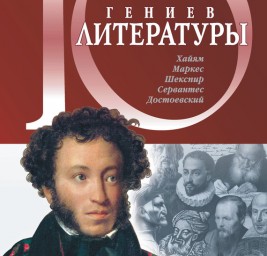





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ