Пишу детектив
01.04.2025
Главное.
В детективном сериале должно быть море. Меняет настроение, хранит тайны, двигает сюжет. Мокрое полотнище бессознательного. В его изножье – городишко, где все друг друга знают, но за каждой дверцей скелеты и скелетики, скилы и скрипты, стигмы и … стыды. Виновны все. У каждого несколько лиц. Несколько Теней. Каждый не тот, за кого себя выдает
Детективы.
Она – старая, некрасивая. Со многими недостатками: пьет, не любит готовить и детей, живет в захламленном доме. Проблемы с отцом, с которым все не может договориться. Даже, когда его нет.
Напарник – хорош необыкновенно. Вечный рыцарь. Зеленый рыцарь. И просто зеленый. Фортуна. Судьба. Случай. Ломберное поле, на котором вышивается переменчивость участи. Судит и испытует, не ведая собственных чар. Относится к гендерному большинству. Томительная нотка возможности – невозможности отношений. Амбивалентность чудит, вопрошает, томит, ворожит.
Преступления.
Все обычные (смотри Агату Кристи, Борхеса и Жоржа Польти). Фаршируются социальными трендами: мигранты, меньшинства, домашнее насилие, харрасмент, наркотики, педофилия и пр…
Заканчивается все хорошо. Все живы. А если и кого-то убивают, из тех, кто симпатичен, то будет новый сезон. Утраты забудутся…
О травме написали Линор Горалик, Полина Аронсон. А Печейкин сделает расстановку…
Надеюсь, вы, как и я принадлежите к клубу любителей детективов, где действие происходит на острове, детективщица усталая, некрасивая и проблемная, ее помощник хорош и прыток, а преступления ограничены кругом семьи и друзей. Один из 36 сюжетов Ж. Польти. Но есть еще один паттерн карты Таро Сила: преодоление судьбы, умение противостоять ей то ли слабостью, то ли уязвимостью.
Очередной, просмотренный детектив «Анника». Хорош. Безвременная, вневременная, вне возраста Никола Уокер (оказывается, у нее только недавно был юбилей, а казалась она старше). Со страдальческим, некрасивым лицом героини Достоевского и взглядом Надежды Константиновны Крупской. Одна из целой группы ошибающихся, иногда смешных женщин-детективов, распутывающих сложные дела с житейской сноровкой, но жутко не приспособленных к быту (никто из них не умеет готовить), расплетающих интригу, как раскладывающих выстиранное белье по стопкам, с незадавшейся личной жизнью, проблемными детьми – подростками, яростно взыскующими своей правды, ведомой им внутренне им одним. Это и Вера, и Мейр из Исттауна (2021), «Анника» …«Клэйт» с Джиллиан Андерсон «Крах» (2013−2016) с Хелен Миррен – другой породы, но и они приподнимаются над условностями пола.
Выделила несколько параметров женского детектива, которые очаровывают. Или только меня?
Женщина и природа
Пространства в этих сериалах пустынны и безжизненны (иллюстрация биосилы). Вид сверху на воду и холмы. Если городской, то промышленный пейзаж (часто ассоциируется с контролем возвышающийся и бесчеловечный образ фабрики). Если знаковое место, то с явными отсылками к мемориуму. Сразу узнаваемый Эдинбург или Лондон. День всегда серый, с моросящим дождем ли снегом (интересно, отчего они не промокают, только иногда волосы на лбу). Маленькие люди в пустынном пространстве. Взгляд сверху. Большого брата, Б-га ли?
«Мир – это место, где жить нельзя»
Доминирующая метафора – метафора воды, ассоциирующаяся с тревогой погружения, и опирающаяся на идею пластичности.
Изогнутые, часто извилистые линии – гряда деревьев, природы, полных женщин, грудь которых часто обнажена, и так далее[1]. Прямые – линии бесплодных пейзажей, героев с изможденными лицами. Геометрическое противостояние… Человек — крест: неодушевленные промышленные работы – длинные вертикальные линии — образ «homo-erectus», пересекаемые пейзажами с горизонталями, подчеркиваемыми вертолетными кадрами.
Дерево и спираль угрожают этим пространствам[2] органическим разрушением. Природа искажает планы церквей, позволяя увидеть прямые и прерывистые абрисы построек. «Прерывистость становится программной и довольно агрессивной. Прерывание предшествует зрелищу; по сути, оно и становится зрелищем» (Роберт Стамм)[3]. «Эстетика сериальности основана на раздробленности: разделение времен и пространств, видимого и невидимого, речи и шума …» Рансьер.
Часто повторяющиеся ландшафтные образы — мосты, туннели и коридоры. Личные дома детективщиц – на отшибе, вдали от людей и так же пустынны, но с четко маркированными предметами то ли искусства, то ли полностью обезличенным скарбом. Машины героинь старые, раритетные с историей. Не хотят их менять. Как родительский дом Вера. Мир движется к более тяжелым автомобилям в то время, когда он должен делать именно обратный ход.
Мотивы эстетики
Атмосфера нуара её наклонными углами, искажёнными фокусными расстояниями, глубокими тенями и блёклыми цветами вторгается в больничную палату мира, а также в детские воспоминания[4], служа иллюстрацией к утверждению Томаса Харди о том, что «человек даже для самого себя – это палимпсест».
Эстетика детектива опирается на реципиента (чуть не написала «пациента» детектива), его восприятие и суждение, страхи и надежды. Заметны кристаллизующиеся образы (в сериалах) сомнений, тревог, сопротивления переменам в обществе, возможной эволюции человека. ИИ может быть новым недостающим звеном в современном периоде. Эрнст Кассирер философски и Жильбер Дюран антропологически показали, что культура состоит из тех образов, которые конкретизируют страхи или раскрывают ожидаемое. Популярная культура, основанная на повторении и затрагивающая массы, распространяет эти мотивы и символы. Отсюда специфическая эстетика современности, характеризующаяся отсутствием стабильности и развитой культурой страха[5].
Взгляд персонажа устремлен на его мир, эта та позиция наблюдателя, которую мы занимаем за пределами диегезы. Глаз вводит рефлексивность. В детективном повествовании читатель становится герменевтом или даже семиологом. Нам показывают «сначала следствие, иллюзию, которая поражает нас» (К. Гинцбург). Анаморфоз основан на двойном взгляде, осознании двух образов (соответствующим двум пространствам / временам, одному вымышленному, другому нет), поскольку меняя ракурс, мы видим что-то другое. «Искусство тайной перспективы», по словам Альбрехта Дюрера. Взгляд, с другой стороны, связан с субъективностью, позволяя перейти от мотива или символа к динамике. Линии бегства. Стать частью движения и взаимодействия реальности и вымысла. Глаз становится интерфейсом и вектором динамики.
Эдип без комплексов
Детектив с самого начала был архетипической, даже мифической фигурой, отсылающей как к единственному, часто отдельному и непохожему существу, выражению уникальности, так и к группе (своей социальной функцией и тем, что он возведен в образец для подражания). Мифическая фигура детектива выполняет культурную функцию и символизирует ряд противоречий, временный компромисс между старым и новым. Сборники задач журнала кроссвордов озаглавлены «Безумный Эдип; Эдип развлекается» (1929), «Эдип в отпуске», «Эдип и сфинкс» … Эта непоследовательность имитирует беспорядок и спонтанность мирского поведения. Большинство словесных игр, выражающих отношения доминирования (социальные и сексуальные), уже встречались в прессе XIXго века. Банальность, сбивающая с толку. Кроссворды.
Вездесущность телесериалов раздражает[6]. Наследники сериальных форм века, уже завоевавшие лояльность аудитории за счет повторения и вариаций, заклейменные как выражение «низкой культуры». От детектива до безумного ученого и вампира, от детективного повествования до фантастики и научной фантастики – жанры и фигуры вписываются в повторяемость. С момента своего появления в веке фигура герменевта больше не ограничивается Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро. Хаус, абсолютно не детектив, даже если он является прямым потомком Шерлока Холмса. Фигура детектива имеет мифическое происхождение в образе Эдипа, Библии или у Вольтера и Александра Дюма. Детектив – герменевт — расшифровывает, прежде чем интерпретировать, поэтому пытается придать смысл, восстановить смысл. Процесс идентификации. Детектив — инициатор возврата к представлению связной и единой реальности, где она загадочна и фрагментарна[7]. Если фрагмент имеет смысл, то он находится в пустоте, in abstentia, в ностальгическом смысле того, чего больше нет, и оставляет след того, что было. Поэтому сериальные произведения анаморфны[8], uncanny или unheimlich, терминам, описывающим сочетание знакомого и незнакомого в одном пространстве[9]. В примере Гольбейна (Послы) восприятие двух образов строит смысл: человек эфемерен.
В XIX веке появится ученый[10]. «Безумный ученый» беспокоит, начиная с «Франкенштейна» (Мэри Шелли, 1818/1831), вписываясь в образ ученика волшебника. Повествования о безумных ученых в конце XIX века, построены по калькам детектива. Криминальный роман основан на идентичности, направлен на изгнание девианта (синоним инаковости) для восстановления порядка и идентичности. А фигура детектива подпадает под метод компенсации, временного компромисса между порядками. Считается, что серийная форма — симптом кризиса. Каждая история заканчивается установлением виновного и формой возвращения к порядку, но каждый новый эпизод о приключениях детектива констатирует реальность, больше не имеющую смысла, возвращение угрозы, не такой поверхностной, какой казалась.
Доминирующая технология эпохи запечатлевается в символике воображения[11]. Образ дерева Дарвина при описании эволюции отсылал к стабильности, вертикальности и восходящей динамике, образ сети — синоним постоянных потоков, горизонтальности. Динамика глубины. Когда поезд был символом ассоциации и движения, сеть привнесла новую временную динамику, поскольку она потенциально открыта. Но сеть — синоним контроля и наблюдения, ассоциируется с оруэлловской антиутопией, где человеческое (и/или искусственное) существо оказывается втянутым в паноптикум, ускользающий от него. В «Матрице», «Спирали» или «Темной материи» человек становится незначительной сущностью, вписанной в производственную систему живого, новой иллюстрацией биосилы. Хакер олицетворяет сопротивление.
Тело: эстетика фрагментации
Из души, которая руководила телом у Декарта, тело превратилось в фактор расширения прав и возможностей. Сила – то, что может делать тело, «что может делать тело», отсюда политическое измерение. Тело занимает центральное место в криминальном романе: тело жертвы, исследуемый остаток — метонимия среды, подлежащей расшифровке[12]. Детективы сталкиваются с останками, фрагментами и разрозненными следами. Эстетическая особенность сериала: он основан на непреодолимом напряжении между целым и фрагментом, фрагментации, которая является частью его структуры и динамики. Даже если «обещание конца» остается вездесущим. Водяным знаком[13]. Окончание навсегда отложено: неограниченный, без начала и конца, повествовательный поток создает иллюзию уничтожения времени. Рассыпчатость, пунктуальность и двусмысленность, в которых присутствует страх исчезновения и разрушения. В нашей современной популярной культуре конец навечно приостановлен. Сериал не повторяется, он предлагает, по мнению Эко, вариации до бесконечности[14].
Сложные отношения со временем у женщин. Повествование как «жизненная потребность» необходима для восстановления контроля над собой, собственной реальностью – Анника постоянно обращается к зрителю в сложных ситуациях, растерянности, неудобства, конфликта. Конфронтация ведется на символическом уровне.
Художественная литература — работа, изменяющая способы чувственного представления и формы высказывания, меняя рамки, масштабы или ритмы, создавая новые отношения между внешним видом и реальностью, единственным и общим, видимым и значимым[15]. Художественное кино основано на накоплению повествовательных пустот, экспозиции, которая не является немедленной и более раздробленной, а также освобождении от общих рамок.
Судьба героинь: царапины власти
Героини детектива — эскапистки (избегают неприятного, скучного в жизни). За побегом может скрываться страх или желание. Пленить то, что всегда стремится к побегу … А мне сериал «Вера», в отличие от Татьяны Толстой[16], нравится тем же. Пустошами и серыми днями, невзрачностью главной героини, ее безбытным бытом, архетипом мудрой женщины и мальчика в услужении (да, Шерлок и Ватсон, но не только). Чем более инфантилен человек, чем больше в его жизни стресса и тревог, тем сильнее будет его вера в силу мысли[17].
Являются ли они трикстерами в юбке?
— Если по внешности – то да, некрасивость, всеядность или равнодушие к еде. Они странные. Выпадают из общего ряда. Иногда в комизм, иногда в страшилку. Чаще всего они одеваются никак или нелепо, несвежие волосы, видимое отсутствие макияжа, пренебрежение гендерными условностями.
Вообще лицо воплощает в живой и загадочной форме абсолютную индивидуальность, хотя и ничтожную[18]. Оно — шифр в герметическом смысле этого слова, призыв разгадать загадку. Изначальное место, где существование человека обретает смысл. Изучать дискурсы, связанные с лицом, — значит изучать процессы омассовления, избыточного кодирования и семиотической конденсации. Лицо может воплощать идеологию, страсть, дискурс и даже мировоззрение общества. В этом смысле можно сказать, что оно является проводником смысла, вовлечённым в игру тривиальности культурных существ и средств массовой информации[19]. Лица женщин-детективов как-то стерты. И хотя их могут играть харизматичные актрисы, общее место – одна из нас.
Архетип чудака — одна из разновидностей архетипа трикстера (клоуна, вруна, шута). Проявляется в поведении, отличном от общепринятых норм и правил, нарушая общественный договор. Один архетипический образ может перетекать в другой – еще одна ловушка для нашего сознания, которое жаждет определенности и желает точного ответа на вопрос «про что это?». Трикстер может стать Ребенком. Чудаки ставят под сомнение существующие нормы и ценности, позволяя переосмыслить актуальные проблемы; катализирует изменения; гуманизируют устои, даже в условиях давления социума; помогают обществу увидеть его слабости и достоинства. Как у психотерапевта и его пациента во время сессий создаётся одна психическая реальность на двоих, то и детектив работает с невидимым образом преступника – они становятся неразрывны.
С помощью образов чудиков авторы раскрывают «внутреннего человека», свободную и самодовлеющую субъективность. Женщина-детектив — воительница и амазонка. В последних детективах, она даже гомосексуальна, экстравагантна, граничащие с ненормальностью. Герой плох в социальных взаимодействиях, часто не понят обществом, пребывает в своём собственном мире, виртуозно спекулируя на психике и психологии других. Его подход к работе и жизни заставляет усомниться в его адекватности. Почему эти женщины так беспомощны в быту и пытаются увязать происходящее с мировой культурой?
Кажется, Анника философ поневоле. Она зачем-то отчитывается, оправдывается перед зрителем, иногда умалчивает, иногда хочет казаться лучшей. Все шито белыми нитками. Это напоминает героев Стивена Фрая в похожих ролях, вечно чем-то виноватого, с опущенными плечами, скорбящего вселенской тоской.
Внутренняя речь обращена к какому зрителю, что объяснить? Что поправить? Еще и цитаты. Обращение к истории викингов, норвегов, поиск корней, возможно, объяснение своих поступков через их паттерны: датчане – норвежцы. Британика. Как жаль, что я не знаю эту историю.
Появление архетипов в сновидениях или фантазиях (кино – массовая фантазия) указывает на неосознаваемую потребность в изменении Я. В психотерапии манифестация архетипа свидетельствует о глубинных изменениях, происходящих с пациентом, о выходе на новый уровень функционирования. Одержимость каким-либо архетипом – явление, свойственное отдельной личности, коллективам, даже целым народам (одержимость немецкого народа в период нацизма).
В «Аннике» рефлексия главной героини сопровождается отсылками к Ибсену и греческим трагедиям, как это было у Морса. Обожаю эти серии, где миф дает подсказку и являет архетип.
Ко второму сезону героини хорошеют, становятся гламурными, менее шероховатыми.
Но есть и другой подход. Одри Роуз Г. Мирасоль[20], используя идеи Рене Жирара о механизме козла отпущения, которого сообщество считает по-настоящему виновным и устранение которого считается необходимым для восстановления общественного порядка. Детектив здесь выступает в роли первосвященника, который использует разум и науку не как самоцель, а как средство для выбора подходящего козла отпущения, чья вина может быть доказана эмпирически. Растет чувствительность общества к различным формам виктимизации, объясняя движение детективной литературы в сторону более либеральных взглядов на преступность. Сейчас преобладает детективная литература, в которой преступление изображается как необходимая реакция на несправедливую социальную систему или как смягчающее обстоятельство, вызванное психологическим состоянием. Читатели детективных романов[21] сублимируют стремление поиска козла отпущения.
Мне нравятся детективы, потому что этот жанр в основе своей опирается на рациональную и научную эпистемологию. Зигфрид Кракауэр утверждает, что детективный роман в конечном счёте посвящён не преступлению и закону, а разуму. Но с дамами это не совсем так. Они утверждают ценности слабости, уязвимости, разнообразия. Дж. К. Ван Довер метко описывает детектива как человека, «который знает, как знать», как человека, который «в каждом случае дает уверенность в том, что объективную истину можно установить» [22]. Детектив атрибутирует, как при провенансе произведений искусства.
Одно из распространённых наблюдений—и источник удивления— заключается в том, что мужчин и женщин с мягким характером может сильно привлекать жесткий жанр. Именно женщины тяготеют к криминальной литературе как в её создании, так и в потреблении. Жанр, пропитанный преступностью и насилием, предлагается в остальном добропорядочным и законопослушным читателям. Козел отпущения служит точкой фокусировки, громоотводом, на который проецируется агрессия, угрожающая поглотить сообщество. Детектив выполняет роль священника, выбирая подходящего козла отпущения, чья вина рационально и эмпирически доказуема и чьё изгнание из сообщества может дать ощущение, что зло наконец-то полностью изгнано. Рене Жирар уже писал о «постоянно растущем осознании жертвенности» в современном обществе.
Детективы как интерпретационная атрибутивная практика
Зачем я смотрю детективы?
Чистое удовольствие от разгадывания. Но я не очень люблю загадки. А вот аналитическая деятельность, забота профайлера мне интересны. Как атрибутирование художественных произведений. Ищу говорящие детали. Вскрывающие происходящее, разрешающие противоречие. Как в психологическом консультировании. Разрозненные фрагменты складываются в непротиворечивую картину. Разные люди, казалось бы, случайные встречи, что их объединяет? Какова их мотивация?
Общий принцип детектива (нынешнего?): «Все виновны». И у всех есть тайны. Все хотят выглядеть лучше, чем есть. И все связаны. Идея всеобщей связанности: когда озеро – одна молекула воды; когда Джон Донн – мой остров.
А мне зачем?
Есть повторяющийся сюжет на карнавале в живописи барокко: заснувший юноша, к носу которого арлекин в маске что-то подносит.
– И?
– Дальше не знаю. Не понимаю смысл
– Пять чувств?
Какова интрига?
Сюжет детектива – загадка. И она мне не нравится. Я люблю бродить по картине, вычленяя повторяющиеся паттерны. Даже нет, детали. Не открывают, вспарывают. Обнажают стиль и авторство. Кто автор «преступления»? С кем совпадает по стилю?
Есть общие признаки анализа в детективе, психологическом консультировании, атрибутировании. Герменевтике? Понимание? Деконструкция – элемент критики. Побег – за ним может скрываться страх или желание. Пленить то, что всегда стремится к побегу.
Ирина Димура
_______________

























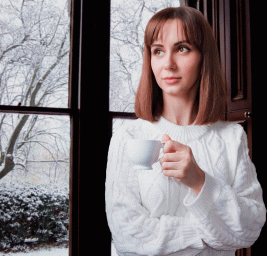

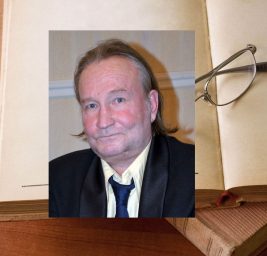

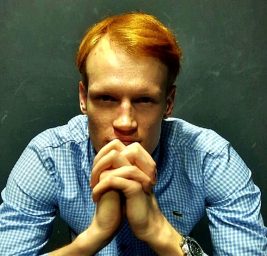





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ