Почему Мамин-Сибиряк не посетил Троицк?
23.07.2025
Целебные силы Урала
Мировая слава Урала основана на его колоссальных рудных богатствах. Здесь есть все: месторождения золота, платины, никеля, драгоценных камней и полезных ископаемых. Вокруг прекрасный горный воздух, озера, реки. Имеются свыше 150 минеральных источников и около 130 озер с минеральною водою. По своему химическому составу некоторые из них не уступают источникам Кавказа и Западной Европы. Уже в XIX веке насчитывали только в Челябинском уезде 17 соленых озер, горно-солевых свыше 60. Соляные озера были известны в Троицком, Верхнеуральском, Оренбургском уездах. Местные жители посещали их постоянно для поддержания своего здоровья. И сегодня челябинцев эти озера привлекают, они с удовольствием едут к уникальным природным лечебницам. Напомню также, что на Южном Урале широкое распространение именно с XIX века получил лечебный кумыс.
«Лучший кумыз, как рассказывают, в Кокчетаве. …Следующий за Кокчетавом номер представляет «троицкий кумыз», т. е. кумыз около города Троицка, Оренбургской губернии, – читаем у Мамина-Сибиряка в очерке «На кумызе (Из летних экскурсий)». – От Екатеринбурга до Троицка около 400 верст, – расстояние сравнительно небольшое и в хорошую погоду его можно проехать даже с удовольствием, особенно по Башкирии, где тянется ряд прекрасных озер. Ездят на кумыз прямо «под Троицк», но опытные люди не советуют забираться туда, потому что безлесная степь в жаркое лето сама по себе стоит хорошей болезни. В Троицком уезде есть много других уголков, где кумызники, кроме кумыза, находят какую-нибудь рощицу, озерко воды или степную речку».
Оренбургская губерния считалась прекрасной кумысолечебницей. Славилось, например, село Тургояк в Троицком уезде. Писатель же выбрал для лечения Михайловку, село это находилось тоже недалеко от Троицка:
«Станица Михайловка… совмещает в себе все упомянутые требования, почему с каждым годом в нее набирается больных все больше и больше, особенно из Екатеринбурга, для которого она начинает служить лечебною станицей».
С этих самых пор загадочные просторы лесостепной полосы, переходящие плавно в степь, не давали покоя писателю-путешественнику, они притягивали его не только для того, чтобы поправить здоровье. Он наблюдал красоту края и зарисовывал с точностью в своих произведениях, изучал природные богатства, надеясь приобрести здесь свой прииск, народы, населяющие эти просторы, которые переходили в его романы и рассказы и оставались в них навсегда. Произведения Дмитрия Наркисовича о Южном Урале сегодня для нас представляют огромную ценность, они позволяют переместиться нам в знакомые места и увидеть их такими, какими они были до постройки здесь железной дороги. И, без сомнения, мы узнаем много нового.
Михайловка. 1886 год
На кумысолечение под Троицк Д.Н. Мамин-Сибиряк, М.Я. Алексеева и ее дочь Ольга приезжали летом 1886 года, сразу же после своего возвращения из Москвы и неудавшейся поездки на юг, куда они повезли спешно Ольгу. Дочери Алексеевой в дороге стала хуже. Пришлось им вернуться на Урал, а девочке необходимо было срочное лечение, она была тяжело больна чахоткой, да и Мамину-Сибиряку кумыс был полезен, он тоже не был здоров. Из-за серьезного недомогания дочери Марии Якимовны остановки для ночлега и отдыха по дороге к троицкому кумысу требовались продолжительные. Пока Ольга отдыхала, а Мария Якимовна находилась с ней рядом, у писателя появлялась возможность обследовать все вокруг, со всеми переговорить и все записать. Так было в Кыштыме, Каслях, Миассе, Златоусте. Если Ольга чувствовала себя лучше, то экскурсии екатеринбургские путешественники совершали вместе.
После этой поездки писателем был написан прекрасный очерк «По Зауралью (Путевые заметки)», опубликованный частично в 1887 году («Новости»). Впервые полностью он был опубликован в журнале «Южный Урал» (№№ 8-9, 1952). Также писателем был начат в 1886 году очерк «На кумызе (Из летних экскурсий)», сохранилась рукопись на 38 листах. Но очерк писатель, по-видимому, не окончил, наверное, собранный им материал ушел на написание очерка «По Зауралью». Недописанный очерк он продолжил, собрав дополнительные сведения в 1887 году, дополнив его своими поездками с Марией Якимовной по южноуральским приискам. Те события, которые произошли с ними в эти, два лета под Троицком, переплелись у писателя в одно целое. Произведение «На кумызе» было опубликовано в 1888 году («Русская мысль» №№ 9, 10). Сегодня нам описания Мамина-Сибиряка о его продолжительных путешествиях на юг Урала хорошо известны. Они часто переиздавались и переиздаются не только в книгах. В Пласте, например, в газете «Знамя Октября» очерк «На кумысе» публиковался в 1986 году.
Дмитрия Наркисовича интересовали демографические данные, история развития народов на Южном Урале. А жизнь местного населения в то время носила печальный характер: «Первая казачья станица на нашем пути называлась Кундравинской, пустое и унылое место, потерявшееся на безлесной плоскости. Здесь уже начались избенки из кривого березового леса и плетни. Вместо дров лежал хворост. Уныло, пусто, негде остановиться глазу». Продвигаясь все ближе к Троицку, Мамин-Сибиряк и две его путешественницы увлеченно наблюдали за изменениями в природе и жизнью степных народов: «Следующая Ключевская станция была несколько веселее, благодаря тенистым степным озеринкам. За ними курились два коша, точно круглые шапки – это были стойбища киргизов-пастухов, которых нанимали от себя казахи».
Описания дикой природы перемежались у писателя с картинами бесхитростной жизни вокруг, он показывал быт простых людей:
«Я открываю глаза. Маленькая конурка залита ярким июньским светом, который просто слепит. Единственное окно выходит во двор. Где я? Ах, да, на кумызе… Комната у меня такая маленькая, что, по поговорке, кошку за хвост негде повернуть. У двери четвертую часть помещения заняла битая из глины печь. Пол покосился. Пахнет свежею известкой и застоявшеюся сыростью. Две лавки и крошечный стол составляют всю мебель. Чемодан и разные дорожные вещи свалены в углу. Квартира попалась неказистая…»
А вот описание владельца неказистого жилья: «Нет, в моем хозяине решительно ничего незаметно казацкого, что даже обидно: станица Михайловка принадлежит к области Оренбургского казачьего войска, а Егорыч стоит вахлак вахлаком, как самый обыкновенный мужик. …Егорыч, наш хозяин, всегда дома, всегда ничего не делает и всегда ругается: увидит свинью – свинью обругает, подвернется сынишка, корова, жена – их обругает, а то просто бродит по двору и ругается в пространство». В простых бытовых столкновениях своих героев писатель подмечал исторические приметы и угадывал новое, а жили его герои на Урале на рубеже сурового ХХ века.
До Троицка было «два шага»
Сегодня Михайловку можно найти на карте в Пластовском районе. Относится село к Демаринскому сельскому поселению. Во времена Мамина-Сибиряка это была станица (хутор), которая появилась здесь в 1828 году: «Станица Михайловка состояла всего из одной широкой улицы, утонувшей в грязи даже в жаркие июньские дни. Два ряда бревенчатых избушек уныло смотрели друг на друга через эту грязь. Общий вид получался самый жалкий, но это убожество выкупалось отличным сосновым бором, который стеной подошел к самой станице, их разделяла гнилая степная речушка, сочившаяся ниточкой из степных «озеринок». Это с одной стороны, а с трех других открывалась панорама уже степного характера. Едва всхолмленная равнина зеленым ковром уходила из глаз, напоминая «врачующий простор» южно-русских степей».
Название свое Михайловка получила от поверенного делами Михаила Андреева. В 1878 году хутор входил в станицу Кособродскую. Затем в 1926 относился к Демаринскому сельсовету Кочкарского района Троицкого округа Уральской области. Сегодня это территория Челябинской области. Рядом с селом – река Кабанка. Недалеко находится Жуковская копь розовых топазов.
От Михайловки до Троицка – всего 100 км, но посетить город писателю не удалось в 1886 году, хотя все вокруг говорили о нем, и само собой как-то получалось, что накапливались о нем сведения, которые потом писатель использовал в своих произведениях, как штрихи, характерные добавки к сюжетам. Например, в рассказе «Худой человек» (опубликован в 1895 году) герой Бурнашев произносит:
«Да, у меня была тоже строгая лошадка… Так же вот у гуртовщика купил… в Троицке…»
Троицк и его история, без сомнения, притягивали внимание Мамина-Сибиряка. Но в 1886 году, когда главным стало здоровье Ольги, да еще в жару, о которой его предупреждали знакомые, о городе он даже не задумывался.
А ведь мечталось ему, наверное, походить по его улицам, услышать голоса жителей, полюбоваться купеческими особняками, о которых ему доносила людская молва, потолкаться на базарах, сделать пометки в записных книжках – и появился бы из-под его пера очерк о Троицке. Но увлекательной поездки в этот город не произошло и в последующие годы тоже, к сожалению. Со мной часто спорят по поводу того, что, мол, Мамин-Сибиряк не планировал посещать Троицк. Думаю, что это не так, манил к себе его загадочный город, да все не получалось встретиться с ним. Писатель собирал о нем сведения, делал записи в записных книжках. Окунемся же и мы в историю города и узнаем, чем бы он стал интересен для писателя, и чем нам, ныне живущим, он особенно любопытен. И я обосную те причины, которые помешали Дмитрию Наркисовичу добраться до Троицка.
Как появился Троицк
Троицк был основан на степной равнине при впадении Увельки в реку Уй, здесь построили крепость военно-сторожевой Уйской линии, в 750 верстах от Оренбурга. Крепость была задумана начальником Оренбургской комиссии, будущим первым губернатором Оренбургской губернии Иваном Ивановичем Неплюевым (1693–1773), который в 1743 году останавливался именно на этом месте лагерем в день Святой Троицы. В XVIII веке между Оренбургской, Челябинской и Троицкой крепостями, благодаря заботам Неплюева, был учрежден почтовый тракт на протяжении почти 700 верст. Почта шла сюда из Оренбурга через крепости Верхне-Яицкую, Углы-Карагайскую, Уйскую, Кумлянский Ям, село Коельское, Башкирский Ям, Почтовый Двор, Челябинск. Протянулись торговые тракты на Златоуст, Челябинск, Оренбург, Петропавловск, Кустанай. Связь с городом была постоянная, но чаще почтовая.
В 1771 году Троицк имел 317 дворов, также в нем размещался гарнизон, состоявший из драгун и казаков. Население Троицка в 1781 году выросло за счет увеличения числа земледельцев и военных, здесь насчитывалось около 500 домов. Официально Троицк был признан городом в 1784 году. В 1861 проживали в нем постоянно 7000 человек, а в ярмарочный период до 11200 человек. За городским базаром начиналась конная площадь. В дни ярмарочной торговли сюда пригоняли табуны киргизских лошадей. За конной площадью тянулась верблюжья. От нее дальше – овощная. За рекой, а пройти туда можно было по мосту, начиналась башкирская площадь.
В двух верстах от города находился меновый двор. Троицк являлся важнейшим пунктом меновой торговли России со странами Средней Азии (Хивой, Бухарой, Ташкентом). Восток присылал сюда хлопок, меха, ткани, кожи, чай, сушеные фрукты. Запад же отправлял на Восток чугун, железо, сталь и разные фабричные изделия. Торговля на меновом дворе шла с июня по октябрь. В самом Троицке были развиты мукомольное, кожевенное, маслобойное, мыловаренное и пивоваренное производства. Большое значение для развития города имела, конечно, ярмарка.
Ярмарка, о которой знали
Отметим, что Троицкая крепость расположилась очень удачно на старой караванной дороге в Сибирь. Караваны среднеазиатских купцов (из восточной части Туркестана) часто приходили сюда через земли Среднего жуза. Это было безопаснее и прибыльнее для торговцев, так как казахи жили около дороги зажиточные и спокойные. На Урале обозначилась ярмарочная линия: Ирбит – Троицк – Оренбург. Торговля в Троицке считалась не хуже, чем в Оренбурге. А вокруг Урала с востока и юга образовались другие ярмарочные центры, с более мелкой торговлей (Ивановская ярмарка, Орский торг).
В составе ирбитского товарооборота произошли существенные изменения, так как бухарцы и хивинцы, продававшие ранее (по описанию И.Г. Гмелина) кусками золото и серебро в Ирбите, сосредоточились в Оренбурге и Троицке. Среднеазиатские товары привозились в Ирбит не собственными купцами, как раньше, а посредниками от русских торговцев. Внутренние торговые токи шли от Оренбурга и Троицка к Ирбиту и от Ирбита к Троицку и Оренбургу.
По масштабам ярмарочная торговля Троицка уступала Ирбиту и Оренбургу, но пользовалась всероссийской известностью. Почему? В основе торговли лежал обмен российских товаров на лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, ими был богат прилегавший Средний жуз, с которым из Оренбурга связь наладить было трудно. Для этой цели и была организована в 1750 году Троицкая ярмарка. Скот выменивался здесь десятками тысяч голов. Троицкая таможня давала ежегодный доход до 20 000 рублей. И.И. Неплюев хотел превратить Троицк во второе Верхотурье, провести через него вторую официальную дорогу из Сибири и организовать таможню. Товары шли бы через Верхотурье или Троицк. Но вскоре внутренние таможни были отменены совсем.
Напомню, что связь русского купечества через Троицк со среднеазиатскими купцами была раньше запрещена, чтобы не нарушать интересы Оренбурга. Затем запрет ослабел, и на Троицкой ярмарке стали появляться купцы из восточной и центральной части Средней Азии – кашгарцы и ташкенцы. Но на первом месте стояла прибыльная торговля с казахами – они чаще покупали хлеб. Между Троицком и Оренбургом произошло разделение функций: среднеазиатские ханства и Казахстан через Троицк вели обмен с Уралом, а через Оренбург – с Центральной Россией. Оренбург и Троицк торговали хлебом.
Вот данные 1781 года (по Н.Я. Озерецковскому) о соотношении таможенных и полавочных сборов в Оренбурге и Троицке: Оренбург – 53000 рублей, Троицк – 3500 рублей. Ассортимент привозимых товаров изменился: золото и серебро (в монетах, песке, слитках) стали редкостью на ярмарках. Золотодобыча, как известно, развивалась внутри страны с 1745 года, и с Урала ежегодно отправлялись в Петербург около 20 пудов золота. Англия, проникнув в Индию и Персию, отвела золотой поток в свою сторону, в нее через Персию, предположительно, шло и золото из России.
Караваны бухарских купцов со второй четверти XIX века стали посещать Троицк чаще. Уральские изделия – железо, медь, сундуки – в Троицке были значительно дешевле. Но самое главное обстоятельство, которое привлекало бухарских купцов в этот город – возможность приобрести золото здесь дешевле. Каким образом? Потому что были открыты Миасские золотые прииски (после 1823 года), недалеко от Троицка. По слухам, тайный вывоз золота за границу конкретно из Троицка достигал 50 пудов ежегодно.
В городе была развита «мелочная» торговля металлическими изделиями. Развивалась салотопенное производство. Препятствием развитию салотопенного производства являлась дороговизна леса. В Троицк лес доставлялся гужом из Верхнеуральского уезда. В самом городе вытапливалось 80000 пудов сала в год и около 20000 пудов скупались у окрестных казаков и казахов. Также развивалась кожевенная промышленность, но размеры ее были невелики. Ремесленников насчитывалось где-то около 100 человек, причем почти все они проживали в Троицке временно.
Почему писатель выбрал Михайловку?
Михайловка под Троицком оказалась по средствам Дмитрию Наркисовичу и Марие Якимовне, хотя лечение в ней было не самым дешевым. В Демарино был кумыс, путешественники могли уехать туда, но о Баймагане писатель был наслышан в Екатеринбурге и о том, что кумыс у него лучше, чем у других, ведь он держал «тридцать жеребых кобыл». Поэтому была выбрана Михайловка. А еще екатеринбургским больным было удобнее добираться из Михайловки до Кочкаря: «От Кочкаря до Михайловки 12 верст. О сосновом боре в Михайловке мы уже говорили, а в Кочкаре вы найдете почтовое отделение и большой рынок. Врач живет на золотых промыслах у г. Подвинцева; от Михайловки это около 20 верст – расстояние сравнительно ничтожное». А врач мог понадобиться Ольге в любой момент, ведь состояние ее ухудшилось. Это была наиважнейшая причина, чтобы выбрать Михайловку.
Кумысников в Михайловке набралось тогда человек десять. Чем помимо лечения в ней можно было еще заняться? Писатель часто ходил на охоту. Вместе с Марией Якимовной и Ольгой читал в бору книги. «Ближайшим кумызным пунктом к Михайловке являлась деревня Демарина, до которой было рукой подать, – всего версты три». Кумысники в Демарино жили веселее: они организовывали для мальчишек или пьяных мужиков бега, слушали деревенские песни, устраивали «кавалькады на крестьянских лошадях». А еще демаринские приходили навестить михайловских. В Демарино жил знакомый Мамина-Сибиряка по Екатеринбургу – купец Иван Васильевич. Он привез на кумыс племянника, студента московского технического училища. А вообще Иван Васильевич Попов (1848–1920) был знаком Мамину-Сибиряку с семинарии, и пути их часто пересекались.
Сегодня Демарино – село в Пластовском районе, административный центр Демаринского сельского поселения. Именно здесь, прямо у села, стали проходить первые Бажовские фестивали Челябинской области. Рядом имеются бор и водопад (р. Кабанка, высота падения воды 10 м). «Сельцо Кабанское Агафьино тож» – это первое название населенного пункта, который появился в 1753 году. С середины XIX века село стало называться Демарино.
Все поездки Дмитрия Наркисовича носили обычно деловой характер: он знал для чего едет, что должен сделать, с кем познакомиться, что найти. Возможно, если бы обстоятельства в 1886 году сложились иначе, то он бы посетил Троицк, но писатель являлся опорой и поддержкой для жены и Ольги, потому не отлучался из Михайловки, разве только в Кочкарь ездили вместе. По этой же причине, не могли Мамин и Алексеева продолжительно объезжать кочкарские прииски, как принято почему-то считать. У Мари Алексеевны не возникало даже мысли, чтобы оставить Ольгу на чье-либо попечение. Да и не было ни одного такого надежного человека в Михайловке. И, конечно же, она не могла брать больную девочку в поездки по приискам, что для Ольги стало бы слишком утомительно и даже опасно. Мария Якимовна была любящей и заботливой матерью, она всегда находилась рядом с больной дочерью.
Михайловка. 1887 год
В 1887 году писатель вновь побывал в Михайловке, приехал он сюда только с Марией Якимовной, Ольга умерла. И теперь жене писателя самой требовались отдых и лечение, ее нужно было постоянно отвлекать от свалившегося на нее горя. «Я хорошо помню только одну, довольно продолжительную нашу поездку с Дмитрием Наркисовичем по Южному Уралу. Это было в 1887 году», – вспоминала Алексеева. Еще бы! Что она могла запомнить в 1886 году? Напуганная смертью Ольги она старалась улучшить здоровье Дмитрия Наркисовича. На кумысе, как назло, все было по-старому, Мамин-Сибиряк сообщал об этом: «Жизнь в станице, конечно, была скучная до последней степени. Я обыкновенно уходил на целые дни в степь с ружьем стрелять степных ястребов – это было единственным моим развлечением. …По вечерам решительно было некуда деваться, и я сидел на завалинке, любуясь казачьей детворой, которая барахталась в пыли или в грязи, смотря по погоде».
После этой поездки писатель работал над произведением «Клад Кучума», которое было опубликовано в 1897 году в ежемесячном литературном приложении к журналу «Нива». Михайловка в рассказе писателя представлена такой, какой и была на самом деле, совсем не живописной:
«Я жил в маленькой казачьей станице, по внешнему виду представлявшей собой воплощенное убожество, какого, пожалуй, и в России не сыщешь. В станице была всего одна улица, и та грязная до невозможности, потому что служила для всех станичных баб помойной ямой. От первого дождя она превращалась в отвратительное месиво, а в сухую погоду обдавала всех едкой пылью. Всяческие отбросы копились здесь в течение целого столетия, и единственными санитарами служили станичные собаки и свиньи. Леса в степи нет, и станичные избенки кое-как были слеплены из кривых березовых и осиновых бревен, – слово «бревно», конечно, нужно понимать относительно, и вернее назвать эти бревна просто толстыми жердями. Эта городьба была слеплена кое-как, еще хуже проконопачена и для большей теплоты обмазана кое-где глиной, а то и просто навозом. Крыши все, конечно, были соломенные. Вообще, самая бедная стройка, хотя у каждого казака был земельный надел в тридцать десятин».
Жить в такой местности было тяжеловато, но писатель придумывал для Марии отвлекающие поездки:
«В интересах питания мы обыкновенно каждую субботу ездили с Егором Иванычем в соседнюю станицу Кочкарь, где был торжок, почта и телеграф. Эти поездки служили в то же время и развлечением. …О Кочкаре (полная форма Кочкарский отряд, т.е. средоточие какой-то казачьей власти) можно сказать без преувеличения, что он целиком представляет один сплошной базар и, нужно отдать справедливость, прекрасный базар. Сотни деревянных лавчонок сбились в несколько отдельных кучек, и центр стали занимать уже настоящие магазины. Вырос целый каменный корпус из таких магазинов с железными дверями, массивными железными решетками в окнах и каменными крылечками; в них полный выбор всего, чего душа просит, начиная от красного товара, чаев, разной галантереи и кончая сапогами, скобяным товаром и винами. Мы нашли даже керосиновую кухню. Такие уездные города, как Златоуст, могут справедливо завидовать бойкой кочкарской торговле. Был даже особый торговый ряд, где торг вели и в лавках, и в дощатых балаганах, и прямо с возов».
И от сегодняшней Михайловки до Кочкаря – 89 км. Село находится в Пластовском районе, является административным центром Кочкарского сельского поселения. А во времена писателя Кочкарь был богатейшим центром золотых промыслов на Южном Урале. Кругом – одни прииски, с которыми знакомились путешественники. Однажды они побывали на одном из промыслов, где шла еще разведка. Мария Якимовна надела сермяжку, фуражку, ботинки ее обернули холстом, чтобы ноги не катились по ступеням стремянки. И спуск под землю стал настоящим увлекательным происшествием для самого писателя и его спутницы, хотя Алексеевой врач не советовал спускаться в шахту из-за отдышки, на что она ответила: «Я непременно буду спускаться в шахту. …Помилуйте, быть на промыслах и не спуститься в шахту. …Все-таки спущусь, иначе, зачем было ехать». Это было в характере Марии Алексеевны, ведь она была дочерью Якима Семеновича Колногорова (1812–1898), помощника главного управляющего Нижнетагильскими заводами по технологической части. Была она хваткой, как отец, и золото ее, конечно, интересовало. Она спустилась с Дмитрием Наркисовичем на глубину 25 сажен в шахту, чтобы увидеть весь процесс добычи золота своими глазами. Думаю, что тогда именно, может, раньше, но в это примерно время, у нее появилась идея о собственном прииске. Она «заразила» своим новым увлечением Дмитрия Наркисовича. Поэтому в 1887 году писателю вновь не удалось побывать в Троицке, ведь золотые прииски серьезно отвлекали Алексееву от скучной жизни на кумысе и грустных воспоминаний о дочери. И Мамин-Сибиряк не хотел менять ее планы.
«Золотое дно»
Присматриваясь внимательно к приискам, Алексеева понимала, что новые разработки им с Дмитрием Наркисовичем, скорее всего, не потянуть, а вот старые, которые были почти выработанными, можно приобрести и попытаться добыть из них золото. Она увлеклась поисками такого прииска, пусть отработанного, но еще хранившего в себе остатки золотого запаса. Или приглядеться все-таки к тем, в которых еще шла разведка? Зачем? Чтобы разбогатеть, ей не хотелось быть зависимой от бывшего мужа (брак не был расторгнут: причина – дети, их материальное обеспечение со стороны отца). И она продолжала настойчиво осматривать прииски. Например, «Катаевский прииск находился на «обочине» главных промыслов, недалеко от казачьей станицы Михайловской. В этой степной местности каким-то чудом сохранился казенный сосновый бор, и около него давно шли мелкие разведки». Мысли писателя и его жены о золоте крепко переплелись и потекли в одном русле.
Они колесили по приискам вокруг Кочкаря. Всюду находились им знакомые по Екатеринбургу. Их приветливо встречали друзья: «Промыслы Кочкарской системы, наоборот, могут поразить: это целый город, который тянется на десятки верст. Горячая работа кипит на каждом клочке. Тут идет и добыча жильного золота, обставленная довольно сложною техникой, и разработка рассыпного с промывкой на старательских «машертах», и новые разведки», – писательский глаз высматривал на приисках главное. Все детали на разработках для Дмитрия Наркисовича имели значение, вот «паровая машина откачивала из шахты воду, а при помощи деревянного барабана «выхаживали» на поверхность бадьи с пустою породой и жилой, т. е. золотоносным кварцем».
Позднее более подробно, используя свои записи и накопленные знания, Дмитрий Наркисович о Кочкарских приисках в период их наибольшего развития написал в повести «В последний раз» (1903):
«Кочкарь, по-ученому Кочкарская система золотых промыслов представляет собой одно из старинных проявлений несметных уральских сокровищ. Это степное ровное место, отделенное от главных горных массивов Урала громадным расстоянием, было в буквальном смысле насыщено золотом, разработки которого, вероятно, займут не одну сотню лет. Удивительнее всего здесь то, что главную силу составляли коренные месторождения золота, так называемые «жилы», тогда как в горах и предгорьях они составляли редкое исключение. В Кочкарь как в обетованную землю, стекались десятки тысяч рабочих со всего Урала. Это было что-то вроде маленькой Калифорнии».
Мамин-Сибиряк по-настоящему заболел идеей о собственном прииске. Ему казалось, что это вполне осуществимая мечта. «Вообще Урал считается золотым дном, но Зауралье – это само золото», – сообщал он. А еще он предвидел «что Зауралье – это наше золотое дно – будет соединено ж/путем с Россией…»
Башкирские деревни, гора Иремель. 1888 год
И Мамин-Сибиряк начал путешествовать по Уралу в любое время года. И зимой. В это холодное, не знойное время, он мог свободно посетить Троицк. Что же его вновь отвлекло от интересной поездки? В феврале 1888 года с членом своего кружка (маминского) Адольфом Александровичем Фолькманом он отправился в Касли и по башкирским деревням. Фолькман был податным инспектором и на Южный Урал приезжал обследовать свой участок. Для писателя такая поездка стала большой удачей. Зачем ему понадобилась она, он объяснил сам: «Цель моей поездки в орду была та, чтобы объехать несколько башкирских деревень в момент весенней голодовки». На первый взгляд, его цель кажется бесчеловечной. Наблюдать за тем, как от голода умирают люди? Но Мамин искал причины, по которым башкиры и другие степняки голодали.
Да, писатель увидел страшный голод и смерть. Он внимательно выслушал все доводы хозяина земской станции. И что получалось? Земли у башкир было «невпроворот: десятин по 30 на душу, да рук у земли ихней нет. Всю в аренду сдают кыштымским да каслинским мастеркам… Вот тоже два озера за тыщу целковых сдают в аренду, а какая польза? За землю возьмет целковых пятнадцать и все тут. Не велика корысть, а озерные деньги на подати да недоимки. Вот и голодуют…» Впереди было ожидаемо вымирание когда-то сильного племени. Свои впечатления от зимней поездки по Южному Уралу писатель оставил в произведении «Орда» (рукопись на 15 листах). Ордой крестьяне называли степь и всех степняков. Рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости» в 1888 году (№№ 169, 177).
На сайме голодающим выдавали фунта по два муки. Озерной рыбой они питаться, как раньше, не могли: у арендаторов рыбу на озерах ловили наемные рабочие, а башкиры смотрели на них голодными глазами. Они могли рыбачить только у прорубей. Погребов, где можно было хранить провиант, у местного населения не было. Бань не было. Лед таяли они в чувалах (печах) и пили. И выживали кое-как. Как не вымерли совсем? А они воровали лошадей, скот – это их древний обычай такой, баранта. Они считали баранту возмещением за грабеж, устроенный иноплеменниками, хотя сами сознательно к этому грабежу пришли.
Увидев так близко бедственное положение башкир, Мамин-Сибиряк уже не мог оставаться равнодушным зрителем, он старался помогать бедному населению. Наблюдая за степняками, писатель находил характерные особенности народа, он любовался им и одновременно расстраивался: «башкиры самый общественный народ», но в их жизни он видел немало темных сторон, тормозивших культурное развитие, социальное и экономическое, как, впрочем, и у русских. Эта же тема, о землях башкирских, обмане арендаторов очень подробно раскрывается Маминым-Сибиряком в рассказе «Все мы хлеб едим (Из жизни на Урале)». И в этот год, получается, писателю было не до Троицка. Наверное, писатель мог добраться зимой до него, но настроение у него было грустное от всего увиденного, чтобы любоваться интересным городом. Не до Троицка ему было.
В его записных книжках появились сведения об этнических обычаях народов Урала, большое внимание писатель уделял, как всегда, фольклору. Особенно пронзителен его рассказ «Кара-ханым». Считают, что прототипом для художественного образа Кара-ханым, учительницы, стала Мария Якимовна. Она после смерти дочери решила заняться обучением девочек в Екатеринбурге и открыть для них школу. Открыла ремесленную в доме Грачева на Второй Береговой улице. Мамин помогал во всем. Правда, просуществовала школа недолго, не хватило средств на ее содержание, да и сил заниматься ею у Алексеевой после отъезда писателя в 1891 году с Урала не осталось.
В отношениях Мамина-Сибиряка и Алексеевой появилась глубокая трещина. Мария Якимовна все чаще уезжала в Нижний Тагил, где была похоронена Ольга. Дмитрий Наркисович сопровождая ее, но чтобы не впасть в уныние, как она, он бродил по склонам гор с ружьем, эти места ему были знакомы с детства. Еще в 1888 и 1889 годах его встречали охотники и рыбаки под Тагилом у горы Медведь-Камень. Однако летом 1888 года Дмитрий Наркисович решился еще на одну поездку по Южному Уралу. Мария Якимовна с ним не поехала. Между ними нарастала отчужденность, они перестали понимать друг друга, потому и разъезжались в разные стороны.
Подъем Мамина-Сибиряка на гору Иремель был совершен в августе-сентябре 1888 года. Если посмотреть со стороны на Иремель, то можно заметить сходство исполинской, усеченной пирамиды с гигантским седлом. В некоторых тюрских языках есть слово «эмэл» – «седло». Видимо, это и послужило названием для горы. О том, что писатель поднимался на гору Иремель, он сообщал брату в письме 5 октября 1888 года.
Перед восхождением на гору Мамин-Сибиряк жил в башкирской деревне Балбук, здесь ему встретилась знакомая речка Уй, также он обследовал деревушку Тунгатарово. А подняться на высоту 5000 футов было его давней мечтой. И вот – мечта осуществилась! Иремель – это самая высокая и красивая гора Южного Урала, башкиры считают ее святой.
После этого путешествия М.-Сибиряком был написан рассказ «Поездка на гору Иремель (Из летних экскурсий)». Рукопись найдена на 17 листах. Очерк был опубликован в издании «Новости и Биржевая газета». В нем автор изобразил горы и хребты, увиденные им вокруг. Самым красивым, по его мнению, является Уй-Таш. А сама гора Иремель имеет две вершины – Большой Иремель и находящийся севернее Малый Иремель.
Как видим, поездки, которые совершил Дмитрий Наркисович в 1888 году, проходили не рядом с Троицком, но недалеко от него, но писателю, по-видимому, не хотелось возвращаться в те места, которые были связаны одновременно с печальными событиями (болезнь и смерть Ольги) и радостными, потому что любовь здесь, в Михайловке, у них с Марией Якимовной еще продолжалась, не смотря ни на что, они были все-таки счастливы.
Поездки с Поповым по приискам. 1889 год
Да и времени, по-видимому, чтобы посетить Троицк, Мамину-Сибиряку катастрофически не хватало – его всегда захватывало что-то другое и важное. В конце 1880-х годов Дмитрий Наркисович все-таки пытался заняться добычей золота, для чего намеревался взять в аренду золотоносные земли у башкир. В этот период он часто выезжал из Екатеринбурга вместе со своим компаньоном Иваном Васильевичем Поповым (заведующий архивом екатеринбургской городской управы, иногда его называли купцом).
В поездках по башкирским степям писатель проявил себя великолепным товарищем, также замечательным рассказчиком и собеседником. Важно и то, что он легко общался с башкирами, совершенно не зная их языка. Не чурался их обычаев и пристрастий, например, на их предложение откушать национальной еды – вареной баранины он, как и они, прямо руками из котла брал куски мяса, ничуть не смущаясь, подсаживаясь к огню.
Рассказы о своих путешествиях по приискам Мамин-Сибиряк включал во многие свои произведения, например, в «Байгуш (Из путешествий по Южному Уралу)»: «Мы ехали из Балбука, – так назывались золотые промыслы, – по маленькой башкирской деревушке. Официальное название этих промыслов – Каратабыно-Баратабынские, Оренбургской губернии, Троицкого уезда, Тунгатаровской волости». С компаньоном Поповым он был в Балбуке именно летом, а еще ему запомнилось озеро Алакуль, и Троицк вообще не вписывался конкретно в эти поездки.
Путешествуя по Южному Уралу в поисках золотоносного прииска, Дмитрий Наркисович собрал материал для дальнейших своих работ. Очерк «Горная ночь (Эскиз)» был написан им в 1898 году. Произведение вошло в полное собрание сочинений писателя (приложение к журналу «Нива», т. 11, 1917). «Мы путешествуем по Южному Уралу с полным комфортом, какой может быть только привольная жизнь на золотых промыслах, – сообщал в этом очерке писатель. – Мой спутник, Александр Васильевич, любил удобства вообще и в данном случае хотел сохранить престиж главного управляющего целой золотоносной системы. В этих видах впереди нас шла тройка с палаткой и кухней, а назади – другая тройка с прислугой. К этому еще нужно прибавить проводников и почетную стражу из любопытных башкир». И далее:
«Завтра ранним утром мы выступаем в поход уже верхом, а наш обоз останется на месте. Вызваны были специалисты – проводники-башкиры…»
Героев для своих произведений не нужно было искать Мамину-Сибиряку специально, их представляли ему сама жизнь, Урал. Он внимательно присматривался к своему окружению и видел нужных ему героев:
«Бураков принадлежит к числу промысловых темных людей, имя которым легион. От настоящей мужицкой работы он давно отбился, а жил так, чем придется, как живут только на Руси. …Бураков привозил нас на охоту, привозил кумыс, добывал откуда-то рыбу и т.д.»
Из таких деталей, вроде бы незначительных на первый взгляд, писатель собирал каждое свое произведение, как яркую цветную мозаику.
В поисках подходящих приисков для собственного промысла времени у Мамина-Сибиряка не нашлось для посещения Троицка, да и отношения его с Марией Якимовной разваливались, он это понимал. Алексеева винила себя в смерти дочери, как будто бичевала себя кнутом, и чтобы отвлечь ее от собственного терзания, писатель торопился в поисках. Он знал, что это дело, связанное с добычей золота, станет Алексеевой по плечу, отвлечет ее от горя, и отношения их вполне возможно наладятся. Да и ему самому хотелось быть независимым в денежном плане, ведь все эти годы материально его поддерживала Мария.
Поиски золота и уральских самоцветов. 1890 год
В мае 1890 Мамин-Сибиряк выехал в Москву, чтобы в редакции «Русской мысли» сделать разумные сокращения «Трех концов». В Москве он также посетил типографию Д. Бонч-Бруевича, где печатался роман «Горное гнездо». Впервые в эту поездку писатель отправился без Алексеевой, с которой до этого он бывал в Москве в 1881, 1885–1886 годах. Мария Якимовна была занята подготовкой к открытию ремесленной школы для девочек. Но причина ее отсутствия в этой поездке была серьезнее: назревал ее неминуемый разрыв с Дмитрием Наркисовичем.
Многие исследователи считают, что толчком к этому разрыву стало получение Марией наследства умершего Алексеева, ее бывшего мужа. Писатель якобы был против этого наследства. Но я не думаю так. До получения Марией Якимовной наследства, Дмитрий Наркисович годы жил на средства, заработанные ею и поступавшие от бывшего ее мужа, пока не стал получать гонорары за публикацию своих произведений. И он прекрасно понимал, что наследство от Алексеева, отца, прежде всего, необходимо детям Марии Якимовны.
Летом 1890 года Мамин-Сибиряк ездил в раскольничьи скиты. Это такая была глушь Урала! Было совсем нереально из этой глуши выбраться в Троицк, не по пути. Писателя заинтересовали раскольничьи монастыри, раскольничья тема его волновала, она войдет во многие его произведения, он посвятил ей, в частности, и очерк «Медвежий угол» (1891).
Продолжались также поездки его по Уралу с И.В. Поповым. Друзья интересовались золотыми приисками и уральскими самоцветами. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк был увлеченным человеком, однажды он стал коллекционировать самоцветы. Это увлечение продолжалось всю его жизнь. В 1883 году писатель познакомился с А.К. Денисовым-Уральским, владельцем копей, в которых добывались изумруды (известно, что в 1891 друзья встречались в Санкт-Петербурге). Месторождения изумрудов Денисова находились в Троицких копях, это в 80-ти верстах на северо-восток от г. Екатеринбурга. Троицкие месторождения отличались от всех других, известных тогда, своей мощностью. Изумруды сопровождали минералы: александриты, хризобериллы, аквамарины, рутилы, актинолиты, фенакиты, гранаты, кварц. Но упоминаний о том, что писатель бывал в Троицких копях мною не найдено.
Вообще Мамин-Сибиряк точно знал, где искать уральские камешки, он владел обширнейшей информацией:
«На Урале розовые топазы встречаются только в Оренбургской губернии по берегам речки Каменки, Синарки, а винно-желтые на Южном Урале и в Сибири».
Он считал что существует «большая разница между топазом ильменским и мурзинским…» На ильменских копях он бывал. Мурзинку в Среднеуралье он посетил с Поповым в 1890 году, потому и мог сравнить найденные камешки: «Соперником Мурзинки и по богатству и разнообразию минералов служат Ильменские горы, отрог Южного Урала. …Но южноуральский камень имеет скорее научное, а не промышленное значение. Кто составляет минералогическую коллекцию – для того Ильменские горы, будут интереснее, пожалуй, Мурзинки». Получается, коллекционирование стало тоже препятствием для его посещения Троицка, увлеченный интересными поездками писатель вряд ли вспоминал тогда об этом городе.
Театральные пристрастия и писательские планы
Существовали и другие причины, которые помешали Мамину-Сибиряку добраться до Троицка. Мамин-Сибиряк со студенческих лет полюбил театральные представления. Не пропускал интересные спектакли, конечно, живя в Екатеринбурге. Часто в городе проходили гастроли любительских театров.
Осень 1890 года изменила жизнь Мамина-Сибиряка. В Екатеринбург на гастроли приехала артистка, примадонна драматической группы Мария Абрамова. Она и стала причиной окончательного разрыва Мамина-Сибиряка с Алексеевой. И все планы, задачи, цели писателя, связанные с Уралом, вдруг в одночасье ушли в никуда. Настигла неожиданно, а, может, ожидаемо, его новая любовь, и думаю, что его мысли о Троицке рассеялись окончательно, улетели, как легкие облака.
Да и планов у него было разных еще сколько! Сотрудничая с «Екатеринбургской неделей», он составил себе целый список тем, которые намеревался осветить в газете и в своих произведениях:
О съездах горнозаводчиков.
О кустарных промыслах.
О значении ярмарок.
О статистике.
Об уральском землевладении.
О значении уральской истории.
О башкирах.
Об озерах.
О пчеловодстве.
О городском хозяйстве.
О народном образовании.
О благотворительности.
О медицине: наука и практика.
О земском хозяйстве.
О золотопромышленности.
О каменном мастерстве.
О лесном хозяйстве.
О каменном угле.
О горнозаводских товариществах на казенных заводах, именно в Гороблагодатском округе.
Об эмеритуре горных инженеров: где деньги, которые вносили рабочие монетного двора и другие. Судьба капитала Петрова, пожертвованного на воспитательный дом.
Конечно, Мамин-Сибиряк уже о многом написал, создав грандиозную своеобразную энциклопедию об Урале именно с 1877 года по 1891, сколько б он еще вопросов осветил, показав жизнь, какая она есть на самом деле, если б остался жить на Урале, одному Богу известно. И я уверена, что Троицк он обязательно бы посетил.
Последние поездки по золотым приискам. 1891 год
Действительно писатель создал своеобразную энциклопедию Урала. «Вы открыли целую область жизни, до вас неизвестную нам, – писал А.М. Горький Д.Н. Мамину-Сибиряку. – Область эта – Урал». Мамин-Сибиряк стал нашим уральским летописцем: поездки, общение с местными жителями, полученные знания из научной литературы и от ученых пригодились ему для писательского труда. Вместе с Поповым он исколесили весь Урал, по Березовскому тракту, например, друзья добрались до новых платиновых приисков в 1891 году. Им казалось, что вот-вот они настигнут свою удачу на Южном Урале, но, увы. Не смогли они влиться в ряды золотоискателей, причин было много, но это другая тема.
Троицк так и остался только в мечтах Дмитрия Наркисовича. Да только ли Троицк? Многого он так и не увидел. Что же получается? Когда он был рядом с городом, посетить его не было возможности, когда появилась возможность, он сознательно избегал тех мест, которые его больно ранили. Он не увидел уникальную архитектуру частных купеческих особняков, известные русские архитекторы оставили свой след в городе. Троицк дал миру знаменитого российского адвоката Ф.Н. Плевако и известного русского баснописца И.А. Крылова – сегодня нам известно, что именно в Свято-Троицком соборе был крещен Иван Крылов сын Андреев. Однако, не доехав до самого Троицка, писатель исследовал местность недалеко от него, оставив ее описание в своих произведениях, об этом знают жители, и в городе есть улица, носящая имя Мамина-Сибиряка.
Были и другие причины, помешавшие ему побывать в Троицке, например, археологические раскопки. Поездки же с И.В. Поповым по Уралу прекратились только с его отъездом вместе с М.М. Абрамовой, актрисой любительского театра, в Санкт-Петербург в марте 1891 года.
Надежда Лысанова
Tags: XIX век, башкирские степи, география творчества, золотодобыча, историко-литературный анализ, кумысолечение, личная драма, Мамин-Сибиряк, маршрут писателя, Михайловка, прииски, путевые заметки, Троицк, уральская проза, уральская энциклопедия, Южный Урал













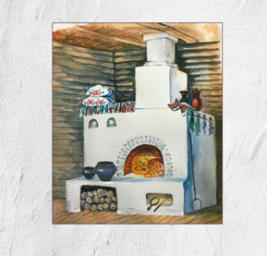
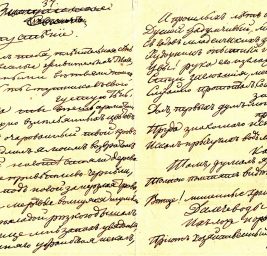


















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ