Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского
- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе
- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ
- Саша Чёрный. Страшный мир
- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ
О новой книге Анны Поповой: путь к Слову. Впечатления
11.11.2025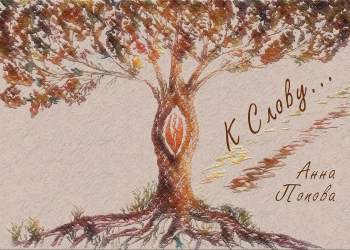
Я – не начало. Только ещё затакт,
Первая нота праздничного хорала.
Главный герой книги – Слово, язык, и это не случайно. Уникальное слияние филолога и Поэта рождает совершенно новые смыслы и формы, которых до сего дня не было. Вот уж действительно сам Язык во всей своей красе предстаёт перед нами и как объект и как субъект восприятия и, главное, – выражения. Поэт-филолог пишет и вне и «изнутри» языка, он и здесь с нами, и «там», как язык – и материальный, а в основном – духовный, предназначенный для рождения, выражения новых ещё не познанных смыслов («Непойманные (слова)», «Первослово»). И видишь, что истинная жизнь Поэта – в языке, а не в реальной действительности, в которой он, впрочем, очень активен. Вот уж истинно «поэт и гражданин» слились воедино в нежной женщине…
Язык, его неповторимый и непостижимый образ рождает прочную образную нить сборника и всего творчества Поэта – связь времён, связь нутряную, врождённую, которая развивается, упрочается с течением времени, связывает мельчайшие ручейки-капилляры его жизни в единую вечную реку жизни. Как эритроциты несутся в кровяном потоке, питая кислородом весь организм, так Поэт ощущает себя частицей единого мира, которому служит честно, беззаветно всей своей жизнью, творчеством. Эта тема становится главной, прочерчивает все разделы книги.
Но что отличает музу А. Поповой от всех прочих поэтов и не поэтов? Гармоничное соединение несоединимого – таинства творчества и широчайшего и глубокого интеллекта филолога – это и рождает Небывалое: Поэт предстаёт как провидец и выразитель таинств живой жизни, в которую он осознанно проникает с помощью языка, профессионально им изученного. Первична творческая интуиция, но проверяется она интеллектом. «Я» Поэта объединяет самую суть текущей жизни и каждого персонажа его стихов с Бытием беспредельного мира. «Бусины» образов, увиденные в живой жизни, – щедро рассыпанные первозданные метафоры («Зарождение») – прорывают привычное слежавшееся бытие, представляют его молодым, задорным, хулиганским, бунтарским – вечным… Это делает книгу необычайно современной не по заявке автора, а по сути. Она объединяет проросших в душе и сердце живых Пушкина и Тургенева и многих, многих других творцов, питающих душу, нечаянно проявляющих свой дух, свои ритмы в стихах автора. Стихи удивительно современны «изнутри» – сразу и не объяснишь… «Пушкинская дилогия» – чудо – вот уж живой Пушкин «на корабле современности» в понимании благодарных потомков… Звонкий прозрачный стих переливается в ритмическую прозу, но всё равно прорывается сквозь неё, неугомонный весенний ручей. Это не вымученная форма, а живая душа поэта, его «поведение» (М. Пришвин) в поисках читателя-друга. Поэт строго оценивает и «падшее время» и себя как часть его. Ему претит и ложь «лиричной плаксивости», и «возвышенная дичь». Общее настроение: «Печально я гляжу на наше поколенье…». Лермонтовские интонации превращаются в грозные раскаты Маяковского: «Отставьте сахарную воду, унылую «любовь-природу» – и розы-слёзы при луне!» Затёртую фразу «Пушкин – наше всё» Поэт ощущает как «всё» не кончилось на мне!» Пушкин передал потомку «касаньем строк, душой к душе» главное – новое неизведанное восприятие мира:
Ему достанется – побыть небом.
Могучим морем. Громовым ветром.
Атлантом древним. Молодой верой.
И оголённым, живым нервом.
И необъятной землёй. Громадой.
И рассказать, что идти – надо,
освобождаться от древних пут.
Ломать канон, прорубать чащу. И будет ярко. Навзрыд. Летяще… И только лёгким не будет
Путь.
Заветы Пушкина Поэт облекает в современную актуализированную структуру, перетекающую из графики стиха в прозаическую строку. Присоединение, нагруженное смыслами, рождающимися на наших глазах, заканчивается парцелляцией, выделяющей общее – вечный путь к идеалу…
Книгу и первый цикл открывает стихотворение «Словарь». Волшебное Слово «замолаживает» заворожило молодого В. Даля и стало импульсом к созданию величайшего памятника русской культуры – «Живого великорусского словаря…», который врач В. Даль собирал всю жизнь. Стилизация русской речи сочетается в стихотворении с космическими образами:
и глазами, по-юному зоркими,
увидал на бессмертном посту,
как сгоняет стада поговорками
ясный месяц – небесный пастух…
«Стада» слов превращаются в драгоценности народа, в суть его духовной жизни. Эти слова живут в нём вечно. Иногда они отходят, прячутся, как слова высокого стиля в ХХ веке, но пришло время их оживить…
Цикл «Язык мой, брат мой» не имеет примеров в мировой лирике. Это вечное древо жизни, прорастающее сквозь века, питающее чистый родник народной души («Слово (Дерево)»):
Я каждый раз – как с чистого листа…
Теченье силы сквозь кору согреет…
Я без тебя – пустышка, пустота,
с тобой же – малый лист на этом древе.
И здесь перекличка времён: молодой И. Бродский, только вернувшийся из архангельской ссылки, пишет:
Путь певца – это родиной выбранный путь.
И куда ни взгляни, можно только к народу свернуть,
Раствориться, как капля в бессчётных людских голосах,
Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.
< …>
Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз.
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.
Поэту-филологу подвластно выразить и сам процесс мучительного, но и «сладчайшего» (И. Бунин) поиска слова и озарения, когда его находишь («Непойманные (слова)», «Зарождение»), и «первослова» всей человеческой цивилизации: «маленькое «ма» – как преддверье речи» – каждого человека, всё, что соединяет его с миром («Первослово»). Поэт проникает внутрь «Лаборатории», в которой нескончаемая агрессия компьютерных «чужих обрубков» постепенно перерабатывается языком.
Поэт – переводчик языка простой обыденной жизни на Язык Божественной гармонии, проникающей в суть Бытия, создающей духовную жизнь народа. Здесь неразрывно связаны все предшественники: Ахматова и Цветаева, Маяковский и Есенин и все другие прочие, рождающие новый «язык мгновений»…
Будто я по Лету тому – паломник,
будто мне начертано на роду:
через боль неверья – чертополоха –
я себя на русский переведу…
Стихотворение «Язык мой, брат мой» заключает цикл откровений поэта-филолога, его духовной мудрости. В нём яснее проявляется филолог. Как когда-то М. Цветаева поворачивала разными сторонами имя любимого поэта, открывая в нём новые грани смыслов (Имя твоё…), так современный поэт-филолог воспринимает современный язык с разных сторон. Он с тревогой наблюдает за современными языковыми процессами, но Поэт-оптимист перевешивает, потому что знает: «Не сгину в шуме разноголосиц…». Он доверяет бунтарской молодости, «наивным страшным максималистам», он сам пережил эти времена и сейчас живёт жизнью молодости, находится в её гуще… Для него язык и Победоносец, и «супруг мой ласковый, сокол мой»… Он ощущает нерв времени, поэтому ему не страшна ни старость, ни смерть. Родной язык вечен, неубиваем. Его музе чужд пафос, но его творит сам язык: анафора создаёт возвышенный слог, заставляя вспомнить классических предшественников, показывая вселенское разнообразие восприятия языка.
Поэт – частица современности, он вписан в неё как в неделимую часть вечного Бытия. Грозные Библейские ветра веют в стихотворении «Время копий». Антитеза двух омонимов – заимствованной копии и общеславянского древнего копья – вызывают холодок по коже. Смутное время нескончаемых ремейков, перепевок, очередного «продукта для быдла» – бездуховной зияющей пустоты заканчивается. Приходит время копий… Древнее значение этого слова: бить, ударять, рубить, колоть, копать, рубить – разить. Образ Святого Георгия витает над нами, хотя он даже и не назван:
Приходит гордое время копий,
время змеев под копьями,
время прямых дорог…
Такие философские провидческие пробросы наблюдались и прежде, но здесь на стыке циклов они действительно разят читателя… В воле Поэта – разить и поразить несколькими словами отвратное, до донца ещё не обличённое, заражающее мозги и души, как в стихотворении «Две песни»:
Как хрипатая тётка –
где-то там в виртуалах
мелко злобствует, раздувая былой пиар.
Успокойся, глупая…
Иль кусок не лаком?
Перебои с подачками?
Плохо? Не та уж прыть…
На связи времён построено стихотворение «Прозвища»: «Изба горела от сеней до горницы…». Опять наступило время утрат и возрождения, и бесчисленные русские люди Коля Негорюй, Степан Култышка, Василёк Почуточка, Афганцы и Афганы приняли это время как избавление от национального позора и небытия. Алёша Волк – упрямый позывной – стоит на страже, закрывая собой страну… За этими прозвищами стоит целый словарь, созданный автором-филологом…
Война присутствует в книге не впрямую, а через сердечную неутихающую боль: мы слышим душой слова ушедшего героя-воина:
Не плачь, сомкнётся времён впадина, мы без надрыва, светло споём… по мне не надо носить чёрное. Ты лучше яркий венок сплети, я здесь, родная, отставить панику, я сон былинок и свет былин, и рожь, и речка, и… я не памятник,
а просто память своей земли…
Положить жизнь за други своя – высшая христианская ценность. Только этой ценностью выживет Русь-Россия – «Христос Воскресе»… («По мне не надо носить чёрное…»).
Обыкновенная жизнь течёт себе, а образы убиенных живут в душе саднящей раной. Поэт не забывает «о спортзале с койками, мёртвых телах в воде, и ребятах с мамками – жертвах чужих «сафари», ибо нелюдям только дай пострелять в людей» («Две песни»). Опять антитеза: «хрипатая попса» и военная Песня – «осколок солнца блестит на её щеке»… Жизнь победит: «В опалённую рощицу входит моя Весна».
Все поэтические книги А. Поповой – и эта тоже – проникнуты размышлениями о собственной жизни: детство, школа, студенческая юность, друзья и соратники, студентка, а потом преподаватель в гуще университетской жизни… Здесь больше внимания уделяется родному факультету, любимым студентам. На каждом этапе периоды жизни осмысливаются по-разному – автор мудреет. Но память о боли непонимания обнажённой души остаётся – это роднит с предшественниками:
Вытянешь руки – дадут тебе по рукам,
смех за спиной и голоден, и отрывист.
Вот я влетаю заново в тот капкан,
в собственную доверчивость и открытость… («Что-то вроде кредо»)
Жизнь ничему не учит «чудачку» – она всё такая же неугомонная – безоглядно душу и силы отдаёт любимому делу, не требуя никаких наград. Она так же, как когда-то «наивна и честна той скальной мощью, данной на века»…(«Скала»).
Любимый созданный Поэтом жанр стихофразы тоже о вечных связях всего со всем. Отдельные стихофразы превратились в цикл о вечном, непреходящем, чем жива чистая душа народа и Поэта. Заброшенная деревушка Счастье и волшебное, невыговоренное, родное – мир, в котором всё едино («Стоячая вода»), мир, в котором ничто не уходит, всё рядом, все поколения живы единым духом, надо только разглядеть это родное, вечное («Нить жизни», «Божья ладонь»). И «Кто я? Точка пересеченья. В многоточии у судьбы» («На роду написано»). Выпадешь из родного мира – всё закончится плохо («Родился в рубашке»).
Два стихотворения – две антитезы размещены в разных разделах. Они о сокровенном, о чём Поэт пишет редко – об отношениях мужчины и женщины. Если они едины, жизнь расцветает, а если нет, значит, судьбы не состоялись… Одно навеяно стихотворением в прозе И.С. Тургенева «Два брата». Она – Любовь, правда, несостоявшаяся и бестолковая – но ведь она была готова к любви? Он – со взглядом «голодной и хищной птицы» «тешит незадачливые амбиции – ухватить, урвать, куда-то к тузам пробиться…» («Любовь и Голод»). Приговор: жизнь – «заброшенный эскалатор», из которого нет выхода…
Стихофраза «Вторая половина» тщательно зашифрована. От чьего имени написано стихотворение? От имён обоих – они едины… Затаённый, сокровенный диалог двух родственных душ:
«…У тебя молодая душа цветёт, заполняя трещины и пробелы, завелось озорное зверьё в лесу, луг наполнился ликами полевыми… Дорисуй, хорошая, дорисуй… на моей обескровленной половине»… «И знакомое: на, дурачок, бери!»… «Я сержусь, а потом всё равно беру – чтобы ты продолжала со мной делиться…
Мы сидим… гитара, стихи, пирог… и вот это всё умножаем на два…».






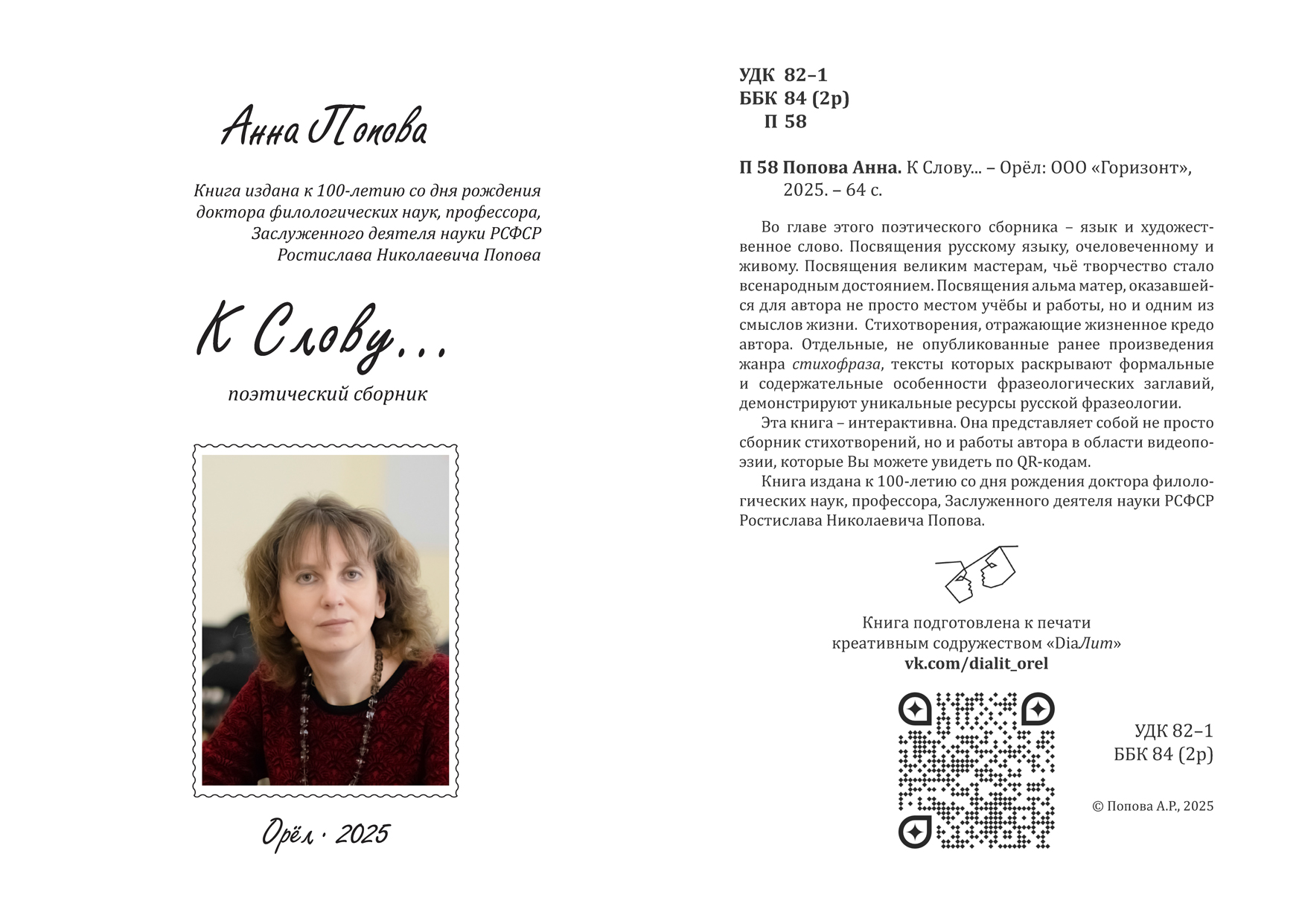


























НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ