Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»
- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»
- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы
- «Как на турецкой перестрелке…»
- Николай Бут — «Мир на Земле»
Снова смеются колокольчики
25.11.2025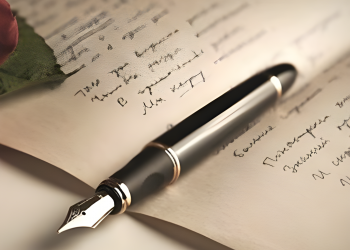
Рецензия на книгу «Время колокольчиков. Прямая речь». Сборник стихотворений финалистов IV-го конкурса поэтов «Время колокольчиков. Прямая речь», посвященного А.Н. Башлачёву. — М.: Стеклограф, 2025. – 100 с.
Для меня Александр Башлачёв — прежде всего, автор строк:
«…Тут дело простое —
нет тех, кто не стоит,
Нет тех, кто не стоит любви…»
На этом завете и основан поэтический конкурс памяти Александра Башлачёва, учрежденный по инициативе его семьи и поддержанный властью, бизнесом и культурой Череповца, проведенный уже в четвертый раз. «Сердце» конкурса – родной город Башлачёва, но география его значительно шире: стихотворные посвящения ему пишутся в разных регионах. Сборник стихотворений победителей и призеров 4-го конкурса вышел в московском издательстве «Стеклограф», а значит, творческое состязание имеет не локальное значение.
Немного странно, что сборнику не придали «самостоятельное», отличное от названия конкурса заглавие. Зато он составлен с изюминкой: подборки авторов публикуются с эпиграфами из Башлачёва. Перекличка эта усилена заключающим книгу культовым «Временем колокольчиков». Составители позиционируют нашу эпоху как новое «Время колокольчиков», к которому взывал поэт:
«…И пусть разбит батюшка Царь-колокол,
Мы пришли, мы пришли с гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами…»
В творчестве авторов сохраняется вера в бессмертие звука, слова и русского духа:
«Загремим, засвистим, защёлкаем!
Проберёт до костей до кончиков.
Эй, братва, чуете печёнками
Грозный смех русских колокольчиков…»
Нынешние последователи Башлачёва, слава Богу, его не «клонируют» (иначе в конкурсе не было бы смысла), но подражают рваному ритму стиха, составным рифмам, а главное – настрою от откровенной дряни вознестись к пусть мучительному, но возрождению. Похоже, некоторые авторы взяли «от Башлачёва» самые «свинцовые мерзости жизни». Таковы тексты обладателей высших мест – Дмитрия Михеенко (1-е) и Алены Филоненко (2-е).
Михеенко рисует девяностые с помощью подбора негативных кадров:
«Мне всё приснилось: бедное детство,
Пермь и плохое папы наследство,
фотообои с видом на Ниццу,
спирт на слабо и шторы в больнице…»,
и педалируя мотив «сна во сне». Да простит меня поэт, но мне его описание поры взросления напомнило «Жизнь в ста словах» Игоря Аглицкого с финалом «Речи. Гроб. Прощанье. Плач». Еще от Башлачёва у Михеенко почти неологизм «межсезоньеце» и любопытная игра слов:
«Мой лайнер встречает «Шарик»,
на «Водный» везёт автобус.
В столичных маршрутах шарю,
немного боюсь метро.
И встреча моя на шару,
как шарик встряхнула глобус…»
Алена Филоненко в описании писателя-художника неласково отметила:
«Его конечности были крабьими лапами.
Мясистые фаланги
А ступни широкие, гусиные.
И вот он ходил,
Впечатываясь в мокрый асфальт.
Потом дома рисовал,
Взяв натурой себя…»
Обладатель 3-го места Виктор Лукьянов ответил на слова Башлачёва
«…Всяк на своём.
Но я не боюсь измениться в лице,
Измениться в твоём
бесконечно прекрасном лице…»
длинной «Редукцией» о любви. Мудреному термину, толкуемому в зависимости от контекста употребления (в целом это объяснение более сложного через закономерности более простого) не соответствует вычурная подача того простого факта, что чувство «не срослось»:
«…Едва
ещё слова цеплялись за слова,
чураясь семантических мутаций
от «л» до «ю» меж «l» да «you». Лукавство
амбивалентных «между»! Час настал.
Ты тайно покидала пьедестал…»
Лично я бы дала гран-при обладателю спецприза жюри Андрею Таюшеву. В его творчестве «веет» далеко не только Башлачёвым. Чего стоят отсылки к Данте Алигьери, эксцентрично повенчанные с Некрасовым:
«…Сквозь сумрачный лес пробираясь на ощупь,
плутая и путаясь, и трепеща,
пугаясь всё чаще той чащи зловещей,
пройдя свою жизнь где-то до Ч-Ш-Ща,
Я из лесу вышел ни валко ни шатко.
Равнина и лес осиянны луной.
Гляжу: поднимается в гору лошадка,
а рядом с ней – я. И совсем молодой…» —
Мандельштаму и Ерёменко. Связь же с Башлачёвым проявляется в характерном для Таюшева мотиве скитаний, не осознанно выбранных, а посланных судьбой:
«…наши души в вагонах плывут
привыкая к забвения холоду
говоря прошлой жизни мерси
по пути из Парижа на Вологду
и из Вологды на небеси…»
Сборник ценен разноплановостью. Есть здесь тексты, балансирующие между верлибрами и силлаботоникой, религиозно-философские (Анна Хрусталева) или любовно-лирические (Татьяна Лукина). Лукина меня удивила «пунктирным портретом» Стамбула: существительные, прилагательные и глаголы через запятую. Есть чистые верлибры Марии Крупениковой, пронизанные лейтмотивом утраты. Есть пейзажи, и среди них огромное место занимает Питер, судьбоносный для Александра Башлачёва город. Наверное, именно его окликала Татьяна Лукина рефреном «У каждого должен быть друг из Питера». Впрочем, многие авторы живут в Петербурге и, как века назад, воспевают его. Есть остросоциальное «Трехсотый» Марины Рыбкиной о поэте из горячих точек. Есть духовные стихи Виктории Беляевой:
«…И с той поры я не боюсь
закончиться во мраке.
Я знаю, холод – не конец.
Я знаю, светит мне Отец.
И я иду сквозь страхи…»
Меня подкупили строки Светланы Блохиной, иллюстрирующие цель и смысл конкурса:
«Как же страшно, как всё-таки
страшно
Жить и так ничего не создать.»
Конкурсантам бояться нечего. Хорошие стихи они уже создали.
Елена Сафронова
Tags: Александр Башлачёв, издательство Стеклограф, конкурс Время колокольчиков, поэтический конкурс 2025, рок-поэзия, современная русская поэзия, Череповец








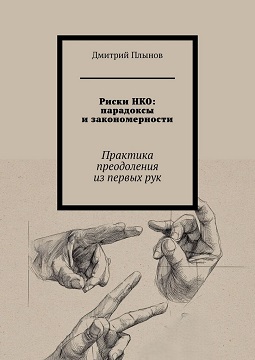
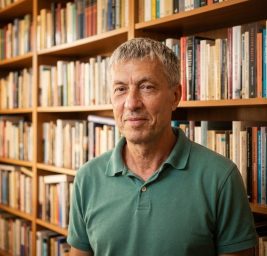
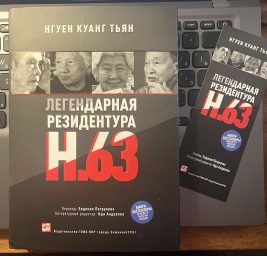














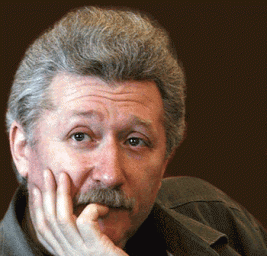






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ