Игорь Белкин-Ханадеев. «ПРЫЖОК БЛОХИ». Рассказ
12.04.2017
/
Редакция

2017
— Постричься? — подала голос женщина средних лет, сидевшая за администраторским столом. До моего прихода она с кем-то взволнованно и наставительно говорила по телефону и сейчас, задав мне вопрос, продолжала прижимать к покрасневшему уху трубку. Нижнюю часть мобильного, в которую только что был высказан совет «уходить от этого козла», администратор прикрыла ладонью.
— Ага, — я снял кепку и кивнул.
— Ба-аха-а! — протяжным выкликом позвала она того, кто будет меня стричь, и застыла в нетерпеливом ожидании. Её глаза смотрели поверх очков, поверх меня, поверх этого предбанника парикмахерской куда-то в воображаемую временную точку, на которой прервалась телефонная беседа.
— А где Фархад?
— Фархад уехал, — торжественно объявила женщина.
— К себе домой?
— Не знаю. Говорил, собирается в Штаты на ПМЖ!
— О как! — удивился я, — Раскрутился парень. Рад за него, хотя, конечно, жаль, стриг он хорошо.
— Да вообще, наша парикмахерская — как плацдарм какой-то, трамплин… Только научатся стричь нормально — тут же куда-то уходят, уезжают: в дорогие салоны, заграницу… Баха!
На раздражённый зов появился смуглый парень с весёлой прыгучей походкой и запахом мятной жевательной резинки. Улыбка, сросшиеся на переносице брови, персидские глаза, как у девушки, и белая футболка в облипку. Очень рельефные тренированные мускулы, но тонкие. Про таких ребят раньше говорили — жилистый, а как теперь — я не интересовался. Мы прошли с ним в зал, где стояли кресла и в зеркалах отражалась солнечная пыль. Он указал, куда сесть, и повязал мне на шею тёмно-синюю накидку, покрывшую меня целиком, вместе с коленями. Я был рад, что под нейлон ушли выцветшие пузыри на моих поношенных джинсах.
— Как стричь?
— Сзади и на висках сделайте совсем коротко, а сверху — на полдлины.
— Виски прямые, косые?
— Всё равно….
Зажужжала машинка, коснулась моей головы за правым ухом, и я, рефлекторно отклонившись влево, заметил, что надпись на визитке, приклеенной к зеркалу, уже исправлена. Имя «Фархад» замарано белым, и теперь поверх застывшей замазки было выведено от руки:
«Баходур, мастер-универсал».
— Откуда вы?
— Из Таджикистана, — ответил он гордо и почти без акцента, — Я университет закончил в Душанбе — по русскому языку и литературе. Но в этой сфере работы нет. Теперь стригу.
Я вздохнул, выразив что-то похожее на сочувствие.
— А вы случайно не знаете английский? — быстро перевёл он на тему, которая, видимо, была для него более актуальной и близкой: желанной, жизненной, животрепещущей.
— Знаю, — ответил я, и рыжие клочья моих «бакенбардов», придававших мне последние дни вид пьющего мужика-дворняжки, упали на накидку и поехали по гладкой ткани вниз, на пол.
— Свободно владеете? — допытывался Баха, фиксируя мою голову в вертикальном положении.
— Уже нет. Без практики язык забывается. Особенно разговорный.
— А я хочу выучить. Хочу заработать себе на курсы английского, — мечтательно произнёс Бахадур, вгрызаясь машинкой в мой затылок.
— Зачем? — удивился я.
— В Америку уехать. Там здорово!
«Москва тебе что — перевалочная база? Почему тебе не жилось у себя на родине…» — понеслись в моей голове вопросы, которые я никогда не осмелился бы задать вслух.
— Как собираетесь зарабатывать там, если не секрет? — нашлись наконец и нужный тон, и корректные слова.
— Да я многое умею. Я и электрик, и стилист, и даже чёрный пояс по карате есть. Ну, на крайняк, русский язык преподавать могу, если кому надо…
«Стилист…» — мысленно ухмыльнулся я.
А вот про чёрный пояс задело, отозвалось старой, уже почти забытой детской болью…
— А вы там были, в Америке? — с затаённым желанием услышать утвердительный ответ поинтересовался мастер.
— Нет, — соврал я и, в свою очередь, спросил, стараясь удержать снисходительную усмешку:
— А вы?
— Нет, но…
Я слушал звонкий перещёлк послушных ножниц в его руках, а он рассказывал о том, как удачно устроились за океаном его дальние родственники, друзья и однокурсники, и, с его слов, все они, как один, сначала приезжали пообтереться в Москву, а потом уже совершали этот смелый, немыслимый прыжок в счастливое будущее.
— А-а…
«Прыжок блохи…» — подумал я.
Так назывался старый фильм гонконгского производства. Главный герой никак не мог победить соперника, неудачи преследовали до тех пор, пока беспринципный выпивоха-сенсей (или как там по-китайски…) не научил юнца хитрому обманному удару в прыжке: «Скачи, как блоха, обманывай и кусай, впивайся, пей кровь…» В Союзе подобную зрелищную дребедень начали показывать с восемьдесят пятого, в видеосалонах. А мне не повезло насмотреться всего этого чуть раньше. Мне тогда было всё равно — кунфу, карате или ниндзютсу, честный бой или не совсем. Овладеть восточными единоборствами, научиться драться и защищать себя — было моей мечтой.
Чик-чик-чик-чик — поют ножницы в руке Баходура, и мои мысли погружаются в прошлое — восстанавливают в памяти события тридцатилетней давности — так эндоскоп исследует слизистую желудка в поисках застарелых рубцов от язв.
1983
— Ки-я-яй!
Девочка с аккуратной, заплетённой от самого темечка чёрной косицей выполнила последний «кик» по тени и, ретировавшись на исходную позицию, поклонилась. Веселая, вертлявая, непоседливая. Даже в деланно-скромном поклоне — озорство. И в серии заученных движений — небрежная лёгкость. Девочка большерото улыбается, сияя брекетами, и корчит мне, новичку, гримасы. Смугловатая, со странными для такой кожи веснушками на носу. В глазах азиатская косинка — совсем чуть- чуть. Это делает её похожей на египтянку, иранку или таджичку. Но девочка местная. А у местных характерное выражение во взгляде — типично североамериканское. Она явно младше меня, меньше ростом и суше телом… Ей очень идёт кимоно и… — я ревниво разглядываю завязанную в нехитрый узел алую полоску плотного материала — … и красный пояс. Уже красный! У какой-то девчонки! Мне любопытно, долго ли она занималась в этой секции. В любом случае, вряд ли она умеет больше, чем просто демонстрировать «ката». Ох, когда же я сам смогу выйти в центр зала на татами и вот так же:
— Ки-я-яй!
И рукава, штанины, вся эта сверхпрочная белоснежная новенькая ткань кимоно будет, как парус на ветру, хлопать от моих быстрых, резких, молниеносных движений, ударов, комбинаций.
Ката очень зрелищные, но я уверен — они не главное в карате. Разумеется, я легко запомню, отработаю, покажу сенсею и судьям всю последовательность стоек, все эти блоки, кики, «маваши», а потом, когда мне присвоят — ну ладно, для начала и совсем ненадолго — цыплячий жёлтенький поясок, тогда начнутся, наконец, долгожданные спарринги, и я:
— Ки-я-яй!
Легко одолею — нет, не эту непоседу, с ней я драться, конечно, не буду, она ж девчонка — а какого-нибудь пацана, который сильнее, тяжелее и выше меня ростом. Местного. Америкашку. Конечно же, пацан будет наглый и на первых порах будет давить, но в конце поединка я его проучу. Из последних сил. И в чужих, близко посаженных к расквашенному носу глазах вспыхнет уважение — ко мне, Димке-победителю, русскому, сыну советских дипломатов.
— Хай, Ай’м Боб, — скажет побитый американец, подобострастно протягивая мне руку.
— Энд ай’м Дима, — прозвучит великодушный ответ. И я пожму ему руку и похлопаю проигравшего по плечу:
— Знай наших!
Фантазия иссякла, и картинка ушла вместе с мерцающим блеском девчоночьих брекетов. К моим родителям вышла сэнсей. Почему-то тренер — женщина, а не старый мастер-кореец или японец, как я себе представлял из недавнего фильма — очередного зрелища на тему восточных драк. Типичная американка — улыбаются только зубы, которые одного цвета с кимоно, а зелёные глаза хищно, настороженно рассматривают клиентов. Для неё мои родители, пришедшие устраивать сына в секцию — иностранцы из далёкой опасной страны.
— USSR? — на мгновение глаза, округлившись, достигают размеров серебряного доллара, того, что с профилем Кеннеди.
Папа дружелюбно кивает, источая дежурное обаяние.
«Да-да, русские, социалистический лагерь, — бормочет женщина-сэнсей, — я знаю. У нас занимаются дети из Чехословакии и Югославии. Тоже из посольств.
«Карате Кван Ри» — написано на вывеске английскими буквами, стилизованными под иероглифы. Корейская сеть школ карате, самая доступная и разрекламированная. Много залов в «моющемся городе». Это так шутит моя мама о Вашингтоне: «Вошинг таун» — «моющийся город» в переводе. Первый президент США, в честь которого названа столица, как бы и ни причём.
Тренер объясняет по-английски, и мне всё понятно: про семьдесят баксов в месяц, про расписание, про мини-группы, про историю появления корейских школ в Северной Америке: из Японии в Корею, а оттуда уже, после раскола, — в США. Я хорошо знаю язык, гораздо лучше, чем в начале родительской командировки, понимаю уже достаточно.
«Ки-я-яй» — японский клич, рывок воли и непобедимого духа. А американцы всё опошлили, всё, как всегда, низвели до животного уровня. У них это просто крик бьющей плоти. Решили, что с воплем легче нанести сильный удар. Все наши посольские мальчишки, прибывающие в Штаты, первым делом привыкают говорить японское «ки-яй» и английские «супер», «вау» и «йах-х».
«Йах-х» — это не то же самое, что «фу», в русском есть оттенок порицания и этическая нотка: тухлое яйцо — «фу», но и похабный анекдот — тоже «фу», а плохое поведение в школе — это «фу» в квадрате, позор. «Йах-х», в отличие от «фу» — это не про мораль, это чисто животное словечко: отвращение, близкое к позыву на рвоту и ничего более. Потому что в Америке живут желудком… Это всё мне мама втолковала, ещё когда только приехали …
Вводная беседа завершилась, и меня просят подойти и пнуть красивый лаковый синий мешок, подвешенный на блестящей цепочке. Я пинаю. Ещё, ещё. Надо бить несколько раз без замаха, не опуская ногу. Получается хорошо, и меня приглашают проверить растяжку. Я — молодец! Почти сажусь на шпагат, и по своему желанию зачем-то — в полный лотос, и в этой позе отжимаюсь на руках.
— Boy is extremely flexible! — с профессиональным восхищением хвалит сенсей мою гибкость — лишь бы родители оплатили пробный месяц.
В холле появляется огневолосый мужчина в шарфе, и его тоже приветствуют белые зубы тренерши. Незнакомец очень быстро говорит, жестикулирует, и я, понаблюдав, разгадываю скороговорку: рыжий выспрашивает про успехи своей дочери.
Выбегает девчонка — та самая, смугленькая, с веснушками, уже переоделась в пальто и беретик и бежит к вошедшему:
— Daddy!
— Shantale, dear!
Мой папа встревает в сценку чужой жизни, подмигивает обоим, заговаривает, знакомится. Сплетает ловчую сеть из, казалось бы, ничего не значащих фраз. Смеются, жмут руки.
— Михаил.
— Карл. Можно Шарль.
Но это ещё не всё. Продолжение не заставило себя ждать.
Весна. В центре, у Капитолия, цветёт сакура — только накануне мы гуляли там семьёй, и меня фотографировали на фоне розового цветения, а я сердился, что папа так долго наводит резкость на отечественном «Зените». Мама солидарна со мной:
— Пора покупать «мыльницы». Каждому.
— И Димке? — папа в уме подсчитывает непредвиденный расход.
— И Димке.
Ура-а! У меня будет свой фотоаппарат. Ура! Русское «ура-а» не заменишь ничем. Оно в крови, неистребимо, с ним рождаешься, и как его ни заслоняй, ни заваливай этими «вау» и «йахами», оно прорвётся наружу, заставляя местных обывателей удивлённо оборачиваться на звук и дарить улыбки семье иностранцев — нам. Весна, и все-все-все в приподнятом настроении. Здесь, в Александрии, около школы «Кван Ри», тоже растёт сакура.
Оказалось, что нас пригласили в гости.
Её зовут Шанталь. Рыжий отец — французского происхождения, поэтому, наверно, и имя, и косичка у неё французские. Ей десять лет, а мама — эмигрантка из Филиппин. Вот в кого у дочери восточный разрез глаз!
Карл работает в библиотеке Конгресса, его жена Крисс — домашняя хозяйка, обслуга, рабыня. Но я ещё не понимаю тонкостей, слушаю приветствия старших и смотрю, как улыбается Шанталь.
Знакомятся жёны-мамы:
— Крисс.
— Татьяна.
» Рады знакомству…»
Супруга Карла сдержанна. Она, как и мама, улыбается губами, и улыбки женщин друг другу — лепестки японской вишни в спокойный солнечный день. У Шанталиной семьи — свой дом с лужайкой, конечно, куплен в кредит, но я, как и большая часть советских людей, к счастью, пока не разбираюсь в нюансах. Главное, что у Шанталь — своя громадная комната в полуподвале, с фрамугой под потолком и большим телевизором с мультиками. Ещё — мячи для всех видов спорта, почти взрослый тугой лук и стрелы с присосками, дартс и детские клюшки для гольфа, мешок — такой же, как в школе «Кван ри», и боксёрская груша. Шанталь тренируется день и ночь. На маленьких сухих ладонях — первые мозоли. Я их чувствую, когда девчонка, показывая приёмы, берет меня за руку. И мне приятно лететь на мат, расстеленный посреди комнаты, после ловкого Шанталиного броска. Потом чипсы, «фри», кола из банок, детский разговор ни о чём и обо всём на свете, и снова спорт — стрельба из лука по плакату с Майклом Джэксоном. В Америке лунная походка на пике популярности.
— Расскажи Шантали, как тебя принимали в пионеры в золотом зале посольства, — подсказывает мама, когда заходит напомнить, что нам пора собираться.
Я игнорирую неуместную, как мне кажется, подсказку и продолжаю развивать тему Джэксона:
— А мне купили кожаные штаны, как в клипе «So beat it!». Правда, пока они мне велики. — хвастаюсь я тем, что американке явно понятнее и ближе, чем наш пионерский официоз.
— Теперь увидимся через два дня в «Кван Ри», на тренировке?
— Да, обязательно.
— Жалко, что вы уходите так быстро. Приезжай к нам ещё.
— Конечно. Фото на память? — делаю шаг назад и прицеливаюсь объективом.
Шанталь позирует в каратистских стойках, гримасничает, показывает язык. Я щёлкаю новым маленьким фотоаппаратом, безгранично своим, личным, и свет вспышки сверкает в Шанталиных брэкетах. Множество кадров: она одна, она со своей мамой Крисс, она с папой Шарлем, а вот в объектив случайно попадают и мои родители.
Следующий день начинается с того, что я не нахожу в своей «мыльнице» плёнку. Я раздосадован, я же взял фотоаппарат похвастаться в нашей посольской школе, хотел дощёлкать эту тридцатишестикадровую катушку, наделав фото одноклассников. Мечтал, что потом, после проявки и печати, принесу в класс фотографии, покажу, как живут американцы, какая у меня теперь знакомая девчонка из местных — каратистка, даже, как я вдруг начал думать — симпатичная. Но теперь настроение безнадёжно испорчено.
И следом — ещё удар: к третьему уроку директор школы приводит к нам в класс новенького и представляет его: «С вами будет учиться мальчик из дружественной Советскому Союзу страны — Чехословакии. Зовут его Мартин, прошу любить и жаловать».
Мартин Вашичек — молчун и старше нас на год, а его заваливают вопросами — в основном наши девчонки. Я не слушаю его односложных ленивых ответов — до тех пор, пока не выхватываю из общего гула фразу «Кван Ри» и что-то про красный пояс. Оказывается, Мартин давно тренируется в местной секции — уже года два. Опять красный пояс — для меня он уже становится красной тряпкой для быка… Колотится сердце от детского нетерпения поскорее начать тренировки и снова увидеть Шанталь.
После уроков папа с мамой забирают меня из школы и везут домой, в нашу квартиру в доходном доме в Александрии. По «пулу» — это платная свободная дорога, а посольство берёт папины транспортные расходы на себя — мчимся мимо шайбы Пентагона, оставляем позади ослепительный шпиль мормонского храма и комплекс таунхаусов с названием «Гамлет».
В «Гамлете» тоже квартируют некоторые из наших. Мы рассматривали вариант с этим комплексом, но папино начальство с чего-то решило, что удобнее нам в дальнем двадцатиэтажном «Тауэре». Пока едем, папа сердито отмалчивается, а мама печально озабочена, — и мне становится тревожно, и тревога усиливается, когда, почти подъехав к дому, поравнявшись с витриной и вывеской школы «Кван Ри», папа поддаёт газу, чтобы проскочить это место побыстрее. Я ничего не могу понять.
— Где плёнка? — спрашиваю капризно и требовательно.
В ответ мама делает мне рукой знак не болтать. Родители боятся жучков, провокаций, депортации американскими властями или того, что их раньше времени отзовут на родину свои.
— Шарль сообщил в ЦРУ о том, что у него был контакт с советским дипломатом, — шепчет мне папа на ухо, когда мы все уже покидаем машину и отходим от неё на приличное расстояние, — И его уволили из библиотеки и даже отбирают дом. У них теперь нет денег платить за тренировки Шанталь. Наверно, переедут в другой штат. А в нашем посольстве — я ведь тоже обо всём доложил — запретили отдавать детей в местные спортивные секции. А то знаешь — провокации… Мы, советские люди, для них — враги. Извини, но это государственные интересы. Они …приоритетнее. Ты взрослый уже, должен понимать. Нам с мамой очень жаль, что так получилось. Не расстраивайся…
Мир в тот момент для меня рухнул, и я загремел в вязкую беспросветную пропасть, причём застрял в ней значительно глубже, чем я или мои родители могли поначалу предположить. Мою единственную мечту будто выстригли вместе с корнем каким-то безжалостным хирургическим инструментом — так, что уже никакое новое стремление никогда не смогло бы вырасти на месте незаживающего рубца. Мою мечту, как и плёнку из личной «мыльницы», просто пристегнули к посольскому докладу, а там, не вникая в суть, кто-то запретил всё одним взмахом пера. Кто они такие — эти НАШИ советники в посольстве СССР, и НЕ НАШИ советники из ЦРУ? Кто они все? Они же по сути едины — одна и та же бездушная машина, у которой просто два разных полюса. И в итоге стальными шестернями перемолоты детские мечты, и может быть, кто знает, исковерканы судьбы… Я-то знаю — исковерканы…
— Папа же занимался когда-то самбо, у него первый разряд, — в утешение вспоминает мама, — Он может тренировать тебя вечером, в подвале дома, там, где сауна с тренажёрным залом — ты помнишь это место. А кимоно мы тебе купим, хорошо?
Я согласился. Это было лучше, чем ничего. Но ничего и не вышло — домашнее псевдосамбо быстро наскучило и мне, и папе. Главного — мечты — уже не было. Оказалось, я слишком быстро, можно сказать, мгновенно, вырос из коротких штанишек купленного кимоно.
1985
В восемьдесят пятом мы вернулись в радостный, ликующий, рукоплещущий переменам Союз. Страна готовилась к новому прыжку — туда, где все будут модно одеты, сладко накормлены, туда, где воссияет свобода от ветхих догматов, а человеческая личность займёт достойное место на ценностном пьедестале.
Обстановка в нашей московской квартире была торжественной, словно меня повторно собираются принимать в пионеры.
— Мы с мамой хотим открыть тебе тайну! — начал папа, вытащив с антресолей пыльный китель с синими полосками на подполковничьих погонах.
Далее был долгий рассказ со множеством подробностей, который не стал для меня ни сногсшибательной новостью, ни радостным потрясением. Просто с того момента, а, вероятнее всего — ещё раньше — я тихо возненавидел слова: «спецслужба» и «государственные интересы».
— Ну как? — с бодрой улыбкой поинтересовалась мама, — Папа — подполковник КГБ — это лучше, чем папа — второй секретарь посольства?
«Лучше, когда папа — чехословак», — подумал я, вспомнив Мартина Вашичека, спокойно и без всяких провокаций ходившего заниматься в «Кван ри» и сдавшего на красный, а может, уже и на коричневый пояс по карате, а вслух сказал: «Конечно, подполковник — лучше. Комитет — это супер!»
По звонку из кабинета первого главного управления меня зачислили в седьмой класс английской спецшколы. В какой-то из будних дней сентября мама отправила нас с папой в театр.
С ней мы поругались — видимо, я что-то заранее почувствовал и хотел идти на спектакль в школьной форме. Но мама настояла на «джэксоновских» кожаных штанах, которые уже начали жать, и ярком колючем свитере с давящим горлом.
— В Москве так не ходят, — говорил я.
Но она не понимала, что я уже вырос и лучше соображаю, что, в какой стране и куда именно мне лучше надевать.
Папу пришлось ждать в переходе метро около получаса. Он задерживался, а чёрные, словно из перепончатого крыла пошитые штаны стали за это время окрестной достопримечательностью. От насмешливых, завистливых, осуждающих и восхищенных взглядов мне хотелось провалиться под гранит — туда, где громыхают сине-голубые, как просветы на погонах отца, поезда мнтрополитена. Иногда казалось, что штаны эти дымятся и обжигают ноги — так на них пялились прохожие. Какой-то то ли мальчуган, то ли подросток, чуть старше меня, с лицом кота, подошёл и попросил пятачок на проезд. Сказал, что забыл проездной. У меня не было мелочи, только хрусткий зелёный трояк, который папа дал утром на карманные расходы. Подвели опять же пресловутые штаны — в них я почему-то не смог сказать, что у меня нет денег. Подумал, что всё равно не поверят.
Когда я разменял купюру в кассе, парень с котовым лицом попросил ещё и на жвачку, а потом совсем заболтал меня и, когда уже исчез, растворившись в толпе, а я разжал свой совсем не каратистский, а скорее, заячий кулак, на ладони лежали шестьдесят пять копеек — всё, что осталось от трёшника.
Папе я ничего не сказал. Меня победили и унизили, обманули и ограбили. А если быть честным, то это с собой сделал я сам, сотворив себе из умершей мечты недосягаемого кумира и опустив руки. Видимо, получилось так, что тот поединок-спарринг с воображаемым американцем Бобом я давно и заведомо проиграл. И вместе со мной его в какой-то момент истории проиграла вся наша страна.
Я проиграл, и поэтому больше не носил американские вещи. А советские вещи я не носил, потому что вскоре их перестали производить — мы просто стали жертвой обманного «прыжка блохи».
2017
Баха снял с меня накидку и встряхнул.
«Как там мои пузыри на китайских джинсах?…» — первым делом подумал я.
Нормальные, в принципе, джинсы, носить можно — Баха, собственно, в таких же.
Он неплохо постриг, и я дал ему сто рублей чаевых. Он был новичок, не ожидал и благодарил так, словно ему теперь хватило бы на билет до Нью-Йорка.
Я выходил из парикмахерской помолодевшим на десяток лет, с лёгкой головой и мыслью, что мне ещё не поздно придумать себе какую-нибудь новую мечту. Ведь я, в отличие от Баходура, до сих пор ничего не умею. Застегнул куртку, отчистил уши от мелких щекочущих волосков и, попрощавшись, вышел на белый свет.
— Так вот, я не договорила: бросай своего козла, и чем скорее, тем лучше… — донеслось из мрака открытых дверей, когда я был уже на улице.
Неподалёку невысокий тёмненький дворник выскребал землю, собирая граблями накиданные за зиму отходы. Я смотрел на аккуратные горки выкинутых из окон бутылок, окурков, и прочей житейской гадости, и горько думал о том, какие мы всё-таки свиньи — все мы, живущие в Москве весной две тысячи семнадцатого года. Дворник, завидев меня, кивнул и юрко отвернулся, будто и не узнал.
— Фархад?! — удивлённо окликнул я его, — а ты разве не уехал? Мне сказали, что ты чуть ли не в Америке.
— Не-ет, смущённо засмеялся он, — Я зде-есь… Вот, работаю…
Солнце сияло, и древесные почки, казалось, светились, как лампочки, на голых ветвях. Ранняя весна обманчива. Я знал, что в Москве ещё выпадет снег, и мы, аборигены, успеем заново загадить свои дворы. В свежем снегу всё равно не будет видно — быстро припорошит, заметёт, покроет коркой льда.
На Капитолийском холме в Вашингтоне, скорее всего, уже зацвела сакура, а на родине Бахи и Фархада на днях будут отмечать древний праздник Навруз.
Ох, как же ярко светит и метко бьёт в макушку нежданное московское солнце — словно, одевшись в кимоно и козыряя красным поясом, отрабатывает новые приёмы и новую ослепительную улыбку девчонка из моего счастливого далёкого детства.
— А дай-ка мне грабли, Фархад…

























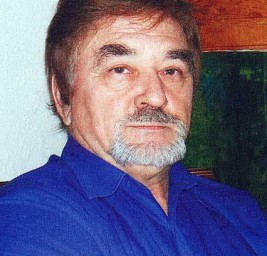





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ