1
Раблезианство есть ощущение шаровидной жизненной избыточности, готовой в любую минуту, прорвавшись, истечь смехом — хоть над смертью…
Бахтин, исследующий бездну карнавальной культуры, называет демонстрацию события сущностью карнавала: лопнула капсула официальности, и брызгами золотится подлинная жизнь.
Разгадки смерти не будет, но, включаясь в карнавализацию всего, мы высмеем её, как смеёмся над проделками шутов.
…пляска смерти, длящаяся повсеместно, не зрима, но ощутима чрезмерно: представьте сколько похорон происходит в этот миг!
Полифоничность — это больше к Достоевскому, мешавшему пласты речевые и жизненные так, что не разделить их, склеенные всё той же играющей жизнью.
Бахтин выводил полифонию из диалога, анализируя громады Достоевского; и русская религиозность сама заставляла интерпретировать бытие, как сумму событий и субъектов.
Связанное не развязать…
Язык Бахтина брызжет соком, как жареное мясо, переливается, как самородки, играет, смеётся, ухает совою, проваливается в потаённые глубины, представляя такие возможности, о каких раньше и не слыхано было.
Рабле и Достоевский благосклонно взирают на толкующего их.
Холостое бытие пустых возможностей — лакуны зияний в данной яви, нуждающейся в коррекции настолько, насколько изобилуют в ней несчастные судьбы.
Памятник Бахтину в Саранске несколько заострён, и хотя карнавальный, опровергающий догматичность мыслитель сидит, кажется, он укоренён в небе — в месте обитания идей.

Памятник философу Михаилу Бахтину, установленный в сквере возле первого корпуса Мордовского университета в Саранске. Юлия Честнова / РИА Новости
2
Рабле обрушился на мир переогромленностью: ярой и яркой, неистовой, как война…кошельков и копилок, пёстрой, как нечто восточное: вон, мол, птица Рух, неся на спине слонов, и тенью города затмевая, летит, рассекая слои воздушные; плотно насыщенный материальным космосом мир: лопаются от избыточной спелости колбасы, круги хлебов тяжелы, как металлические диски, вино вскипает в чашах и льётся красивыми лентами из бурдюков; всё сочно, мощно, изъято из плазмы народных глубин – и перевито, пронизано смехом: огромным, как башни.
Вот он гудит и играет, представляя смеховую стихию, в которую погрузившись, Михаил Бахтин сделал многие выводы, построив теории, как архитектурные произведения.
Полифонизм, смеховая культура, хронотон, карнавализация, духовный верх и телесный низ: ах, больно мы погрязли в последнем, не представляя хрустальных, метафизических лестниц к первому…
Бахтин и сам писал, точно занимая силы у Рабле: мощно, сочно, смачно; словно не на стыке философии и культурологии созидая, но создавая именно художественные холсты…
Бахтин обратил внимание на специфику гуманитарной мысли, всегда работающей с чужими мыслями: тут сложные гроздья ассоциаций и причудливые интеллектуальные орнаменты: одно цепляется за другое, и всё вместе требует осмысления.
Он по-новому подошёл к прочтению художественного текста, не допуская отрыва оного от философских корней.
Особое значение имел в его микрокосме, становящимся космосом общим, роман: как наиболее насыщенное, многостилевое, разноголосое, разноплановое явление; и снова Рабле рассыпался колоколами смеха, неистовства, карнавала…
Роман – система языков; нечто общее у Достоевского с Рабле найти не просто, однако Бахтин перекидывает мостки, по которым пройти интересно.
Этика переплетается с эстетикой, и чужое слово обо мне звучит оттеночно в моём сознание…
Книги Бахтина совместили своеобразно мощно-изощрённую архитектуру с пышно цветущим садом, и то, как словесные конструкции его напоминают одновременно и готический собор и современный аэропорт показывает, как разнообразна может быть гуманитарная мысль.

























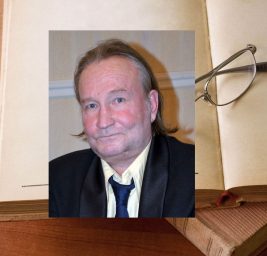






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ