Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского
- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе
- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ
- Саша Чёрный. Страшный мир
- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ
Последний русский интеллигент (поминальная записка)
11.12.2020
Это был единственный человек в моей жизни, у которого я понимал математику.
А всё началось с огромной красной двойки с тремя минусами в моей тетрадке по алгебре. До пятого класса у меня почти по всем предметам были четвёрки или пятёрки – тройки, как исключение. «Тройка – это та же двойка!» повторяла мама, поджимая губы, и больнее всего, до слёз, было оттого, что я её расстраиваю. «Ну, четвёрка – это тоже оценка.» — спокойно реагировала она. Зато, когда я получал пятёрку, лицо её сияло, и это было для меня лучшей наградой. А тут «пара»! Да ещё какущая! Первая в жизни!
В пятом классе ввели алгебру, вместо одного учителя появился учитель по каждому предмету. И как же мы радовались, когда к нам на алгебру пришёл, петушком буквально влетел в класс весёлый, излучающий энергию, огненно-рыжий Эдуард (отчества не помню). Мы в его быстрые объяснения не вдумывались, а восхищались им, на каждый вопрос «Понятно?» — только весело кивали головами, стремясь расположить его к нам. Но после объяснений Эдуард объявил контрольную, Эдуард, от которого мы не ожидали такого подвоха! И тут «пара», да ещё какая! – размашистая, чуть ли не в пол листа со спирально закрученной головкой, колечко в колечке, волнистым хвостом, да ещё с тремя минусами! – Такую пару ставят с удовлетворением, с весёлым смехом! А мне он так нравился, что кольнула обида, будто меня предали, хотя никакого предательства не было — просто поиздевался слегка… Какой позор перед мамой! – и веки мои защипали слёзы.
Я всеми силами пытался вникнуть в темы задаваемые к следующим урокам алгебры, но ничего, кроме первой фразы не понимал, и двойки посыпались одна за одной. А вот Виталий Вайсберг, наш бессменный отличник, лишь четвёрку схлопотал, нахмурился, и снова в отличники. Значит понимал… И от этого сознание собственной неполноценности усиливалось и медленно я стал «съезжать» и по другим предметам: с пятёрки на четвёрки, с четвёрок на тройки…
Сразу после первой двойки моя мама пошла в школу выяснять ситуацию с рыжим Эдиком.
— А что вы хотели! –ухмыльнулся молодой учитель. – Ваш сын ничего не знает вот и получает двойки!
— Он учит, старается, — пыталась объяснять мама.
— Ну значит у него нет способностей к математике! –пожал плечами Эдик.
— Значит, у вас нет способностей объяснять! – вспылила мама и ушла.
Моя неугомонная мама решившая в своё время сделать из меня великого учёного, ходила к заведующей учебной части по математике.
Мария Францевна, считалась лучшим математиком в школе. С моей точки зрения она даже не была человеком, она была физическим воплощением математики: всегда подтянутая, в сером платье, с каменным лицом, гладко зачёсанными назад и собранными в пучок седеющими темными волосами и холодными светлыми глазами.
— Ваш сын не способен к математике! – жёстко отрезала она на все попытки возражений, что по другим предметам у меня ведь хорошо, и раньше и т.д.
Эдика нам, правда, быстро сменили, но от этого мне легче не стало. Место его заняла смазливая равнодушно оптимистичная блондинка Надежда Евстафьевна, которую я сразу прозвал про себя «ветреной блондинкой» — как вошло это определение в сознание, так и осталось, лишь в дальнейшем подтверждаясь. Она быстро объясняла новый материал, и, как я не пытался сосредоточиться и понять, после первых двух фраз всё остальное тонуло в сером тумане. Но самым страшным было её изобретение: десятиминутные контрольные в конце урока, за которые мы были должны решить два-три примера. Тугодум по своей природе я их ненавидел особенно: не раз я чувствовал — дай мне время побольше я задачу решу, но просто не успеваю. О время! Проклятое время! Кому нужна эта скорость! – возмущался я про себя. – Ведь главное – понимание! И снова получал двойку, или, в лучшем случае тройку.
Я честно старался, таращил глаза на строчки учебника, подключился мой отец – всё бесполезно. Приближался конец четверти и впервые за мою жизнь замаячила итоговая двойка, будто из холодной пропасти дохнуло, к которой я неумолимо приближался. И тут кто-то из знакомых родителей шепнул маме волшебное слово: «репетитор!! Нужен репетитор!»
Но где его искать? Ни в газетах, ни на листах расклеенных на стенах и заборах объявление о репетиторстве не найдёшь. Ведь репетиторство – это вид частного предпринимательства, со всеми видами которого наша социалистическая страна неуклонно боролась. Хотя на репетиторство власть и смотрела сквозь пальцы и всё же – «Несвойственное для советского человека стремление к личному обогащению!»…
И приходилось осторожно выведывать у знакомых.
Мне поменяли двух или трёх репетиторов. С репетиторами у меня вышел полный провал. Помню одного из них: тёмнолицего пожилого дядьку, бывшего инженера на пенсии. На письменном столе у него стоял деревянный стакан с остро отточенными карандашами, которыми он и пользовался вместо авторучек (шариковых ещё не было) и как ломались эти острия, когда он нервничал. А вообще люди они были терпимые и после очередного объяснения темы спрашивали: «Понятно?». – «Понятно» — врал я, краснея, но не желая выглядеть дураком и ставить учителя в неудобное положение. «Ну, тогда пошли дальше!» — удовлетворённо говорил репетитор. А на следующем уроке по математике я получал стабильную «пару». При этом для меня оставалось загадкой, как большая часть посредственно учившихся зарабатывали тройки и даже четвёрки. Ну, не говоря уже о Вайсберге, который был для меня просто суперменом со своими постоянными «отлично».
И вот тут-то кто-то шепнул маме: «А сходите к Колосову, есть такой очень хороший репетитор, но вряд ли возьмёт кого-либо ещё – учебный год давно начался и очень болеет, всё время лежит…» Это был наш последний шанс.
Я помню первый визит к нему.
Он жил в общежитии подольского индустриального техникума. Сам техникум напоминал школьный пенал и выходил фасадом на площадь 50-летия Октября. В центре неё, если не ошибаюсь – гранитные фигуры борцам революции – мордатый матрос, бородатый солдат в папахе и ещё кто-то разлохмаченный (рабочий?). По всем городам России эти идолы мало отличались ни друг от друга, ни по манере исполнения (грубо, наспех)были одинаковы – из грубого тёсаного гранита, без каких-либо индивидуальных черт, зато скуластые, с неондертальскими челюстями и надбровьями, раза в полтора-два выше роста обыкновенного человека и обязательно вооружённые – у солдата или рабочего ружьё, они могли тащить за собой пулемёт Максим, у матроса маузер и героические мощные их тулова переплетали патронные ленты. Конкретных имён и фамилий эти шедевры не имели – их звали просто «герои революции». В 1971 их снесли, заменив памятником героическим Подольским курсантам, перекрывшим дорогу на Москву немецкой танковой колонне, впрочем почти столь же грубым и безвкусным.
Готовили в техникуме разных специалистов для военных заводов, которых в нашем Подольске не счесть, и любой алкаш с гордостью сообщал своему случайному собутыльнику в приступе местно-патриотического вдохновения: «Ежели война, так первую бомбу – на Подольск, и только вторую на Москву!» и хитро подмигивал. Математика – безусловно царица наук, ибо без её языка не было бы ни тех технических чудес, среди которых мы жили (поезда, многоквартирные дома, самолёты, машины, холодильники, телевизоры, радио, горячая вода в квартире, санузлы) , ни тех ужасов, которые хорошо помнили наши родители, которых обожгла война — автоматическое оружие, косящее человеков как пшеницу (которой, кстати, вечно не хватало и в мирное время), дальнобойной артиллерии, танков, авиабомбардировок, и атомной бомбы не было бы, которой боялись все от мала до велика, боялись, однако же втайне изумляясь и восхищаясь её чудовищной силе, вызванной очкастыми физиками!.. А то, что она жахнет рано или поздно нам вдалбливали идеологи, для которых было ясно, что последний бой между капитализмом и социализмом рано или поздно наступит. Но некотороые высоколобые и очкастые предупреждали, что бой будет последним для всех и сучий потрох страха проникал в души к нашим великим поднебесным небожителям и вслед за теорией неизбежной мировой революции вдруг появилась «гениальная» теория мирного сосуществования двух систем и экономического их соревнования, в которой неизбежно, как пророками предсказано, победит социализм.
Общежитие представляло собой двухэтажную пристройку позади техникума. Я помню длиннющий коридор с бесчисленным количеством дверей справа, одна из которых вела к нему. В назначенное время мы постучали в дверь (звонка, по-моему, не было). Я увидел удлиннённую комнатушку с окном впереди. Вдоль левой стены кровать, на которой головой к окну лежал он. Такие встречи для меня ничего не предвещали хорошего, кроме перспективы ещё раз убедиться в моём полном математическом идиотизме, и я вспотел. Это был седовласый горбоносый старик в очках с седой бородкой и нездоровым пергаментным лицом. Он мало походил на тех, кого я видел в своей жизни. Он больше походил на интеллигентов, которых показывали в советских фильмах – обычно они были или предателями или проходимцами или же, в лучшем случае колеблющимися недотёпами, «не понимающих» смысла «Великой» революции, которую видимо знали волокущие пулемёт идолы на площади. Но в этом образе не было ничего комического или нестойкого, не было напускной важности. Из-под очков на меня совершенно спокойно смотрели голубые прозрачные глаза, смотрели как на равного, хотя кто я был 12летний сопляк, и кто был он, осиливший и осиливающий чудовищную, как позже стало проясняться, жизнь. Левая нога у него лежала отдельно, перевязанная, перебинтованная, прикрытая тканью.
В комнате пахло йодом, мазью Вишневского и ещё чем-то не очень приятным, однако обычно через пару минут я привыкал к этому запаху и переставал его замечать. Обычно я сидел возле Анатолия Васильевича где-то на уровне его груди, он брал мои тетради, простой карандаш, которым правил, спрашивал, какую мы проходили тему, что непонятно, объяснял, мы решали заданные на дом задачки, решали другие…
Взял он меня, как исключение, т.к. плохо себя чувствовал, быстро уставал: гниющие ткани ноги отравляли организм. Это был облитерирующий эндоартерииит, неизлечимое и запущенное к тому сроку заболевание, от которого в арсенале медицины оставалось одно средство – ампутация, с этим тянули, никто из хирургов не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Но странно, первое, что я почувствовал, садясь у этого человека –отсутствие напряжённого страха, который вызывал у меня каждый учитель математики, мало того – какое-то внутреннее сродство. Мама предложила ему большую чем другим ученикам оплату, т.к. я был сверх нормы, но Анатолий Васильевич наотрез отказался.
То, что я принял вначале за правую стенку комнатушки оказалось тёмно-синей занавеской от потолка до пола, делящую комнату пополам. Кроме того в этой комнате была ещё одна дверь у ног больного, ведущая в ещё меньшую комнатку, подобие кухоньки. Маленькая ладная старушка с симпатичным добрым лицом, жена Анатолия Васильевича, управлялась с хозяйством. Но было в этом семействе то, что меня пугало –две дочери близняшки Анатолия Васильевича — худые, долговязые и некрасивые, со страшно выпученными, будто в ярости, глазами, при их попытках говорить из горла вырывались грубые нечленораздельные звуки, в которых мне казалась какая-то угроза. Несчастные были психическими инвалидами по слабоумию и могли выполнять лишь простейшие дела по дому: сходить в аптеку, убрать за собой… Можно только представить, как их ненавидели в общественной кухне, классическом месте коммунальных склок, обыватели! Понимали и жалели их лишь отец и мать и всегда спешили увести, когда приходили ученики. Говорили, что их несчастье – следствие страшной ленинградской блокады, в которую они родились.
Я приходил к Анатолию Васильевичу два раза в неделю и, вскоре, странное дело, вдруг почувствовал, что начинаю что-то понимать в этих цифрах, значках, уравнениях, системах уравнений – квадратурах, кубатурах, извлечениях из корня и т.д. При этом я не помню, чтобы он говорил что-то особенное: наверное, секрет его был в том, что он не брезговал начинать с самого простого, не торопясь, не пропуская ни одного звена в логической цепочке, и брови у него не подскакивали при моих промахах. Ошибки он воспринимал, как что-то совершенно естественное, сопутственное – спокойно объяснял, правил карандашом, и занятие продолжалось, будто ничего и не произошло. Я перестал краснеть и бояться слов «не понимаю». Впрочем, и к моим успехам он относился также спокойно, что так же отбило у меня желание их выпячивать, хвастать, ждать поощерения. Существовала лишь математика, для которой любые эмоции были излишни. Спокойным тоном, простым языком он объяснял, а я ПОНИМАЛ! Когда я выходил от него, душа моя ликовала, несмотря на приятную усталость в голове устанавливалась никогда больше ни до, ни после школы не испытанная кристаллическая ясность. Зрение моё как-то обострялось и углублялось – каждая веточка на дереве, кусте, ржавая крыша, ободранная дверь в библиотеку в соседнем доме, серое небо вызывали во мне радость. Мне казалось, что в этот период – 20-30 минут я смогу объяснить любой вопрос, просто решить любую проблему, которыми так склонны того не сознавая обставлять сами себя люди. Это было сродни тому забытому восторженному чувству из раннего детства, когда выбегаешь под тёплый ливень, моментально намокшая одежда заставляет чувствовать всё тело, ликовать каждую растущую клетку, только теперь чувство было не телесное, а более тонкое светлое, проходящее сквозь тебя и разлитое по всему миру.
Я чувствовал себя по настоящему счастливым только выразить (да и понять) это не мог. Теперь я понимаю, что-то была ясность духовная, которой мне так в жизни не хватало, да и до сих пор не хватает. Иногда я пытался продлить это состояние, присаживался на лавочку напротив техникума, если находил на ней незагаженный ботинками пэтэушников участок. Я думал с удивлением как же могут люди прожить всю жизнь, так и не испытав этого чувства, как я смогу дальше жить без математики, если попаду вдруг в гуманитарный вуз и тут же внутренне решал, что буду продолжать заниматься самостоятельно (благие намерения!).
В школе моё положение стало выправляться – из двоек я вылез на тройки и начали появляться первые четвёрки. «Вот видите! – довольно говорила «ветреная блондинка», — как только перестал лениться, так и оценки улшучшились!»
Успехи мои в математике не укрылись от нашего отличника Виталия Вайсберга
— У тебя что, репетитор? – спросил он меня как то, неожиданно, прямо в лоб.
— Да нет, никого, — легко соврал я, не моргнув, Колосов оставался тайной на протяжении пяти лет, о которой не знал никто в школе. На всякий случай Колосова я не должен был раскрывать, как мне посоветовали дома. «А как же Витя Вайсберг? – однажды спросил я маму, ведь у него нет репетиторов, а он отличник? – Ему отец объясняет, — находилась мама. Впрочем, до сих пор не знаю, а может и был и у Вити репетитор, которого он скрывал не хуже меня. А может и были у него к абстрактным наукам большие способности? – не буду спорить.
Но вскоре случился скандал. После очередной контрольной я принёс четвёрку. Я принёс её довольный, но мама просмотрев тетрадь нахмурилась:
— А за что тебе поставили четвёрку?
— Как за что, я же хорошо написал!
— Но у тебя не отмечено ни одной ошибки!
На следующий день разгневанная мама атаковала нашу математичку.
— Ну а что вы хотите, — пыталась отбиваться «ветреная блондинка» — он же троечник!
— Что значит троечник, — взорвалась мама, — у него последнее время две четвёрки подряд, посмотрите сами журнал!
Математичке не было нужды смотреть журнал, она и так прекрасно помнила мои последние отметки, тем более, что с моей фамилии начинался список учеников.
С тех пор «ветреная блондинка» стала осторожнее и за мои контрольные всё чаще появлялись пятёрки. Чувство, что я начинаю догонять моего приятеля лучшего отличника в школе Виталия Вайсберга начало вдохновлять меня.
Кажется в это время пару раз меня собирался бить. Всем классом, или почти всем классом (и девчонки!). За что? – Это остаётся для меня загадкой до сих пор. Я ни с кем не конфликтовал, всем давал списывать у меня контрольные и домашние задания. Дружил я только с Валерой Плешковым, с которым мы сидели за одной партой, тихим светлоглазым худеньким) даже ещё более худым, чем я) мальчиком, да с Виталием Вайсбергом – но он сидел далеко и не был так открыт, как Валера. С другими мне было просто не интересно, а наша троица постоянно обменивалась приключенческими и фантастическими книжками, которые остальных на дух не интересовали. После уроков класс строился на выход и как всегда вперёд выбегали, отталкивая всех, самые горластые хулиганы и двоечники, а мы с Валерой всегда скромно и тихо вставали в конец очереди и с увлечением обсуждали прочитанные книжки, содержание которых для нас было гораздо важнее и интереснее того, что творилось в реальной жизни. Дети в нашем классе были в основном из рабочих семей – только мы с Виталием из врачебных, да и у Валеры папа был какой-то крупный строитель.
И вот в сумерках, выйдя из школы и спускаясь по лестнице с Виталием мы вдруг увидели толпу ребят из нашего класса. «Тебя бить собираются!»- внезапно сказал Витя, который откуда-то знал всё и со всеми каким-то непостижимым образом был в ладу. Да с какой стати? – удивился я, делая ещё шаг вниз. «Тебя бить собираются, — повторил Виталик, — лучше вернись!». Нехотя я повернулся и побрёл обратно в школу.
Я сел на длинную лавку и принялся ждать. Меня душил справедливый гнев: ведь это было так гадко бить одного всем! И неужели они этого не понимают!? .. Пару раз с улицы заходила шпана, незнакомые мне ребята, «их» союзники и передавали мне, чтобы я выходил «поговорить». Но я им не верил. Мне было гадко и скучно сидеть в холле в одиночестве. Но если поначалу у меня не было ни капли страха, то по мере ожидания он вдруг стал откуда-то появляться и копиться. Страх и тоска и я даже стал жалеть, что послушался Виталика.
Пару раз мимо проходила уборщица с ведром и шваброй.
— Ну что сидишь? – спрашивала она.
— Меня бить хотят на улице…
— А-а, ну тогда сиди, сиди, — уходила она к следующим лестничным пролётам.
Несколько раз я выглядывал в окно: толпа редела, но выходить было рано.
И чем дольше я сидел на этой длинной школьной лавке, тем жальче мне себя становилось. С каким трудом я преодолевал эту математику, было известно только мне. Ведь кроме математики в доме постоянно происходили, подобные землетрясению для меня скандалы, которые то и дело устраивал отец, когда приносил бутылку коньяка и выпив, становился агрессивным, придираясь к маме, по самым непредсказуемым поводам и без. В эти минуты я его ненавидел и клялся, что никогда в жизни не возьму в рот спиртного. Мама говорила, что это последствия тяжёлого сиротского детства и войны, Ленинградской блокады, но от этого не становилось легче. …И чего стоило мне, собрав раздёрганную волю в кулак вновь сосредоточиться сесть за стол делать домашнее задание, чтобы не получит завтра двойку или тройку!.. И ещё они! Бить! За что?.. Неправильный был вопрос: бьют не «за что», а «почему». Почему не такой как все, почему ДРУГОЙ?
А я и был другим, другим во всём, ни на кого не похожим! Во-первых новенький, приехавший откуда-то из других городов, я не здоровался с хулиганами, мои фамилия и имя совершенно отличались от других, я был смуглым, за что одна бабка в нашем дворе прозвала меня цыганом, я не любил общих шумных игр на уроке физкультуры и всячески от них отлынивал, а читал какие-то книжки, а теперь я ещё становился «хорошистом»! Одним словом причин бить, «чтобы не зазнавался» было более чем предостаточно. Спустя три часа, обеспокоенная моим долгим отсутствием, пришла мама, разогнала остатки компании и вызволила меня из плена.
Но на этом дело не закончилось. Как только я пришёл утром в школу и сел за парту, на меня вороньём налетело с десяток ребят и девчонок. Бить меня в классе меня опасались. Я не помню даже смысла обвинений- ребята орали на меня, девчонки что-то верещали лицо. А завзятый двоечник и дурак Леонов встал ногами на мою парту и принялся помахивать своим ботинком перед моим носом. И так он удобно подставился, что я схватил его стопу и колено, дёрнул, и Леонов полетел вниз, шлёпнувшись спиной о парту. В этот момент зазвенел звонок. Бой был выигран! После этого меня никто не задирал.
А нога у Анатолия Васильевича отказывалась выздоравливать и продолжала загнивать, создавая угрозу всему организму. Мама привела к нему моего отца. Ногу пришлось отнимать. Операция прошла блестяще – уж кем-кем, но хирургом мой отец был от Бога, что признавали все. Через пару недель я увидел уже Анатолия Васильевича впервые в вертикальном положении. Он прыгал на костылях, усаживался за стол покрытый клеёнкой, я напротив, и занятия наши продолжились. «Культя сформировалась очень хорошо,» — удовлетворённо говорил отец, посетивший моего учителя. От природы Колосов, видимо, человек был крепкий и скоро лицо у него побелело, посвежело, губы порозовели – древняя пергаментность исчезла. Мой спаситель по математике сразу заявил, что будет заниматься со мной бесплатно, но мама возмутилась, видя нищету этой семьи, и они договорились о вполне умеренной скидке.
И всё-таки кое-кого он мне напоминал. – Профессора Николая Леонидовича Гладыревского, типичного представителя «старой», как тогда с оттенком презрительного сожаления говаривали, дореволюционной интеллигенции. Одно время, когда мы жили в Таллине и отец защищал диссертацию его научным руководителем был профессор Стручков (пролетарский кадр), а оппонентом профессор Гладыревский, как я узнал уже после его смерти из биографии Булгакова, написанной М.О. Чудаковой – личный друг писателя Михаила Булгакова по медицинскому университету в Киеве. (Но в ту пору даже имя Булгакова в семье у нас даже не заикались — антисоветский писатель, как бы беды не навлечь!). Та же горделивая посадка головы, седая бородка, очки, высоколобость, зачёсанные назад волосы, только кожа розовая, как писала Мариэтта Омаровна от пристрастия профессора к русскому народному лекарству – водочке (возможно следствие компромисса с новой криминальной, по сути, властью).
Конечно лица были разные – но от обоих исходило ощущение благородства, человеческого достоинства. И горделивая посадка головы запомнилась. Хотя один был профессор, а другой обыкновенный учитель пенсионер… Это были остатки, обречённые динозавры, той настоящей дореволюционной русской интеллигенции, частично выбитой, выкинутой из страны, частично нашедшей своё место в «новом» обществе, но вымирающей и абсолютно непохожей на новую гибковыйную узкоспециализированную «народную» советскую интеллигенцию, напоминающую общую инженерно-служащую массу.
Русская дореволюционная интеллигенция – это явление, вообще, особенное, историческое, не имеющая на Западе аналогов. На Западе существовал интеллектуал, специалист в своей профессии. Русский интеллигент – понятие более обширное, включающее в себя качества духовные, душевные – честь, благородство, уважение к человеку любого происхождения, бескорыстная, даже себе в ущерб, любознательность, стремление передать свои знания до самой крупицы коллегам и ученикам… Полунищие, они совсем не походили на тех классовых врагов, карикатурными образами которых нас ежедневно с утра до вечера пичкали литература, радио, кино и телевидение.























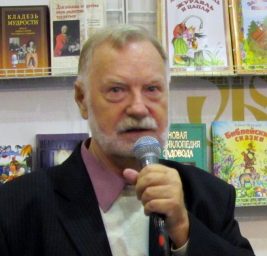






1 комментарий
Инга
19.12.2020Вечная Вам память, Анатолий Васильевич! — Этот искренний рассказ, наполненный добрыми и светлыми чувствами, автор посвятил своему Учителю математики , настоящему интеллигенту, каких и в наше время мало. Спасибо, уважаемый Амаяк Павлович.