Новое
Георгий Масленников. «Присвоить звание «Мужчина»». Повесть
05.03.2021
Жизнь любит преподносить сокрушительные сюрпризы. И чем больнее она ударит, тем глубже удар вонзится в память. Большая часть молодёжи Советского Союза отслужила в армии. Далеко не всем она оказалась мёдом, но всем стала полезной наукой с присвоением всё более дефицитного, почётного звания – «Мужчина».
***
— Товарищ старшина, разрешите доложить.
— Ну
— Приборка закончена.
— Второй час ковыряешься, ползаешь по казарме беременной вошью – он сверился с наручными часами. Перевел стул в более устойчивое положение: на четыре ножки вместо двух, и убрал ноги со стола. Опершись о стол руками, встал и спросил:
— Точно все сделал?
— Проверьте сами – мне спать охота…. Значит так: если я с ходу найду косяк, ты заступишь завтра в наряд и выдраишь гальюн до блеска.
— Так точно.
Ледяной, брезгливый тон Чукалина шаркнул колючками по самолюбию старшины. Семага, зыркнув глазами, вышел из офицерского кубрика — его царства на время, пока в нём нет командира части. Выпрямился, сдвинул бескозырку на затылок и пошел на осмотр своих владений.
Чукалин вышел вслед за старшиной в длинный коридор, по бокам которого располагались кубрики с мирно сопящими матросами. На тускло-желтых стенах висели портреты видных военачальников. Между ними – переливалась красками и радовала интересным текстом стенгазета, написанная им, Чукалиным, которая не раз становилась предметом гордости командира части перед другими офицерами флотилии.
Старшина мягко, по- кошачьи ступая, шёл по коридору попутно ведя пальцами по всем неровностям казармы в надежде найти следы пыли. Дойдя до гальюна он сказал:
— Иди, окно в каптёрке закрой.
Чукалин развернулся, пошёл выполнять приказ, отчётливо помня, что окно в каптёрке закрыто. Через несколько шагов обернулся.
В груди полыхнул гнев: старшина склонился над ящиком с песком, норовя подсунуть за него конфетный фантик, загодя припасенный в кармане. Чукалин кашлянул, спросил с брезгливой, издевательской заботой:
— Конфетка сладкая была, товарищ старшина?
— Ты как со мной базаришь, сопляк?! – зло спросил старшина, пряча в карман не сработавший «косяк» -Думаешь, если драться самбой умеешь, значит, все позволено?
— Не всё, товарищ старшина. Только то, что положено по Уставу и если есть «одобрямс» любимого старшины.
Они оба хорошо помнили их первую стычку.
В знойный вечер новобранцы стояли в строю еще не знакомые друг с другом. Перед строем вышагивал старшина-годок, последнего года службы, цедил ухмылисто, лениво, снисходя до вновь прибывшей толпы салабонов:
— Ну шо, салаги неструганные, будем из вас мужиков делать — походка старшины со сцепленными сзади руками походила на манеру гестаповцев в оккупированных сёлах из фильмов про войну.
– Я, старшина Семага Антон Иванович, старший помощник командира звена торпедных катеров капитан-лейтенанта Левина. Мотайте на ус: когда нет командира, я тут царь и бог в одном флаконе. Все, шо я скажу — закон. У вас два путя: либо вы бегите на цырлах выполнять любой мой приказ, либо гниёте в нарядах или на губе. А при особом удовольствии – одно будет сменять другое безо всякого передыха.
С застывшей ухмылкой он замолчал. Осмотрел строй, спросил:
— Это всем понятно? – Молчание строя прорезал лишь звон ночных цикад с плаца.
– Не слышу ответа! – рявкнул старшина — Всем понятно?!
— Так точно, – унылым разнобоем отозвался строй.
— Вот так, губошлёпы. На умывание ра-зой-дись!
Матросы рассыпались по казарме. До отбоя предстояло всем помыться, подготовиться ко сну и первому служебному дню, когда будет приниматься присяга..
Старшина со своими ботинками в руках, остановил одного рослого матроса, положив руку на плечо:
— Стоять, дылда. Фамилия?
— Матрос Чукалин.
— Тебе сегодня повезло, Чукалин. Сегодня для тебя ответственное задание. Начисть мне чоботы. По-брацки.
Сунул ботинки в руки матросу. Чукалин тяжело, пристально смотрел на старшину .
— Шо молчишь, буркалы выпятил? Есть возражения?
— Не получится с заданием. Я пришел служить Отечеству, а не прислуживать старшинам.
— Ш-о-о? Ты не понял, шо я вам перед строем в мозги ваши запихивал? Повторяю последний раз: чоботы начистишь, поставишь возле моей койки. И доложишь за исполнение по всей форме. Свободен.
Семага развернулся и зашагал в выходу. Чукалин заговорил:
— Расставим точки над «и». Во-первых, по-братски не получится, ты мне не брат. А во-вторых – обувь старшины полетела на пол, грохот разнесся по казарме, – во-вторых, полезно научиться самому ручками работать.
Чукалин тяжело, не мигая, смотрел на Семагу, разевавшего и закрывавшего рот. Старпома на третьем году службы, нагло отшивает какой-то первак?! В первый день прибытия салаг на службу?!
Из горла старшины вырвался рык:
— Молись скотина!
Семага ринулся на Чукалина. В шаге от разъяренного годка Чукалин скользнул влево, в цепком молниеносном захвате с грохотом бросил чужую плоть через бедро на пол. Запрыгнув на поверженного, придавил коленом правую руку старшины, обездвижил вторую и взял Семаго за горло.
— А теперь слушай меня. Если ещё раз полезешь ко мне со своими чоботами, выключу нокаутом и отполирую задницу твоим же ремнём. Я не для того институт заканчивал, чтобы бандеры вроде тебя надо мной выкобенивались…. Ты всё понял?
Стиснул ладонь на горле старшины.
— Не слышу ответа!
— Фсе-о-о-о… понял…, — прошипел придушенным гусаком старшина.
Чукалин встал. Взялся заправлять свою койку. Матросы, застывшие в столбняке, отворачивались. Давя в себе испуг вперемешку с хохотом, возобновили свои дела: вид старшины был не для слабонервных.
— С-сука, мразь. Подожди-и. Я с тобой еще разберусь. Ты доигрался, щенок. Тебе конец. Завтра с тобой еще поговорим, – выхрипнул Семага, потирая горло.
Пошел к своему кубрику, скрылся за дверью. Чукалин несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, выгоняя из крови лишний адреналин, и стал готовиться к отбою. Истаивало в памяти, подёргивалось в судорогах и распадалось на клочки панно из прикипевших к сердцу фресок на гражданке: ликующе-победные финалы схваток на татами, гремевший славой на весь Северный Кавказ их народный оперный театр в Грозном, ночные бдения за фортепиано, студентка музучилища Ирэн, которая любовно шлифовала душу и руки молодого пианиста — всё уходило в чёрную бездну нынешней тоски по былому.
***
Через колдобины, надолбы и ухабы неслась вся служба первогодка. Отвратно, муторно, свирепо скребли по ней когти служебного бытия, пропитанного мстительной изобретательностью Семаги. Он был неистощим на издевательства в неутихающей злобе к новобранцу во всём служебном распорядке – когда в дивизионе отсутствовал командир. На утреннем подъёме во время уборки кубрика старшина стоял над согнутым Чукалиным. С заправленной койки первогодка он сдёргивал на пол одеяло с простынёй с командой:
— Пер-р-резаправить по Уставу! И шоб всё ровненько…. шоб без единой складочки!
И так – по десять, по пятнадцать раз. На утренней часовой пробежке на стадионе Семага бежал рядом с отделением. И выждав пару кругов, давал команду:
— Матрос Чукалин выбежать из строя! Стоять! Смир-р-рна-а! Это шо за «смирна»? Глиста в коровьем брюхе стоит «смирнее», чем матрос Чукалин! Шо вытворяем на пробежке?! Бежим не в ногу! Бежим зачуханной коровой и гадим всему строю! Всё отделение бежит впритрусочку два круга! Матрос Чукалин, смир-р-рна! Ать-два! Чукалин, учимся вставать, ложиться по Уставу. Встать! Лечь! Встать! Лечь! Отжаться десять раз! Встать! Лечь!
И так всю остальную физзарядку, пока Чукалин не посылал Семагу непечатным слогом далеко и несмываемо изящно – под нескрываемое удовольствие экипажей катерников. И отправлялся отбывать свою очередную гаупвахту.
Одна отрада была у Чукалина: боевая учёба, на катере на БЧ-2 он был пулемётчиком на спаренной турели пулемёта. На учебных стрельбах дивизиона по мишеням он выбился в ведущие в первые полгода, затем стал первым к концу года.
***
Чукалин со старшиной стояли в коридоре. Не прорезало у старшины с «косяком» — конфетной обёрткой под ящиком с песком. Они смотрели друг на друга, две несовместимых человеческих породы, два биологических вида, которым всегда было тесно на земле, как кошке и собаке, кобре и мангусту, льву и гиене. Чукалин заговорил:
— Старшина, вам можно посочувствовать в этой паршивой ситуации: салага заявился в дивизион и выламывается из всех ваших правил. Но вы никак не хотите понять, что мы одного возраста, что я закончил институт, и десять лет, которые я провёл в схватках на татами, не позволяют лечь под кого — то. А вам надо, чтобы я лежал и не дрыгал ножками. Вы никак не поймете…
— Это ты не понимаешь ни черта. Здесь всегда так было и будет… здесь право дедов! Моё право! И его никто не отменял! Я третий год уродуюсь за Родину мореманом, а ты, салага, губошлёп, меня мордой в грязь. За это ответишь. Ломать буду: нарядами! Губой! Пока не приползёшь на карачках прощения просить! И офицерьё на моей стороне: им при таких, как я, спокойно спится! Усёк?! Забыл, как загудел на губу сразу на второй день после рапорта командиру…
— Не рапорта, а доноса, что я не почистил свои ботинки. И что воздействовал физическим мордобоем на старшего по званию. Ты не сказал в доносе, что ботинки были не мои, а твои. И ты первый полез на меня с кулаками. Так может, подойдем завтра к командиру Левину и объясним все, как было?
— Закрой рот! – Семага было дернулся к Чукалину , но опомнился. – Опять на губу захотел, раз пасть разеваешь, ты из них, шоб я сдох, не вылезешь!
Чукалин вспомнил гаупвахты. Условия там и впрямь были тюремными, но сокамерники попадались адекватные: матросы, которые не смирились со своей трехлетней ссылкой на служение и жизнью по уставным правилам, из которой они время от времени выламывались. Таких было немало, но похожего на Семагу – ни одного, это был особый вид врождённых садистов с железным рефлексом: присасываться лестью и подхалимажем к властьимущему и гнобить и издеваться над зависящими от него. Вынырнув из воспоминаний, Чукалин услышал речевую концовку старшинских откровений:
— Завтра новенькое придумаю, что с тобой делать, — выцедил старшина. Сплюнул.
– Отбой.
Чукалин развернулся и пошел прочь. Зашел в свой кубрик. Ночная духота втекала в окно. Он снял влажную от пота робу и сел на кровать. За окном слажено звенел хор цикад. Чукалин растянулся на кровати, под грузным телом визгнули пружины. Услышал: сосед по койке Паша -моторист прервал храп, стал поворачиваться на бок. Немного погодя позвал:
— Чукало… не спишь?
— Ну.
— Что, опять старшина доставал?
— Он, родимый.
— Может повторишь катаклизму, как в первый день: бросок через бедро, верхом на тушу и лапой за горлышко? Весь дивизион до сих пор смакует.
— Полезет с кулаками – напомню. Но, видно не дождусь — он умный стал, уроки помнит.
— А может сам начнёшь? Он — крыса. И сексот бандеровский. С такими только так и надо.
— Вот ты и начни, если не терпится. Всё, Пашок, спать. Завтра стрельбы с выходом в море.
— Да ладно, тебе- то чего трепыхаться? В перваки средь пулемётчиков давно вымахнул. За это командир по два увала в неделю стабильно отстёгивает. Мне бы так.
— Ну, вот и спи, чтоб так же.
— Ты говорят, их тратишь на фоно при Доме офицеров? Чтоб я пропал – не понимаю: потратить все свои увалы на протирание штанов за дрынканьем…
— Закрыли рот. Отбой.
…Евген лежал с десяток минут, прислушиваясь ко всем звукам. За дверью кто-то прошел в гальюн, где-то закрылась дверь. В полумраке под сап и негромкий храп опускались и поднимались простыни под телами.
Спустя десяток минут он осторожно поднялся с кровати. Ступая с носка на пятку, бесшумно вышел в коридор и направился к выходу из казармы, замедлив шаг у кубрика, где спал старшина. За дверью рычаще храпел его неутолимый Надзиратель.
На улице легкий ветерок благодатно опахнул горячее, потное тело.
Евген пошел к трёхметровому кирпичному забору, избегая освещенных мест. На углу части стоял железный сарай, оборудованный под склад. По его бокам топорщились кусты. За забором, пристроившись к нему, вплотную высилась шершавым осанистым стволом мохнатая пальма. Чукалин поравнялся со складом, как вдруг услышал голоса: по периметру части шел патруль. Два старшины-контрактника с офицером обходили территорию. Евген перепрыгнул через кусты и распластался на земле. Два старшины шли, перебрасываясь фразами:
— Ну как тебе та блондиночка на причале? Ты на неё тоже глаз положил.
— Чего ж не положить, там всё на месте, особенно с кормы. Ей бы в пару брюнеточку, такую же, чтоб у матросов не было вопросов.
— Р-разговорчики на службе, отставить! – негромко, с усмешкой, прервал ценителей женских форм офицер: по-человечески понятна была тяга молодых службистов к женским формам: вплотную привалила главная задача в этом возрасте — построить семьи.
Евген дождался, когда патруль удалится и, обогнув склад остановился у двери, запертой на массивный висячий замок. Подпрыгнул, повис на свисающей кромке крыши. Подтянувшись, нащупал подошвой скобы, в которых висел замок. Опёрся на них, поднялся на крышу. Пошёл к забору. Перемахнул через него, спустился по стволу пальмы на землю.
До заветной цели оставалась какая-то сотня метров. Немного легкой трусцы и он уже шел вдоль массивного четырехэтажного здания дома офицеров. Парадный вход был выполнен в изысканном восточном стиле.
Евген шел, вглядываясь в окна второго этажа. Одно из них – рядом с ветвистой кроной клёна, было слегка приоткрыто. Евген забрался на дерево. Держась за одну ветку руками, переступая по другой, он пробирался к окну. Еще один шаг, до рамы оставалось совсем немного. Последний шаг. Он осторожно шагнул на выступ окна. Распахнув окно до конца, Чукалин спрыгнул в кабинет. Он достиг своей заветной цели: комнаты, все убранство которой составляли стол, два стула и фортепиано.
Взяв со стола пару заготовленных заранее газет, Евген открыл верхнюю крышку инструмента, опустил газеты между струнами и молоточками фортепиано. Затем открыл крышку клавиатуры и нажал на клавишу. Приглушенный, шершавый звук вылетал из инструмента и опал тут же в тишину. Лакированное покрытие пианино отражало слабый свет улицы. Он шагнул к окну и выглянул на улицу: все было тихо. Город спал.
Плотно закрыв окно, Чукалин, наконец, сел за фортепиано. Надо было закончить своего «Сонатёныша»… Из-под пальцев вырвались аккорды – ни на что не похожие, свои. Он всплывал к вершине счастья, упиваясь звучанием немецкого Rönisch. Время службы – мохнатый и жестокий зверь, скукожилось и растворилось в мироздании. Оно оставило его наедине с желанным делом – музыкой.
***
Время ушло за полночь. Квартира контр-адмирала Пильщикова затихла в сонном забытьи. Пильщиков лежал на большой двухместной кровати рядом со своей женой, безмятежно спящей к нему спиной. Окна в комнате были настежь распахнуты, легкий ночной ветерок мерно раскачивал полупрозрачные занавески. Контр-адмирал чуть усмехнулся привидевшемуся образу: их ночное спокойствие сторожили два сизых призрака.
Он поднялся, нащупал на кресле одежду, взял пачку сигарет со стола и вышел из спальни. Одевшись, он вышел из дома, окунувшись в мертвую тишину города. Её озвучивала природа: сотни цикад и сверчков упоённо славили свою короткую, но неистово музыкальную жизнь. Полная луна высоко в небе светила так ярко, что казалась вырезанной дырой в черном небесном полотне, за которым полыхал свет.
Пильщиков прикурил сигарету и, глубоко затянувшись, пошел по направлению к пирсу. Сон отгоняли мысли о большой работе, которая ему предстояла. В голове засела просьба командующего флотилией вице-адмирала Олейникова: «Василий Геннадьевич, включайся в создание ансамбля. Бумага в Минобороны давно отправлена. Отказа не будет, намекнули на уровне департамента – идея хорошая. Надо срочно искать артистов: в городе, в театре, в консерватории. Но прежде всего – во флотилии. Тебе, меломану и театралу, с твоими контактами с Бакинской элитой, и ветер в паруса»
… Пильщиков дошел до тенистой аллеи, окольцевавшей здание Дома офицеров. Ветвистые клены горделиво распушились плотной зеленью, будто позируя ночному фотографу.
Адмирал любил приходить сюда ночью, когда тьма укрощала свирепый дневной зной и обволакивала долгожданной прохладой. Треск цикад стихал, с моря усиливался ночной бриз.
До пирса оставалось не больше двухсот метров. Внезапно тьму пронизал приглушённый странно шелестящий аккорд, упавший откуда-то сверху. Повторился ещё раз, в другой тональности. Затем всё затихло.
Пильщиков собрался уходить, но аккорды возобновились и перешли в мелодию, будто распираемую изнутри сдавленной, рвущейся наружу экспрессией. Мелодия обрывалась, расчленённая паузами, аккорды повторялись ещё и ещё раз … пианист явно разучивал что-то новое для себя… что?! Мелодия, стиль, полифония аккордов были предельно необычными…уникальное сочетание классической гармонии … с музыкальным авангардом. Шнитке… Шостакович… Свиридов?
Адмирала разъедало любопытство: глухая ночь и неведомый, мастеровитый пианист на втором этаже Дома офицеров. Там была музыкальная школа для детей офицеров флотилии. Но это был явно не ученик. Педагог? Место коему – в проекте создаваемого ансамбля! Именно там! Но почему в такое время? И что за странный, шипяще-укрощенный звук у фортепиано?
«Завтра непременно узнать, кто играл. Непременно.»
Наваливалась сонливость. Пильщиков направился домой досыпать.
* * *
…Матросский кубрик слитно и мощно всхрапывал, сопел, подобно ночному прибою во время легкого бриза. Лица матросов разгладились, обрели ту безмятежность, какая была до армейской жизни, не знавшей строевой шагистики, маршей-бросков и учений в штормующем море.
. Семага нервно подергивал руками. Ему снилась драка. Черты его соперника во сне явственно походили на чукалинские. Рука пошла на замах для сокрушительного удара. Но Чукалин плевать хотел на Семагу с его замахом и нахально ухмылялся. Семага ненавистно крикнул:
— Лыбишься чертило?!. Ща я тебя…. – и послал кулак в ненавистную рожу. Но, бескостно-вялая рука поползла вперед и распустилась ватным, хлопковым бутоном перед наглой физиономией. В бессильном страхе от своей немощи и дикого превращения кулака, он вскинулся на кровати. Его выбросило из сна. Старшина открыл глаза. Поднялся с кровати, вышел из каптёрки в спальню. Пошатываясь, зашаркал вдоль двухярусных коек, попутно машинально фиксируя, насколько идеально сложена форма на табуретках. Некоторые он небрежно спихивал на пол: сложена не по Уставу, что давало утром право рыкнуть на нарушителя:
— Сложить, салага, как пол-л-ложено!
Подойдя к кровати Евгена, он остолбенел: пустая койка?! На табуретке одежды не было. «Это што за бардак?! Где этот говнюк?! Самоволка?! Ночь… побег из казармы?!»
В груди разгорался ликующий пожар: эта самоволка была долгожданным подарком… он выжмет из ситуёвины по-полной… тут губой не отделаешься….
«Тут тр-р-рибунальчиком в нос шибает, москаль клятый!»
. Семага вдавил кнопку боевой тревоги на стене и, перекрывая оглушительный трезвон, заорал:
— ПА-А-ДЪЕМ!! ТРЕВО-О-ГА-А! Строиться на плацу!
Матросы с грохотом рушились с коек. Спустя минуту все стояли одетые в строю. Семага, сдерживая ликующую дрожь в груди, скомандовал:
— По порядку рас-счи-тайсь!
— Первый…второй…третий – вымётывался из ртов глухой пересчёт…
— Девятнадцатый – крайний матрос сделал шаг вперед – расчет окончен.
— Девят-над-ца-тый…- с наслаждением повторил Семага. – Та-ак, салабоны! А где ж у нас двадцатый?! Шо, черти с квасом зъилы?!. Кто знает, где Чукалин? Никто. Значит, покрываем драп своего салаги. Смир-р-рна! Стоять до упаду, пока мозги про дезертира не подскажут!
Семага развернулся и, ускоряясь, зашагал в кают-компанию. Взял трубку телефона на письменном столе, набрал номер. Переждав очередь длинных гудков он, наконец, услышал недовольный хриплый голос только что крепко спящего человека:
— Капитан-лейтенант Левин.
— Товарищ капитан-лейтенант, разрешите доложить о происшествии. В кубрике ЧП. Пропал матрос Чукалин. Экипажи подняты по тревоге. Никто ничего не знает. Разрешите организовать поисковую операцию?
Капитан-лейтенант, командир звена из пяти катеров, сидел в кровати. Глаза его были закрыты. Одной рукой он держал телефонную трубку, другой потирал висок, приходя в себя. Понял, кто ему звонит.
— Семага?
— Я, товарищ капитан-лейтенант.
— Какого черта поднял по тревоге экипажи?!
— Как только было обнаружено отсутствие матроса …
— А что сразу в штаб флотилии не позвонил?! Не мог сначала меня оповестить, а уже потом матросов мордовать? У тебя мозги в каком месте?!
Левин сморщился, как от зубной боли. Терпеть не мог офицер старшину, всадившего в команды катерных экипажей издевательскую дедовщину, скрутившего их садистской дисциплиной, напрочь вышвырнув из служебной жизни какие-либо человеческие отношения. Но дисциплинарное спокойствие в дивизионе его устраивало. И все это в – в железной клетке «Уставного порядка», с дебильно-хохляцкими издёвками.
Семага злорадно молчал.
« А ху-ху не хо-хо? Не-е, в этот раз не выйдет покрыть любимчиков».
— Все согласно Устава, товарищ капитан-лейтенант.
— Экипажам – отбой. Сами разберемся. Скоро буду.
В трубке раздались короткие гудки. В сердце старшины накалялось злорадство.
«Чукалу прикрыть захотел? Чтоб все шито-крыто? Не, бугор пархатый, хрен вам, москалям, не дам на тормозах спустить. Последний год на вас уродуюсь, так дверями хлопну, что вся флотилия на уши встанет…»
***
Чукалин сидел за фортепиано, положив руки на колени. Взгляд скользил по черно-белой клавиатуре. Концовка его «Сонатёныша» никак не давалась. Он снова и снова подбирал аккорды в разных сочетаниях — не то. Не то-о!
Ночь уходила, наваливалась усталость от хронических недосыпов. Луна за окном потускнела в прорывающемся к небу рассвете. Надо возвращаться в казарму, время почти не осталось и Разум панически, судорожно искал концовку своего «Сонатёныша». Луна… тускнеющая за окном, теряющая властную силу луна…. А может быть не мажор, а лунный минор в концовке?! Евген с замирающим сердцем положил руки на клавиши и услышал приближающиеся шаги в коридоре. Дверь распахнулась. В кабинет влетел Семага в сопровождении Левина. Сзади них маячил растерянный дежурный по ОДО. Семага рыкнул:
— Я говорил, товарищ капитан-лейтенант – здесь он! Рой себе могилу, Чукало! Дезертирство за пределы части ночью, теперь губой не отделаешься…
Не обращая на старшину внимания, Евген встал из-за инструмента, обратился к офицеру:
— Товарищ капитан-лейтенант, разрешите мне буквально пять минут, найти несколько аккордов…
Старшина взревел, раздувая жилы на шее:
— Совсем оборзел, скотина наглая?! Дезертировал и еще пасть разеваешь? А ну пошёл на выход!
— Отставить старшина! – сказал Левин, но не успел закончить. Семага прыгнул к Чукалину, схватил за руку, выворачивая её за спину… бойцовая ярость, полыхнувшая в Чукалине, послала в мозг ответную команду: локоть правой руки молниеносно, в развороте рванулся назад, за спину и вмялся в лицо Семаги. Хрустнула перебитая кость носа. Семага рухнул навзничь, стукнулся затылком о паркет. Застыл в полной отключке. Кровь заливала белеющее на глазах лицо, капала на пол.
— Ну и что дальше, Чукалин? – спросил Левин: подергивалось в нервном тике глазное веко. – В перспективе трибунал? Доигрался во всех смыслах! А ч-чёрт, поднял пылюгу на всю флотилию! Теперь нахлебаемся!
Развернулся к дежурному офицеру в дверях:
— Товарищ лейтенант, вызовите скорую.
— Обойдемся, товарищ капитан-лейтенант – сказал Чукалин. — Я сам его в санчасть.
Взвалил на плечо неподвижное, вялое тело Семаги, вышел из класса. Следом пошел капитан. За ними в суетливой растерянности поспешил дежурный.
***
Левин стоял навытяжку перед столом, за которым восседал красный от ярости командующий флотилией. В руках он держал рапорт о происшествии в дивизионе торпедных катеров, перечитанный в который раз.
— Товарищ вице-адмирал – начал Левин – я понимаю всю тяжесть моей вины и вины матроса, лучшего пулемётчика дивизиона, но он…
— Какие здесь могут быть «но», капитан-лейтенант? Этот ваш Ворошиловский стрелок форменный бандит! Ночной побег из части… во время задержания изуродовал старшину Краснознамённой флотилии…вы понимаете, что предстоит? Созыв Военного Совета с оформлением дела в трибунал. И отчёт в Генштаб ВМФ. Нам только этого сейчас не хватало! Я жду важнейшего решения из Москвы об ансамбле, а тут офицер Левин со своим матросом нас всех мордой об стол… кстати, какого чёрта этот… Чукалин делал ночью в ОДО, вы пытались узнать?!
— Заканчивал своё фортепианное сочинение.
— Что-о?
— Чукалин практически профессиональный пианист, в институте пел в народном оперном театре, имеет высшее образование, и сочиняет свою музыку.
— Та-ак. Ну и зачем этот сочинитель изувечил старшину?
— Старшина Семага бросился к Чукалину, стал заламывать ему руку за спину. Последовала ответная, автоматическая реакция матроса, плюс ко всему он КМС по самбо.
— А вы? Вы же были там! Почему не остановили старшину?
— Он не послушал моей команды «отставить». Как мне докладывали, он давно ненавидит Чукалина и издевается над ним, пользуясь своим званием.
— Н-н-да. Выходит, он не исключение. У них нет исключения из правил. Значит, правильно мы их по отдельным подразделениям разбрасываем.
— Простите, товарищ контр-адмирал, я не совсем понимаю…
— Потом поймёте. Кстати, как у вас с дедовщиной?
Левин опустил глаза, сказал, с усилием подбирая слова:
— В моё отсутствие у Семаги… не происходило никаких ЧП. По дисциплине и уставному распорядку в подразделении не было замечаний.
— Одним словом удобненько вам жилось за спиной Семаги — смотрел на Левина командующий с жесткой усмешкой — Дожились. До костоломного мордобоя с сотрясением мозга.
— Здесь моя вина, товарищ вице-адмирал. Просмотрел ситуацию. Готов к любому взысканию за случившееся.
— Ладно. Идите, капитан-лейтенант, поговорим о ситуации с Членом Военного Совета. Значит, говорите, КМС по самбо с дипломом ВУЗа и пианист-сочинитель? Весьма любопытный субъект.
***
В кабинет командующего вошел контр-адмирал Пильщиков.
— Присаживайся, Василий Геннадьевич, — озабочено пригласил Олейников. – Ну, что будем делать с этим мордобойцем? ЧП, созыв Военного Совета? Докладную Особого отдела читал?
— Внимательно изучил, Григорий Васильевич.
— Что думаешь по этому поводу? Семага и Чукалин, самбист у торпедников. Дуэтом сотворили ЧП особой тяжести.
— Позволю себе предположить, что мы думаем синхронно о главном пункте в докладной. Семага-Чукалин – частный случай, производное от главного.
— Так-так. Продолжай.
— Западенцы-старослужащие из Винницы. Из доклада ОСО: у них на флотилии националистическая смычка… слипаются в свою кодлу при любом удобном случае… делятся идеями Бандеры и Шухевича о самостийной Украине. В подразделениях держатся враждебным особняком, насаждают изуверскую дедовщину среди «москалей». Семага и его конфликт с Чукалиным – ничто иное, как итог дедовщины. Вот её то, мы сокрушительно проморгали. Точнее сказать — если не закрывали, то отводили глаза при сигналах из подразделений. Так было удобно: за дедовскими спинами старослужащих офицерам спокойно жилось.
— Ну что ж… здесь у нас с тобой мысленное согласие, Василий Геннадьевич. Так как быть с Военным советом по Чукалину?
— Обязательно созываем. Но не по Чукалиным, а по докладной Особого отдела и рецедивам дедовщины. Её итогом стало чрезвычайное происшествие со старшиной и подчинённым матросом. Над которым издевался старшина. На военном совете обязать офицеров категорически и жёстко пресекать любой случай дедовщины. И за слякотный либерализм в пресечении – вплоть до понижения в звании.
— Согласен. Что будем делать с фигурантами ЧП?
— А каждому Сеньке по шапке. Семагу комиссовать из ВМФ по состоянию здоровья и пусть катится к чёртовой матери к своим недобиткам от УНО-УНСО и РУХа. Чукалину двадцать суток гаупвахты — особого режима.
— То-есть?
— Выпускать ежесуточно на пару часов для занятий на фортепиано. Я не столь давно случайно услышал ночью в Доме Офицеров блестящую игру на пианино. Потом узнал — это Чукалин завершал своё фортепианное сочинение. Оказывается, он больше полгода тайком в самоволках, ночами занимался на фортепиано. Спал по этой причине не более трех-четырёх часов в сутки. Я не представляю, как он после этого нёс службу, как-никак лучший пулемётчик дивизиона.
— Действительно, ошарашивает… экий фанатизм…
— Точнее — музыкальная одержимость. И здесь, Григорий Васильевич, вплотную встаёт наше оптимальное решение по Чукалину: как только придёт приказ о создании ансамбля, а он уже подписан, мне сообщили…
— Переводим его туда.
— Позвольте подпустить немного подхалимажа, Григорий Васильевич: у нас, сколько бы я ни служил, никогда не будет столь комфортного, понимающего командующего.
— А у меня – такого же Военного члена.
Они рассмеялись.
— Василий Геннадьевич, а почему бы нам не послушать этого вундеркинда-мордобойца? – спросил Командующий.
— Хорошая идея. В нашем актовом зале, завтра. Там есть рояль.
***
В актовом зале стояла тишина. Ряды зрительных мест пустовали, кроме первого, где расположились два адмирала. Сзади них сидел капитан-лейтенант Левин. Чукалин, прибывший на сцену под конвоем стоял по стойке смирно. Бледное лицо несло на себе оттенок многомесячных недосыпов, но карие глаза горели решимостью. Евген не мог простить себя за вчерашний срыв, за проблемы возникшие в связи с этим у его командира Левина, за авральный подъём его товарищей среди ночи…Но именно после всего пережитого пришло окончательное решение по концовке его музыкального опуса… Он догадывался, что сейчас должен был начаться его самый главный экзамен. Софиты двумя лучами мертвенно-желтого света охватывали сцену.
— Ну что, товарищ матрос, — начал Пильщиков – интересно послушать, ради чего вы недопустимо взламывали воинскую дисциплину. Вы не отрицаете, что систематически покидали расположение части по ночам, чтобы доделать свое произведение?
— Так точно, товарищ контр-адмирал. Вчера я как раз закончил своего «Сонатёныша».
— Почему « Сонатёныша»? Я что-то не слышал о такой музыкальной форме.
— Это моё добавление. Есть Сонаты, сонатины. Я добавил к ним Сонатёныша.
— Весьма отважно. Подкорректировали Баха, Моцарта и Бетховена. Ну-ну. Продемонстрируйте новорожденного.
Чукалин поднялся на сцену, на которой отблёскивал лаком черный немецкий рояль. Сел, открыл крышку. Слегка подрагивали влажные руки – сказывалось волнение. Он вытер их платком. Закрыл глаза, собрал в комок волю. Никогда ещё не приходилось играть столь важным персонам.
Он отодвинул немного стул и положил руки на клавиатуру. Повторил в памяти всю мелодию и аккорды — финал, найденный накануне заточения. Ударил по клавишам. Рояль взорвался страстным аккордом. Из его чёрно-лакированных глубин выплескивалась матросская бытность: бессонные ночи, рвущее сердце, терзающее память письмо от Ирен из Грозного, где она сообщала, что выходит замуж за преподавателя Саратовской консерватории, куда поступила два года назад… та самая Ирэн, благодаря которой он овладел фортепиано, предельные нагрузки в маршах-бросках в полной боевой выкладке, шипящий хлёст волн в бешеном, ревущем полёте катера по морю, неутихающая, мстительная злоба Семаги, конвульсивная дрожь пулемёта в длинной очереди по мишени… и долгий неистовый срыв к финальному «piano», затем « рianissimo» , где надёжно, долгожданно принимала пустынная тишина причального пирса — под затихающий минор финальных аккордов, пронизанных лунным, истаивающим полусветом.
Евген уронил руки на колени. Беззвучно выдохнул, в набрякших руках ощущался свинцовый покой. Он сделал все, что от него зависело, всё, что мог. В зале два адмирала перешептывались.
— Ну, хорошо, – наконец, повернулся к Чукалину член Военного Совета, — Ваш командир сказал, что вы занимались и оперным вокалом, – Пильщиков обернулся к Левину — не так ли?
Левин привстал:
— Так точно, товарищ контр-адмирал.
— Чукалин, что-нибудь вспомните из вокального прошлого?
Евген запел, аккомпанируя себе на рояле. Полумрак зала прорвал калёный бархатный бас, обрушивший в тишину куплеты Мефистофеля. Пильщиков блаженно улыбался, получая истинное наслаждение. Олейников изумлённо всматривался в Чукалина, в его мимику, в движения рук: властно захватывало профессиональное, пронизанное сатанинским сарказмом, мастерство. Евген допел. В нахлынувшей тишине до него донеслись обрывки диалога двух адмиралов.
— Поистине подарок для ансамбля…
— Готовый солист…
— И концертмейстер…
— Ему и поручим набор …
Пильщиков развернулся к матросу на сцене.
— Вот, что, Чукалин, будете участвовать в организации ансамбля песни и пляски после взыскания. Служба есть служба. Капитан-лейтенант Левин…
— Я! – капитан-лейтенант вскочил.
— Объявите взыскание своей властью, в рамках Устава. За применение физического воздействия к старшему по званию. Чукалин, после отбытия наказания получите дополнительные инструкции по формированию личного состава ансамбля из служащих флотилии и за её пределами. Думаю, существенно помогут в этом деле Бакинская консерватория и театр оперы и балета. На этом закончим прослушивание. Капитан-лейтенант, забирайте Чукалина.
Два адмирала пошли на выход, обсуждая принятое решение. Евген все еще стоял на сцене. Разум, плавясь в нахлынувшем счастье, отчетливо отметил: такого подарка жизнь ему не подносила никогда.
Подошел Левин, сказал, тепло улыбаясь:
— Светишься как ночной фонарь в дивизионе. Отсидишь двадцать суток на гаупвахте. В особом режиме.
— Что за особый режим, товарищ капитан-лейтенант?
— Два часа в сутки сможешь сидеть за роялем. Под конвоем. Меньше двадцати суток не имею права.
— Спасибо вам. На первом концерте ансамбля вы будете самым почётным гостем. Без конвоя.
Оба засмеялись
— Ладно, Евген, пора идти. Жаль терять такого пулеметчика.
Они направились к выходу – к окончанию первой части службы — «Торпедный дивизион». За ней хранила свою полифонию вторая: «Ансамбль».
Шторм на море
Тяжелой поступью, покачиваясь, Семёнов шел по палубе, хотя море не раскачивало баржу, гружённую по ватерлинию брёвнами. Второй день судно шло своим рейсом, возвращаясь в Бакинский порт из Астрахани. Голова Семёнова была дубовой, разламывалась — давали знать о себе вчерашняя бутылка водки и скудная закусь в виде ломтя ржаного хлеба. Это были издержки профессии старого морского волка, утратившего всякую цель в жизни и катастрофически теряющего служебные навыки.
За бортом расстилались километры водной глади. Порывы налетавшего ветра начинали морщить её, предвещая шторм.
Матрос, пройдя этажи стянутых тросами бревен, доплелся до
площадки, откуда поднималась лестница на мостик и голубел квадрат двери в каюту. Какая-то надобность шевельнулась в памяти… надо что-то сделать…
« А, ладно, потом припомню…».
В рубке виднелся силуэт капитана, смотрящего вдаль. Матрос сплюнул на палубу. Предвкушая полумрак сулящий покой каюты, побрел к двери, но услышал голос капитана:
— Семенов! Поднимитесь на мостик!
Фыркнув в полнейшем неудовольствии, он повиновался приказу. Преодолев внушительный подъем, он оказался на площадке, где открывался вид на необъятную водную гладь, уже слегка сминаемую порывами ветра — зрелище, на которое можно было смотреть часами.
Капитан, внушительного вида мореман с седой окладистой бородой, сурово повернулся к Семёнову:
— Опять пили вчера? Доиграетесь, уволю к чертовой бабушке, – холодный голос, пронзительный взгляд и кряжистая массивная фигура придали словам капитана особую силу. Семёнов одернул телогрейку поверх свитера и отвёл глаза.
— Товарищ капитан, я вас услышал. Пятнадцатый год на барже. Тут каждый болтик как родня мне. А что выпил…это для поддержания тонуса…месячный напряг, рейсы один за другим, суши почти не видим, сами же знаете…
Капитан, давя в себе желание отвесить ему отцовских тумаков изрёк:
— Семенов, прекращайте пить в плавании. Вы на службе! Последнее предупреждение. Будьте добры держать тонус другим способом. У меня десять человек на борту и лишь старший матрос Семёнов позволяет себе такое хамство по отношению к работе. Какой пример вы подаете остальным?
Немного поостыв, он отвернулся и уже спокойно спросил:
— Вы выполнили моё распоряжение?
У Семёнова округлились глаза. Он опустил взгляд.
— Конечно… Артем Сергеевич, да как можно не сделать, все
проверил, тросы на месте, все секции закреплены. Зуб на холодец!
Его зуб на полном основании можно было пустить на холодец, поскольку из хмельной головы напрочь выветрилась необходимость проверить металлические тросы, которыми крепились брёвна. Он же проходил мимо…
«К едрёне фене, там всё, вроде, в порядке… спать, спать!»
— Идите. И хотя бы приведите себя в чувство.
Эту команду можно было не повторять. Исчезать с глаз начальства стало для Семёнова в последнее время большим удовольствием.
Круто развернувшись и зашагав прочь, он чуть не полетел с лестницы. Спустился, добрался до своей каюты и с вожделением рухнул на кровать. Через минуту реальный мир отпрянул в тартарары.
Суета
В дверь трёхкратно постучали. Чукалин спросил после стука:
— Товарищ капитан, разрешите?
— Входи, Чукалин.
-Товарищ капитан, прошу увольнения, в филармонию, оперный театр и консерваторию надо сходить.
— Продолжаешь работу с кадрами для ансамбля?
— Так точно. Прослушал в частях флотилии около сотни кандидатов, отобрал восемнадцать.
.- Важной птицей стал ты во флотилии.
— Чтобы важной птицей стать, ещё опериться надо, товарищ капитан-лейтенант.
— Ну-ну. Держи увольнительную. Надеюсь, от твоего самбо больше никто не пострадает.
— Ни за что. Без причины рукопашную не врубаю! – усмехнулся Чукалин
— Не заговаривайся! Без причины… – передразнил его капитан Левин – снова под трибунал захотел? Если бы не Пильщиков… А найдётся причина, опять челюсти будешь сворачивать? На тебя теперь с твоим вольным житьём много, кто зуб точит. Будь осторожнее на улицах, сегодня два катера тоже отпущены в увольнение.
— Есть! Вам что-нибудь принести из города?
— Себя. Вовремя и без замечаний. Кру-гом! Шагом марш.
***
Бытовка располагалась в двух шагах от канцелярии. Пятеро матросов приводили в порядок форму: кто латал прорехи, кто чистил, кто гладился. В воздухе висел матросский трёп: обо всем и ни о чем. Наслаждались единственным армейским днём, когда можно никуда не торопиться и делать все, что планировалось еще с начала недели. Иногда в разговор втёсывались понукания ждущих своей очереди на утюг:
— Звонцев, задолбал ты своими штанами, десять минут наглаживаешь. О твои стрелки скоро яйца можно будет порезать.
— Когда я твою задницу тащил через полосу препятствий, ты тоже не больно торопился.
Команда гоготнула: каков привет — таков ответ. Трёп продолжился.
— Сегодня ротный обещал никого никуда не дергать, на всё времени хватит.
— Ага. Так обычно и бывает. Дожидаешься своей очереди, а
потом бац! И на тебе команда траву покрасить. И хана свободному времени.
— Красота травы требует жертв! – Выпустил матросскую философизму один из экипажа.
— Братва, слух пролетел — учения намечаются.
– сказал матрос, драивший ваксой ботинки.
— Да бред это все. Старшина бы намекнул. Нас загодя не оповестить – себе же дороже.
В каптёрку влетел Чукалин. Вскинул руку в приветствии, молча, торопливо достал из рундука выглаженную парадную форму, стал переодеваться.
— Гля, какой красивый. И куда мы, солисты, опять на свидание с роялью?
— Само собой. Взял бы и тебя в компанию, да она только меня подпускает. Вижу — к учениям готовитесь? Правильно мужики. В моторном отсеке и при торпедах надо наглаженным быть.
— А ты откуда про учение взял?
— Хмурый намекнул.
— Это который в штабе работает?
— Да.
— Ну, это еще не факт. Хотя… Хмурому оттуда, со штабного бугра виднее.
— Вы тут гадайте – вклинился Чукалин — а свиданка не ждёт. Гуд бай! — И вылетел из комнаты.
— Куда он так резво? Может правда влюбился?
— Чукало? Да его, кроме рояля, никто не возбуждает, с ней и идет обниматься.
Ухмылялись с завистью, но без злости.
Евген направился к выходу из части. Проходя через КПП, показал увольнительную. Краем глаза заметил за собой патрульных. Те смотрели на него, переговариваясь. Евген опознал – годки, дружки старшины, комиссованного из госпиталя после двух хуков Чукалина в доме офицеров.
Получив обратно увольнительную от дежурного КПП он быстро вышел наружу: патрульные явно готовились к проверке его и увольнительной «на вшивость» — имели право на территории устроить проверочный шмон даже телеграфному столбу.
***
«Наконец, свободен», — растекалось шипучей лёгкостью в душе. Каждому служившему известно это чувство, когда выбираешься за пределы казарменных жёстких рамок.
Чукалин шел к консерватории, прокручивая в памяти разговор с контр-адмиралом Пильщиковым перед увольнением. Из Москвы спущено «Добро» на создание ансамбля – вместе с солидным финансированием и фанфарными перспективами: концерты за пределами флотилии, гастроли в другие города — если ансамбль обретёт достойный профессиональный уровень. И многое в этом уровне зависело и от Чукалина. Уже прослушано и отобрано в частях флотилии около сотни претендентов для хора ансамбля. Евген прослушал, оценил, отметил и записал 18 фамилий из частей: они на гражданке , как и он, пели в сельских и городских кружках самодеятельности, в клубных хорах. Как особый подарок – двое «годков» — выпускники консерваторий. Еще с десяток отыскать – и хор готов. В консерваторию! К выпускникам… некоторых призовут уже через месяц!
Захватывало дух от предстоящего после двух лет железного Устава, противостояния и драк с «годками», нависшего над головой трибунала после разбитого носа старшины, после штормовых, выматывающих болтанок в море.
А сейчас пока свобода! Улица весеннего Баку! Через два дня переселение отобранных претендентов в специально для ансамбля отремонтированную казарму с инструментами и столовой.
Каждый шаг приносил наслаждение. Весенние деревья, обмётанные нежной, ещё не заматеревшей листвой, шелестели на ветру, встречные девушки с интересом заглядывались на статного, рослого матроса, чья форма давала определённое преимущество перед сверстниками.
Так, сознавая обретённую новую миссию и предстоящие встречи, Евген дошел до Бакинской консерватории.
Из строгого, монументального здания, выплёскивались сотни пронизывающих улицу звуков: ревущие басы медных духовых инструментов переплетались с трелями струнных, их перекрывали распевки вокалистов. Звеняще-музыкальный хаос опахнул и ностальгически, щемяще проник в память Евгена: где вы, студенческие, оперные спевки во Дворце культуры у маэстро Соколова…Ирэна с её нежной и капризной властью над корявыми руками «самбиста-пианиста» Чукало… где вы премьеры…партии Спарафучиля в «Риголетто» и Гремина в «Евгении Онегине» с симфоническим оркестром, где всё это?!
Евген переступил порог массивной двери, шагнул внутрь. Никто его не остановил. В вестибюле было прохладно, взгляду открылся просторный холл, выложенный мраморной плиткой с рядами колонн.
У дальней стены стоял стол, за которым восседал пожилой охранник-вахтер. Чукалин направился к нему.
— Здравствуйте, уважаемый – вполголоса, сдерживая рокот баса, поздоровался он,- подскажите, где найти вокалистов.
— В актовом зале занимаются, там сейчас сольфеджио.
Прищурившись, с интересом спросил: (матрос в консерватории – фигура необычная)
– А тебе зачем вокалисты, служивый? Решил в певцы записаться?
— Я туда давно записан, дедуля, может кое-кого и здесь перепою.
— Ишь ты, – усмехнулся вслед вахтёр, оценил матросский гонор — прыткий, однако, моряк ныне пошёл! Вот перепоёшь Магомаева, тогда и поговорим.
Евген увидел дверь в актовый зал. Около нее толпилась группа студентов, о чем-то перешептываясь.
Он увидел поверх голов на сцене студента, готовящегося репетировать. От переговаривающихся студентов стало понятно, что это и есть Магомаев, который уже сейчас выделялся голосом среди вокалистов и готовится к распевке с педагогом Сафаровым.
Евген протиснулся внутрь зала. Уловив удивлённые взгляды, он понял, что мешать кому-то на сцене тут не принято. Сел с краю.
Аккомпаниатор за роялем взял аккорд и Магомаев начал распевку: бархатистый захватывающий баритон пронизал полутьму зала. Распевка была почти такой, что и в оперном у Соколова – до боли знакомые сочетания: до-ми-соль-до-соль-ми-до; следующий аккорд аккомпаниатора и:
— Ре-соль-си-ре-си-соль-ре!
…Из зала, врезавшись в секундную тишину меж распевками, повинуясь заданному аккорду, вдруг выметнулся и наложился унисоном на Магомаевский баритон сталистый, приглушённый бас следующего в распеве, повышенном на ноту:
— Ми-сольдиез-си-ми-си-сольдиез-ми!
Сафаров вздрогнул, повернул голову к голосу. Магомаев подался вперёд, всматриваясь в полутьму зала. Увидел нежданного дублёра-нахала в матросской форме. Аккомпаниатор тоже увидел Евгена. Усмехнулся и, взяв следующий аккорд распевки, кивнул Магомаеву: — «Продолжаем!» Полётный баритон будущего прославленного солиста всея Руси взмыл над сценой, принимая вокальный вызов:
-Фа-ля-до-фа-до-ля-фа-а-а!
Аккомпаниатор, улыбаясь во весь рот, дал аккорд явно для Чукалина. Чукалин встал. Мощно, коротко, всей диафрагмой, сделал вдох, взревел Мефистофелем:
— Соль-си-ре-соль-ре-си-соль!
Услышав происходящее в зале, убыстряя шаг, туда стали стекаться проходящие по коридору студенты, входили на цыпочках, прижимались к стене.
Распевка и пассажи сольфеджио длились ещё минут двадцать. Концертмейстер, он же педагог по вокалу, закончив урок, спустился в зал вместе с Магомаевым. Всмотрелся в строй любопытных, у стены, попросил:
— Господа студиозы, вокальная дуэль закончена, попрошу на выход.
Студенты выходили в коридор, но кучковались у входа: не так часто консерватория баловала подобными сюрпризами. Дождавшись ухода последнего любопытного, Сафаров спросил Чукалина:
— Чем обязаны морскому визиту, коллега?
— Прошу прощения за непрошеное вторжение, товарищ Сафаров,- для начала виновато извинился Чукалин.
— Простим, что ли, соперника? — спросил Магомаева концертмейстер. Муслим холодно усмехнулся:
— Бас баритону не соперник.
— Кто ставил голос? – спросил Сафаров – музучилище, консерватория? Для кружка самодеятельности вы слишком большая роскошь.
— Оперная студия Соколова в Грозном.
— Витька Соколов из Грозного?1 Мать честная! Вместе Гнесинку заканчивали, и вот на тебе… его ученик пытается на лопатки моего уложить! Как он там? Что нового сотворил? Помню лет пять назад он в Махачкалу своего «Риголетто» с симфоническим оркестром привозил — фурор там устроил…а мы концерт в филармонии давали…
— «Евгения Онегина» два года назад премьеру сыграли. А в Махачкале, в «Риголетто», я Спарафучиля пел, — чувствуя, как стискивает горло ностальгический восторг – выдавил из себя Чукалин.
— До чего тесен мир! А здесь… здесь- то почему в моряках?
— После ВУЗа призвали, два года отслужил на торпедных катерах.
— На Баилово? Каспийская флотилия?
— Она самая. А я у вас по приказу нашего контр-адмирала. Он договорился с ректором консерватории о моём визите. Хочу вот поговорить обстоятельно со студентами.
— О чём?
— Товарищ Сафаров, позвольте пока не вдаваться в детали… всё ещё в зародыше, боюсь сглазить.
— Надеюсь, когда зародыш оперится, меня с ним познакомите?
— Не просто познакомлю. Колено преклоню в просьбе о содействии.
— Даже так. Ну-ну. Желаю успеха. Муслим, сегодня второе занятие в двадцать ноль-ноль. Здесь же.
— Я помню, Гейдар Юсуфович.
Сафаров вышел.
— Давай знакомиться, — протянул руку Магомаеву Чукалин — Евгений.
— Муслим, – пожал её Магомаев.
Оценивая нежданного пришельца, смотрел вприщур, спокойно и настороженно: не укладывалось произошедшее в обычные, консерваторские будни, где его статус был выше многих сокурсников. Это скрытое отторжение опахнуло Евгения холодком. И подсказало решение: здесь надо взламывать ситуацию – сразу и, желательно, наверняка.
— Муслим, я всё понимаю: явился незнакомый мореман, втёрся нагло в распевку и строит из себя солиста. На твоём месте я бы отшил такого сразу и без разговоров.
— Пока подождём, — сказал всё так же холодно Муслим.
— Тебе можно подождать, а у меня через час встреча в оперном с Евграфом Рыжовым, главным балетмейстером театра. Поэтому я сразу, как говорят в России, быка за рога. У вас здесь стипендия, я узнавал, тридцать четыре рубля. Как ты смотришь на дополнительные сто двадцать рублей в месяц, работу солистом на самых престижных площадках Азербайджана, затем России и концерт в Москве, в Кремлёвском дворце? Всё это без отрыва от учёбы, с разрешения ректора консерватории.
— Ты такие сказки всем рассказываешь или по выбору?
— По выбору. Ты – первый в этом выборе.
— Ни черта не понимаю. Конкретней можно?
— Нужно. Я уполномочен зам. Командующим флотилией контр-адмиралом Пильщиковым формировать состав ансамбля песни и пляски. Состав — хор с солистами, танцевальная труппа в сопровождении инструментального ансамбля. Нужны солисты-вокалисты, танцовщики, дирижёр-хоровик. Создание нового ансамбля в армии финансирует Москва. Помещение выделено, там заканчивается ремонт.
— Та-ак. Это уже не сказки, – глаза Магомаева разгорались тёмным угольным блеском,- хотя… престижные площадки для концертов, гастроли и Кремлёвская сцена – это с какого бодуна?
— Из нашего с тобой.
— То-есть?
— До юбилея – 20-летие со дня Победы, полтора года. В Москве на 9 мая намечен фестиваль военных ансамблей. Я уже отобрал во флотилии восемнадцать кандидатов. Уровень — приличных хористов. А сможем ли мы за эти полтора — сколотить ансамбль и войти в пятёрку лучших для Московского фестиваля – зависит во многом от нас с тобой.
— Я уже в твоей упряжке?
— Это решать тебе. Кара Караев, композитор, друг Пильщикова. Его сын Фархад помогает подбирать музыкантов в оркестровую группу. И они оговорили с ректором все льготы и особый режим для солистов и выпускников из консерватории, которые впрягутся в формирование ансамбля. Я тебя сейчас слушал. Ты – из них лучший.
— Ты же других не слышал.
— Я слушал у Соколова очень многих: Дель — Монако, Карузо , Пласидо-да-Минго. Я слушал распевку и сольфеджио. У тебя природно-итальянское бель-канто. И отличный педагог Сафаров. Ансамбль может стать трамплином для карьеры лучшего из баритонов Советского Союза Муслима Магомаева.
— Не тянешь ты на доблестного советского матроса, скорее здесь гибрид из подхалима и дипломата, — улыбался Магомаев, в глазах растаял холодок, они светились дружелюбным интересом. — Так что от меня требуется?
— Подбор солистов и хористов из ваших выпускников. Некоторым после окончания идти в армию. В ансамбле уже два таких, кстати Леша Хрусталёв – пианист, ваш выпускник. Рома Будовнич – после Ташкентской консерватории. Так почему бы остальным бакинцам — вокалистам не отслужить призыв в нашем ансамбле? Или стать там вольнонаёмными солистами?
— Логично. Ты, говоришь, уже отобрал восемнадцать? Кого?
— Там в основном басы и баритоны. И жесткий теноровый дефицит. Ещё одно: необходим хоровик-дирижёр Такого пока нет.
— Замётано, учту. Насчёт хоровика… наш выпускник Олег Фельзер перебивается на вторых ролях, на подхвате в филармонии.
— Тогда в чём дело? У нас он будет первым с окладом в двести.
— Сегодня же встречусь и переговорю.
Магомаев повернул голову к выходу, там собралось уже около десятка студентов, вслушивались в разговор. Муслим спросил, улыбаясь во весь рот:
— Массовка, вопросы к солистам есть? Или всё сами слышали?
Студенты хлынули к двоим, обступили, засыпали вопросами:
— Муслим, а можно подробнее об ансамбле?
— Евгений, а кого зачислят, на флотское питание может рассчитывать?
— Муслим, нам Фархад Караев уже рассказал про ансамбль…
Евгений поднял руку:
— Товарищи лабухи! Все подробности узнаете у Муслима и Фархада. А сейчас убедительная просьба: найдёте десять минут для меня?
— Найдём и даже больше десяти минут, товарищ моряк, – сказала ближе всех стоящая студентка.- Я -Анна, класс фортепиано, второй курс. Вы что-то хотите спеть?
Евген всмотрелся, почувствовал, как теплая волна разлилась по телу – милое лицо светилось неподдельным интересом и добротой.
— Сыграть. Прошу, как профессионалов, оценить один опус.
Чукалин поднялся на сцену, сел за рояль. Сосредоточился на предстоящем. Отлетало всё остальное: дивизион, приход в консерваторию, дуэт, соперничество с Магомаевым. В мозг, в разум, в горячие пальцы втекал раскалённый, трепещущий «Сонатёныш». Он заиграл. В гулкий, резонансный зал, в полутёмное пространство выплёскивалось что-то необычно новое. Гармония выбивалась из классических канонов неожиданными диссонансами и авангардом.
Необычная мелодия, бурлящая морем и матросской жизнью, встряхивала, пробуждала острое любопытство, кто автор?!
Евген взял последний аккорд и снял руки с клавиатуры. Зал взорвался аплодисментами, в которые врывались попытки отгадать автора :
— Сильная вещь. Свиридов?
— Шнитке?
— Шнитке слабоват для этой мелодийности, скорее Гаврилин!
— Гибрид из Шнитке с Шостаковичем! Нотами поделишься?
Чукалин сошел со сцены к студентам, ответил:
— К сожалению, никто не прав. Это мой опус, под названием «Сонатёныш». Не было времени, а с нотными записями у меня, любителя, слабовато. Не записал эту вещь. Запишу – поделюсь с желающими. За оценки – поклон. В ваших отгадках даже бочком приткнуться к Свиридову с Шостаковичем – небывалая честь. Спасибо! Сейчас мне пора, опаздываю на встречу в оперном театре.
Ускоряясь, пошёл к выходу из зала не переставая пожимать руки. Позади, протискивалась сквозь сокурсников, шла Анна.
На улице, его окликнули:
— Евген!
Чукалин обернулся. Его нагнала Анна. Легкие духи пахнули на моряка абсолютно иной, не дивизионной жизнью, лицо светилось острым любопытством и интересом.
— Вы меня профессионально ошарашили. Вы действительно не учились музыке, а только пели у Соколова?
— « Шоб я сдох», поклялся Штирлиц немецкой фрау.
— Полный отпад. Вам необходимо заняться композицией. Мне кажется у вас большое будущее.
— Даже так?!. Ну, Аннушка, получить такую оценку от профессионала – об этом и не мечталось. Спасибо, давно жизнь не подбрасывала такие сюрпризы. Может, пройдемся? Если Вам по пути.
— С удовольствием.
Они пошли вдоль ограды.
— Вам в оперный театр?
— Да. Может отставим выканье?
— Слушаюсь, товарищ моряк. Только, давай пойдем через парк. Он как раз по дороге.
— Сахил?
— Да, он – она улыбнулась – мой любимый. Хоть и маленький, но уютный и очень красивый. Как сейчас помню, как мы с мамой и братом гуляли там в детстве.
— Ты не очень похожа на азербайджанку.
— А я и не она – она поправила прядь волос, заправив ее за ухо.- У меня родители в свое время поменяли квартиру на Баку и переехали из Киева. А я не знаю – почему. Они никогда не рассказывали об этом.
— Если не рассказывали, значит, не надо. Зато, спишь спокойней. Когда посчитают нужным – обязательно расскажут.
— Наверное, ты прав. – она посмотрела Евгену в глаза. – Знаешь, с тобой так легко и просто. Не так часто встречаешь настоящих мужчин… особенно в нашей среде.
Они зашли в парк. Маленький и уютный, всё так, как описывала Анка. Деревья за десятилетия взмыли ввысь, и вширь, награждая землю тенью. Несколько фонтанчиков выбрасывали струйки чистой, прохладной воды. Поодаль немолодая женщина в старомодной фиолетовой шляпке выгуливала шпица. Девушка любовно оглядела, казалось, каждое дерево по отдельности и, направившись к скамейке, сказала:
— Вот мы и пришли. Пойдем, посидим.
— Только несколько минут, у меня полчаса до встречи с Рыжовым в театре.
— У тебя есть девушка?
Евген дрогнул: вопрос острым шипом вонзился в сердце. Ответил коротко, уминая в себе тоску, норовившую выплеснуться с голосом.
— Была.
— Почему была? И кто она? Та самая, которая научила тебя играть?
— Реалистка. Вычислила, что преподаватель консерватории, как муж, выгодней матроса Каспийской флотилии…
Анна взяла его под руку, виновато покаялась:
— Ну, прости. Я бессовестная любопытная клуша, сую нос, куда не следует.
— Ничего, проехали, — устало сказал Евген. – Извини, мне пора на встречу с Рыжовым, терпеть не могу опаздывать.
— Да-да, помню. Ну… до встречи?
— Считаешь, она нужна? — Тепло, с затаённой надеждой спросила Анна.
— Считаю, необходима.
— Странно. У меня такое же ощущение. В следующий раз, когда будешь в городе, позвони. Вот визитка папы и наш домашний телефон. Куда-нибудь сходим.
Они расстались, синхронно чувствуя, что случилось нечто важное, которое надо сохранить и беречь.
***
Вечером в кубрике Евген лежал в своей койке, прокручивая в голове прошедший день: Адмирал Пильщиков… сумасшедшая радость от предстоящего события – ансамбль! Приход в консерваторию… встреча и разговор с Магомаевым… затем Анна. В памяти возникло её лицо и горячая волна опахнула сердце.
— Евген, спишь? – Донёсся до него полушёпот Рената — торпедиста. Два года они служили бок о бок на одном катере.
— Нет еще. Чего тебе?
— Болтали об флотильских учениях. Годовые, итоговые. Как думаешь, правда?
-Пока на уровне ОБС, одна баба сказала. Но что-то в этом есть.
— У меня паршивое предчувствие, что это шарахнет. Как будто в последний бой пойдём. Сна ни в одном глазу.
— Напридумывал всякую хрень — усмехнулся Евген – Наши с тобой враги в этом бою – мишень для пулемёта и деревянный макет эсминца для твоей торпеды. Их и будем побеждать. Спи!
***
Оглушительный грохот ударил в уши капитану баржи. Баржа тяжко, всем корпусом вздрогнула от сокрушительного удара массивных, десятиметровых брёвен-кругляков. Они громоздкой, взъерошенной массой рухнули на палубу и стали скатываться в море: лопнул изъеденный ржавчиной металлический трос, опоясывающий одно из четырёх бревенчатых звеньев. Капитан увидел, как стоящего у перил дежурного по палубе матроса Лунгина накрыло свирепой стволовой лавиной и сбросило в кипящую волнами морскую темень.
В кубрик со спящими матросами ворвался отчаянный капитанский крик с мостика, усиленный многократно динамиками:
— Подъём! Авральная тревога! Человек за бортом!
Матросы отдыхавшей команды вскакивали в койках. Семёнов, старший матрос, очумело оторвал от подушки гудящую с похмелья голову. Моряки рушились с коек, лихорадочно натягивали тельняшки, робы, штаны, вымётывалсь из кубрика. Баржа взмывала и опадала на крутых валах. Корпус её тяжко вздрагивал от сокрушительных ударов. Они замедлялись, остатки бревенчатого звена таранили баржу всё реже.
Наконец, последнее из брёвен, самое массивное, метрового диаметра лиственница, рухнуло на палубу, покатилось по ней к борту, хлеща доски толстенным тросом с размочаленным концом, обвязанным вокруг комля.
Бревно ухнуло за борт, встало торчком, утопив вглубь утяжелённый остатками троса комель. Метров пять не ошкуренного лесного гиганта, торчало над взбаламученной стихией и бревенчатой россыпью вокруг. Баржа медленно уходила от этого зловещего хаоса, таяла в полутьме.
Всклоченный, в одних подштанниках Семёнов метался по палубе, расталкивая моряков. Он, в ужасе схватившись за голову, сознавал роковую суть произошедшего – это всё он, сучья пьянь, не проверивший днём, перед штормом, крепления брёвен.
***
Спустя три часа спящие в кубрике матросы услышали звон боевой тревоги. Дневальный по казарме заорал: « Подъем!». Матросы спрыгивали с кроватей. Через минуту с небольшим дивизион торпедников выстроился во дворе на плацу.
Через пятнадцать минут Каспийская флотилия отчаливала от берега в море. Крейсеры, торпедные и ракетные катера, авианосец – полчище морской силы покидало порт посреди ночи.
Флотское учение с боевыми стрельбами длилось до трех утра. После чего капитанам кораблей поступила команда возвращаться в порт.
***
Евген сидел в своей БЧ-2: металлокруге с турельным вращающимся пулемётом. Ренат, торпедист съежился в сиденье БЧ-1 , в конце торпедного аппарата. Возвращались после учений на базу. Отстрелялись на «Хорошо». Тела сковывала усталость, сон властно вползал в голову, смыкал свинцово-тяжёлые веки. С черно-серого неба моросил дождь, нос катера разрубал волны, заметно нарастившие после полуночи свою мощь и крутизну, приближаясь к пяти баллам. Дождь совсем не по-летнему, мочил форму и заползал стужей под тельняшки. Силуэт капитана-лейтенанта, командира катера Левина маячил в капитанской рубке.
Всматриваясь в хаотично поднимающиеся бугры воды, Чукалин прокручивал в памяти только что состоявшееся: пулеметная стрельба по мишеням, оценка «Хорошо», вполне приравненная к «Отлично» и пуск торпеды Ренатом с оценкой «Удовлетворительно» — с учетом трёхбального волнения на море.
— Чукалин, Эльмурзаев, замерзли? – Окликнул капитан из рубки.
— Терпимо, товарищ капитан-лейтенант – сцепив зубы, отозвался Чукалин.
— Терпимость вещь полезная при необходимости. Необходимость отпала. Разрешаю спуститься в машинное отделение.
— Есть… спасибо, — в унисон отозвались Чукалин с Ренатом.
Евген, держась за леер, направился к корме катера. За ним двинулся Ренат. Палуба под ногами взмывала и опадала, переваливалась с боку на бок: Каспий раскачивало ветрило, шторм набрал силу. Катер, взбираясь на пологие бугры волн, двигался вперёд на малом ходу, не превышающем 20 узлов в час, сзади за кормой вспухали пенистые буруны от винтов.
Балансируя на полусогнутых ногах, Евген подошёл к крышке люка машинного отделения: он был не задраен вопреки Уставу во время учений, в палубе светилась полукруглая щель. Евген потянул люк за ручку на себя. В лицо пахнуло жаром и рёвом раскаленного двигателя. Оперся о палубу руками, бросил ноги в круглую, гремящую железным рокотом дыру, сноровисто нащупывая подошвами железные ступени трапа. За ним нырнул Ренат. Они спустились в полутёмную тесноту машинного отделения, блаженно ощущая задубевшими лицами долгожданное тепло.
— Смирна-а! Р-равнение налево! — громыхнул Чукалин.
Машинист Денис и его помощник Артём, сидевшие с закрытыми глазами, привалившись спинами к борту, дернулись. Денис недовольно рыкнул:
— Тьфу, твою дивизию! Чего орёшь?
— А ничего, что у вас люк расхлебячен? На учениях как положено? Раздолбаи!
— Евген, не возникай, — примирительно отозвался Денис, — стрельбы закончились, жарища давит, люк не задраили, чтобы в щель хоть чуть выветривалось.
— Ничего, потерпим, жар костей не ломит, — сказал Чукалин – Ренат, задрай люк.
— Слушай, Чукало, какого хрена ты у меня в БЧ-3 командуешь? – вскинулся Денис, — твоя громыхалка на палубе, там командуй!
— Евген, в натуре, пусть ещё минут десять проветрится, потом…
Ренат не успел закончить.
***
Командир катера 649 капитан-лейтенант Левин, доложив в штаб по рации свои координаты, напряжённо всматривался во мглу бушующего моря. Он вдруг увидел: перед самым носом катера внезапно появилась, толстая, торчком стоящая дубина, воткнувшаяся в небесную мглу. Дубина накренилась на гребне чёрного вала и обрушилась на катерный нос. Левин рванул штурвал влево и с тоскливым ужасом ощутил необратимую конвульсию катера, стремительно сваливающегося на бок. Дубина ползла вдоль борта, обдирая о заострённую дюраль лохмотья коры, заваливая катер. Водяной вал, несущий ствол кругляка, навалился, ударил в борт упругой мощью и перевернул судёнышко.
Левина утаскивал в глубину ледяной смерч, в голове истаивала последняя, пропитанная смертной тоской мысль «Конец»!
***
В уши моряков машинного отделения толкнулся мощный тупой удар снаружи. Катер содрогнулся, натолкнувшись на что-то массивное. Задирая нос, стал заваливаться на бок. Днище с припаянным к нему двигателем задралось вверх и стало потолком. Четверо моряков, обдирая бока, руки и лица о дюралевые рангоуты, рухнули на потолок, ставший полом. В распахнувшийся люк рванул снизу столб ледяной воды. Она накрыла четыре скрюченные матросские фигуры, с жадным, хищным хлюпом поглотила треть полутёмного пространства машинного отделения. И остановилась, спрессовав над собой воздушную подушку. В неё выныривали из воды со стоном и воплями, очумело озираясь, три мокрые фигуры.
Слитный дизельный грохот прервали свистяще хлопки, затем рваные паузы. Стальную махину встряхнуло, рокот свисающего с потолка двигателя оборвался. В воздушную пробку вокруг него ворвалась тишина.
— Все живы, мужики? — сплюнув солёную воду, рыкнул Чукалин , всмотрелся, сосчитал – Ренат… Денис… Артем… ты где, Артём?! Артёма нет!
Он нырнул в солёную, ледяную стынь, двинулся вперёд, обшаривая руками пространство. У торцовой стены отделения ладони наткнулись на вялую, неподвижную плоть. Уцепил задубелую жёсткую робу на теле двумя руками, дёрнул её вверх, встал на ноги. Голова Артема с закрытыми глазами склонилась к плечу, на виске сочилась сукровицей надорванная кожа.
— Артём… земеля… ты чего?! – Потрясённо выхрипнул Денис, рванулся к напарнику по службе — Артём, браток, оживай! – Тряс сослуживца за плечи, выстанывал механик.
— Тихо! Отставить истерику, – сквозь зубы выцедил Евген. Всмотрелся в дюралевую переборку с двумя пустыми креплениями для рундука с запчастями, понял:
— Рундук сорвало с креплений. Ему на голову.
Обхватил недвижного Артёма сзади под мышками, стал сдавливать и отпускать его грудную клетку:
— Ну давай, братишка… дыши… дыши… не сдавайся…
Массаж длился бесконечные несколько мнут, Артём не приходил в сознание.
— Это что было… на что напоролись… командир где? Что будем делать?! — бросал рваные фразы Ренат, панически обшаривая взглядом плещущий ледяной аквариум, в котором они стали пленниками.
— Для начала не бабиться! — Властно, сосредоточено отрубил Евген.
— Конец нам! – Потрясённо выстонал Ренат, — не зря с утра почуял — в последний бой идём.
— Сказал, не бабиться! – Рявкнул Чукалин, — в штабе учение на контроле, доклады от командиров кораблей в штормовых условиях каждые пятнадцать минут, плюс засветка на экране локатора. Доклада от нашего катера нет. Это уже зафиксировали.
— Евген, что с командиром? Может выплыл… держится на днище?- выцедил сквозь зубы, стискивая дрожащие челюсти, Денис.
— Придержи Артёма, — приказал Чукалин. Жёсткая угрюмая сила исходила от него, принуждая к беспрекословному повиновению. Денис подгрёбся к Евгену, перенял вялое тело помощника, прислонил его к переборке. Чукалин вновь погрузился в воду, ухватил ощупью квадратный рундук с запчастями и инструментом, сорванный с переборки. Выдернул его наверх. Напрягаясь от его свинцовой тяжести, задвинул в пазы крепления, откинул крышку. Набор инструментов был цел. Евген взял гаечный ключ несколько раз стукнул в металл. Железные лязги толкались в ушные перепонки, оглушая в замкнутом пространстве.
Провальная тишина была ответом.
— Нет нашего командира, мужики. Не отзывается, не выплыл, – сказал подавлено Чукалин. Оглядел серые, мокрые лица выживших. На них наползал тоскливый растерянный ужас. Становилось труднее дышать: три пары лёгких гоняли воздух в железной замкнутой коробке, гоняли в авральном, паническом режиме, насыщая его отравленной углекислотой. Четвёртая пара — Артёма едва работала, он был в коме.
***
Младший лейтенант Жильцов сидел перед экраном радара на командном пункте в штабе флотилии вместе с десятком других офицеров.
Он всматривался в экран радиолокации и периодически тер глаза, начавшие воспаляться от бессонной ночи.
Распределившись во флотилию всего несколько месяцев назад, он впитывал практические знания своей профессии. Одно дело – заниматься в военном училище, где за твоей спиной преподаватели и на экранах всего лишь безжизненная имитация, а другое – настоящая служба в условиях Флотского учения, приближённого к боевому.
Фосфоресцирующий экран устойчиво отражал зелёные точки кораблей, возвращающихся с учений. Их было двадцать. Точки едва заметно сползались к единому центру – гавани порта. За каждой точкой скрывался настоящий боевой корабль, начиненный ракетами, торпедами, минами и другими сокрушительными образцами оружия. Жильцов мысленно врывался в морскую стихию, представлял себя капитаном какого-нибудь эсминца, ставил задачи штурману или оператору ракет. Минуты текли неторопливо и успокаивающе – всё шло по графику, без отклонений.
Из-за спины на его плечо легла тяжелая рука начштаба. Жильцов развернулся, встал, отрапортовал:
— Товарищ капитан первого ранга, во время моего дежурства происшествий не случилось, корабли возвращаются заданным курсом к порту, старший оператор лейтенант Жильцов.
— Хорошо, Жильцов. Первые твои учения?
— Так точно.
— Поздравляю. Есть какие-нибудь вопросы?
— Никак нет.
— Задачу помните? Принимать доклады от кораблей каждые пятнадцать минут: заданный курс, время прибытия и состояние хода.
— Так точно. Последняя связь состоялась… тринадцать минут назад.
— Продолжайте дежурство, лейтенант.
Капитан первого ранга отошёл. Жильцов глянул на часы, в душе ворохнулась тревога: последняя связь была больше тридцати минут назад, время прошмыгнуло незаметно. Жильцов надел наушники, отдал команду вполголоса:
— Внимание кораблям. Говорит база. Выйти всем на связь.
После чего стал принимать доклады.
— Татарстан 495 , на связи. Корабль следует курсу в квадрате 48,95,8.Без происшествий. До прибытия сорок минут.
— Альфатер 865, на связи. Корабль следует курсу в квадрате 47,95,4. Без происшествий. До прибытия сорок пять минут.
— Бакинец-687, на связи. Корабль следует курсу в квадрате 48,93,6.Без происшествий. До прибытия пятьдесят минут…
Жильцов отмечал на листе отметившиеся корабли.
После девятнадцатого он пересмотрел список. Пересчитал ещё раз, чувствуя, как толкнулась в голову тревога:
— Так…почему девятнадцать….Когда их стало девятнадцать? Твою дивизию, где двадцатка – катер 649?!!
Нажал кнопку на селекторе, доложил звенящим от тревоги голосом:
.- Товарищ капитан 1-го ранга, дежурный оператор лейтенант Жильцов. Докладываю: не поступил сигнал от одного из кораблей – торпедный катер 649.
— Что-о? В прошлой перекличке он отметился?
— В прошлой…. полчаса назад – так точно, доложил параметры, как все остальные …
— Прошлая должна быть пятнадцать минут назад, а не полчаса! – взревел начштаба — в бирюльки или в куклы играем на боевом дежурстве, Жильцов?!
Нажал синюю кнопку на селекторе, включил громкую связь:
— Антоненко!
— Капитан третьего ранга Антоненко на связи!- тотчас отозвался командир лётного подразделения.
— Сергей Иванович, поднимай грузовой вертолет с водолазами, приказал начштаба – исчез со связи торпедный катер 649. Ориентировочный квадрат поисков 48. 95.8.
***
Трое тел, колыхавшихся в замкнутой железной клетке по пояс в ледяной воде, приближались к последней жизненной черте. Четвёртое тело – Артёма эту черту перешло. Трое, прижавшихся спинами к остывающему двигателю, уже не чувствовали ни костей ни мышц ниже пояса. На известково-белых лицах двоих – Дениса и Рената, застыл тоскливый ужас, легкие гоняли разреженный отравленный воздух из последних сил: сердце и лёгкие задыхались без кислорода.
Ренат закрыл лицо руками. Плечи затряслись в тяжком, надрывном плаче.
— Евген, — выхрипнул Денис – ещё п-п-полчаса и м-м-мы трупы. Я… пробиваю… дыру в днище… б-б-больше не могу.
— Через дыру воздушная подушка, которая держит… катер… вытечет за минуты … — мертво, тускло предостерёг Чукалин.
— Ч-чёрт с ней… с п-п-подушкой…я сейчас сдохну!
Глаза Дениса стекленели в наползающем безумии, он двинулся к ящику с запчастями на переборке.
— Стоя-а-ать! – выдохнул Чукалин. Мозг пронизала спасительная мысль, порождённая «дырой». Уцепил Дениса за робу, прижал спиной к двигателю.
— Дыра, говоришь… ай молодец… гений….дыра это хорошо!
Он похлопывал Дениса по щекам, повторял — «Ну ты — гений»! Глаза Дениса становились осмысленней. И отметив этот приход в здравомыслие, стал приказывать Чукалин жестко и нетерпеливо, вбивая приказы гвоздями в мозг Рената:
— В движке маслопроводные шланги! Разных диаметров! От каждого отрежь по полметра! Продуй от масла!
— Зачем? –Уже с надеждой, обессиленно спросил Денис.
— Дыра должна быть полезной! Выполнять! Держи нож! – нетерпеливо ответил Евген.
В тусклом свете плафона, врезанного в переборку, вынул из рундучка с запчастями нож и передал Денису. Сам вновь вернулся к рундучку и достал из него два круглых зубила с закалёнными зубцами. Нетерпеливо перебирал их, наблюдая за работой Дениса – замедленно- вялой, из последних сил. Не дождавшись завершения его работы он нетерпеливо выдернул из руки Дениса три отрезка шлангов и сам продул их от масла. Сравнил с диаметрами зубил и найдя подходящий, сходного диаметра, вернул его Денису:
— Держи наготове.
Взял выбранное круглое зубило, молоток, приставил к днищу над головой и ударил по зубилу молотком. Он бил и бил в железном грохоте, задыхаясь, выбиваясь из сил, пока зубчатая округлость не пробила дюраль. С легким свистом в дыру рванул воздух, вода в катере на глазах, по сантиметру стала подниматься, затопляя плафон на переборке, источавший мертвенно синий, слабеющий свет.
— Дай сюда! – рыкнул Евген, выхватил из руки Дениса шланг, выдернул из дыры зубило и втиснул в неё конец шланга. Отметил с неистово полыхнувшей радостью: им сказочно повезло- прорезиненный шланг вошел в округлость туго, намертво закупорив отверстие. Чукалин зажал конец шланга пальцем, потрясённо, задыхаясь, выстонал:
— Ай Женька… ай да сук-кин сын!
Плафон, истощив аккумуляторный запас, погас. Их всех накрыла кромёшная тьма. Но в руках у Евгена уже был волшебный эликсир, исцеляющий, продлевающий жизни — доступ к свежему воздуху. Он уцепил шланг губами, вдохнул и задохнулся, закашлялся от хлынувшей в легкие озоновой, хладной свежести, стал дышать. Через минуту выдернул шланг из губ, зажав пальцем конец, нащупал руку Рената, вложил в неё шланг: тот судорожно, из последних сил хватал воздух, сказал:
— Дыши! Минуту, не больше! Потом Денис.
***
Операция
На пирсе дежуривший грузовой вертолет запускал двигатели. Четыре огромные лопасти лениво раскручивались все быстрее, пока не слились в единый круг. Первый пилот, получив разрешение на взлёт, оторвал машину от земли, взмыл в зыбкую, сумрачную мглу, взяв курс навстречу возвращающимся кораблям.
…Через несколько минут вертолёт висел над заданным квадратом 48.95.8 . Воткнув в море слепящий столб прожектора, пилоты напряжённо всматривались во взбаламученную стихию под собой, искляксаную белыми бурунами. Дождь заливал стекла кабины, щетки их очищавшие, метались по стеклу в предельном режиме .
— Видишь что-нибудь?
— Нет, а ты?
— Как в воду канул катер.
— Да уж, этого нам только не хватало.
— Давай по линии его курса.
Вертолет медленно поплыл по курсу катера, высвечивая бесконечный танец волн прожектором. Пилоты напрягали глаза, пытаясь разглядеть очертания малого судна. Сидевшие в вертолёте четверо водолазов тоже не отрывались от иллюминаторов. В сознание всех гадюкой вползало чувство, что все тщетно, но пилоты ещё и ещё раз проходили весь маршрут.
Наконец первый пилот сказал:
— Ладно, давай докладывать. Всё, ничего не отыщем. Каспий, стервец, разбушевался по полной. Похоже «Шестьсот сорок девятому» царство небесное. Если так, то дальше уже не наша работа, а подводников.
— Похоже. Докладываем, – первый взял рацию, поднес ко рту, но был остановлен окликом второго пилота:
— Стой! А ну, давай влево на 20 градусов. Смотри, что там?
Они оба увидели среди громоздких валов, увенчанных пенистыми гребнями, мерцало нечто красное. Вертолет развернулся и пролетел с десяток метров вперед. Спустя минуту луч прожектора накрыл отливающее красным днище катера.
Пилот схватил вновь рацию:
— Внимание, база!. Обнаружено днище «Шестьсот сорок девятого». Перевёрнут, держится на плаву скорей всего воздушной подушкой. Приступаем к высадке водолазов!
Вертолёт завис в трёх метрах над морем, шипящие валы почти касались его днища. Второй пилот распахнул дверь кабины, крикнул водолазам, перекрывая рёв двигателя:
— Мужики, теперь ваша работа! Цепляйте тросы к катеру.
Водолазы, нацепив маски, по очереди вываливались в море через распахнутую дверь.
С вертолета, извиваясь гибкими удавами, опустились четыре троса с крюками. Водяные валы заглатывали их в себя, растаскивали в разные стороны. Водолазы рывками, ударами ласт о воду настигали их, вцеплялись в змеевидные извивы. Когда были пойманы все концы, водолазы, держась за тросы, сплылись к красному днищу катера и увидели ещё не виданную и необъяснимую реальность: из днища торчал конец резинового шланга. Когда, кто, зачем?! На отгадки не было времени, днище хищно накрывали, перекатывались через него крутые волны и водолазы стали подныривать к утопленной ватерлинии и цеплять металлические крюки за массивные проушины вдоль неё: виват, честь и хвала прозорливому разуму конструктора, предусмотревшему подобные ситуации.
Крюки держались в проушинах у всех, четверо вцепились за тросы мёртвой хваткой, упершись ногами в днище, и старший, зафиксировав конец общей адской работы, подняв голову с фонарём к вертолету, трижды мигнув пилоту светом, крикнул за минуты осипшим голосом:
— Майна!
***
Моряки услышали снаружи приглушенные звяканье металла о борт катера. Оно было настолько нереальным и оглушительным в кромёшной утробе ледяной мглы, уже почти переварившей их тела, сознание и разум, что трое содрогнулись, простреленные звуковым током. Звяканье прервалось, катер вдруг выровнялся и пополз вверх. Водяной пресс, давивший их тела, сползал к полу- бывшей палубе. Катер на тросах, оторвавшись от крутых валов, завис над ними. Из распахнутого люка столбом хлынула вода.
Трое, в ледяном бункере, освобождённые из мучительного плена, бессильно рухнули навзничь, не чуя под собой ног. Увидели в распахнутый люк, как вздыбленное море, полосуемое прожекторным светом, проваливается в бездну. Потом оно качнулось, накренилось и сдвинулось, катер, ускоряясь, поплыл над бушующей стихией.
Трое, обнявшись вокруг люка, втягивали в себя и не могли надышаться самым ценным, что было в мире — воздухом. Оставшуюся в живых команду пронзило горестное осознание — освобождение пришло не всем, радость спасения уже никогда не разделят с выжившими командир с Артёмом. Надышавшись, Денис и Ренат содрогнулись в беззвучном, страшном мужском плаче. Чукалин, цедил сквозь сцепленные зубы, едва ворочая заледеневшим языком:
— Всё… всё… братва…командиру с Артёмом царство небесное, а мы живы…. дышим. Скоро порт…койка с белой простынёй… масляная гречка… и тёплый гальюн.
— А шо…такое вместе бывает? – Всхлипнул Денис, — пока Семаги нет, я в его гальюн… с миской, где гречка… и сидеть буду, пока всё не выжру…потом переварю и Семаге не смытый подарочек оставлю.
Трое тряслись в конвульсиях. И было не понять, сколько в них смеха, а сколько преодолённого, выдержанного испытания моряков, которым бытие только что присвоило звание « Мужчина».
— Нет Семаги, забудьте, — сказал Чукалин, отдышавшись – комиссуют его по состоянию здоровья, подпорченного бандито-матросом Чукалиным.
— Евген, говорят, тебя тоже от нас забирают. Куда?- спросил Ренат.
— В другое измерение, — ответил Евген, продолжил непонятно и потрясённо – туда, где рояль, клавиши, и Аннушка с Муслимом.
К О Н Е Ц
Георгий Масленников,
курсант факультета журналистики
военного университета Министерства обороны РФ.























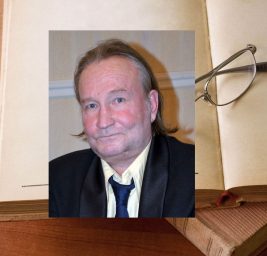









НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ