Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Александр Балтин. «Новогодняя ёлка, как ретроспекция жизни». Рассказ
- Елена Сомова. «Выравнивание вирусами». Философское эссе
- Путеводитель по краю листа
- Евгений Хохряков. «История с лопухами». Рассказ
- Елена Сомова. «Пришелец». Рассказ
Владимир Соловьёв. Неподвижное солнце
26.03.2025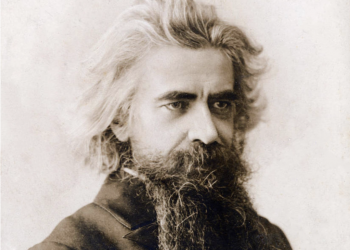
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама,
Пусть в небесах горят паникадила, –
В могиле – тьма.
История русского символизма началась с пародий Владимира Соловьёва на русских символистов.
Или нет. История русского символизма началась с поэмы Владимира Соловьёва «Три свидания».
Нет. История русского символизма началась с философии Владимира Соловьёва – наскоро прочитанной и плохо понятой.
Так или иначе, он нехотя встал у истоков отечественного модернизма, который был ему эстетически чужд. Недаром так в ходу было сравнение его с Моисеем, который смог вывести народ из египетского плена, смог провести через все ужасы пустыни, но войти в Обетованную Землю не имел права, умер на пороге.
Смерть Владимира Соловьёва в 1900 году, то есть до начала даже календарного XX-го века, придала весу ветхозаветному сравнению.
«Затем, что оба Соловьёвым / Таинственно мы крещены…», – писал Вячеслав Иванов Блоку. Не только их крестил Владимир Соловьёв – ёмок был крестильный чан. Но только эти двое – аналитик и мистик – восприняли крещение во имя Софии как таинство, изменившее жизнь и поэзию.
Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Что в этих строках от Фета, а что – от уже новой поэзии?
Всё в литературе развивается постепенно и поступательно, изменения исподволь накапливаются, чтобы потом осуществиться в полной мере и поразить невнимательного наблюдателя резким сломом традиции.
Когда слишком многие представители русского модернизма чем дальше, тем решительней уходили от продуманных, осмысленных стихов, отрадно сознавать, что истоком новой поэзии были умные, культурные стихи Владимира Соловьёва.
Поэзия – дерево, питаемое корнями и растущее свободно. Тот, кто пишет исключительно в рамках действующей традиции и тот, кто, забросив чепец за мельницу, со всякой традицией порывает, – одинаково чужды поэзии.
Путь Владимира Соловьёва – путь Одиссея между Сциллой и Харибдой. Традиционность формы в полной мере сочеталась с новаторством содержания – так, что и форма начинала меняться и содержание увязывалось с прежними смыслами поэзии.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
<…>
Тянулся, замирал и замер звук.
Вот она, наша преемственность, вот она, наша новизна.
Трудно себе представить, но в конце XIX-го века Тютчев был полузабытым поэтом. Читали Надсона. Эстетическая глухота была одним из существенных признаков высокой гражданственности. Нельзя сказать, что статья Владимира Соловьёва о Тютчеве сразу всё изменила, но она способствовала пробуждению интереса к одному из лучших русских поэтов.
Но, кажется, что ничего так не противоречило пантеизму Тютчева, как соловьёвский пантеизм.
«Слава Богу, никого не убил, никого не родил!» – говорил о своей личной жизни Владимир Соловьёв.
Все женщины, с которыми Владимира Соловьёва по-настоящему связывала судьба, носили имя Софья. Отношения с той Софией, которая непосредственно Вечная Женственность, складывались легче и правильнее, чем с её земными воплощениями.
Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества…
Для русской литературы это было впервые, чтобы стихи писал профессиональный философ. Ну, это если вообще были в России настоящие философы до Владимира Соловьёва.
Философия Владимира Соловьёва, как и, впрочем, любая другая философия, мало чего стоит, если не находит себе применения в литературе. Владимир Соловьёв смог осуществить свою философию. Сначала он триумфально явился в русской прозе в качестве прототипа Алеши Карамазова, а идеи о церковном суде достались Ивану Карамазову. Потом настало время поэзии, в которой каждая философская идея стала лыком в строку.
Владимир Соловьёв спорил с имморализмом Ницше и написал «Оправдание добра». Но разве можно состязаться с Ницше на поле философских трактатов? Ницше прежде всего – поэт, и философия его воздействует на читателей, как шампанского сорта словесность: пьянящая и шипучая.
Но настоящий секрет Ницше не только в том, что он поэт, а в том, что он плохой поэт, слишком пафосный в своей пошлости, слишком потрафляющий обывательскому вкусу. Где уж с таким тягаться действительно талантливому поэту – Владимиру Соловьёву.
От шумной, многочисленной и голосистой толпы русских мистиков Владимира Соловьёва выгодно отличает прекрасное чувство юмора. И ладно бы там он в сатирических стихах острил, где вроде как уместно, – нет, он и в самой мистической, теургической поэме «Три свидания», где рассказывал о явлении Софии, не смог обойтись без юмора. Такова уж природа дара.
И немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах! слишком он глупа!»
Это ведь о Ней, о Вечной Женственности, о святой Софии! Но игривый тон может смутить только неверующего, готового чуть что насупиться, оскорбиться, разочароваться. Настоящему же адепту всё нипочём. Ему нравится рассказывать, немного даже ёрничая, чтобы не выдавать профанам тайны сердца, мистические тайны.
С чем можно сравнить поэму «Три свидания»? По силе слова, по пафосу вечной женственности – только с «Новой жизнью» Данте. Но «Новая жизнь» ценна не столько сама по себе, сколько как подступ к «Комедии». Написав «Новую жизнь», поэт не может не задуматься о «Комедии». Тут уж неизъяснимый закон судеб.
Как могло так получиться, что свой Magnum opus Владимир Соловьёв решил писать в жанре морально-философских трактатов? Неужели не понимал, что в прозе такая махина даже у Достоевского не могла получиться. Вон Гоголь попробовал – так бедолага с ума сошел. Только поэзия в силах справиться с задачей осмысления мира и Бога.
В философских статьях и дурак легко может сойти за умного. А вот где ни ум, ни глупость не спрячешь, так это так называемый лёгкий жанр, юмористика. По стихам Владимира Соловьёва видно, насколько он умён. И остроумен тоже.
Далеко не все поэты умеют сочетать поэзию и юмор.
Не говори: зачем цветы увяли?
Зачем так в небе серо и темно?
Зачем глядит, исполненный печали,
Поблекший сад к нам в тусклое окно?
<…>
Не говори: зачем под лад природы
Твоя подруга злится и ворчит?
Слова бесплодны: мудрый в час невзгоды
Пьёт с ромом чай и с важностью молчит.
Как, читая эти строки, не вспомнить блаженной памяти Козьму Пруткова. Но времена изменились. Кто ещё может дать честное слово, что лето возвратится?
И юнкер Шмидт стреляет себе из двух пистолетов в виски.
Главным, единым на потребу Владимир Соловьёв считал созерцание Абсолюта и ту интуицию, которая позволяет это созерцание осуществлять. А это ведь прямое дело поэзии.
«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не Бог философов», – писал Паскаль.
«Абсолют Александра, Абсолют Михаила, Абсолют Фёдора, а не Абсолют философов», –
может сказать любой русский мыслитель, честный со своею мыслью.
В России только тот философ, у кого есть поэтический дар!
У Владимира Соловьёва есть отвратительная, страшная статья «Судьба Пушкина», в которой доказывается, что смерть пошла Пушкину исключительно на пользу. Так и маячит за текстом Владимира Соловьёва тень Николая I, упрямо талдычащая: «насилу заставили Пушкина умереть по-христиански».
Представляя обыкновенную женщину как высшее неземное существо, Пушкин сейчас сам ясно замечал и резко высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонскою блудницею, а была «просто приятною дамою» или даже, может быть, «дамою приятною во всех отношениях». Но замечательно, что в преувеличенном её порицании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения, – откровенный отзыв высказан в тоне весёлого балагурства в полном контрасте с тоном стихотворения.
Это о стихотворении «Я помню чудное мгновенье…»
Владимир Соловьёв свысока поучал Пушкина, как жить, как писать. Что-то в таком роде мог бы написать Сальери о Моцарте.
Набоков говорил, что слово «пошлость» нельзя перевести ни на один иностранный язык. Статью Соловьёва перевести можно, и, прочтя её, иностранцы узнают, что такое забубённая, русская пошлость.
В статье Владимир Соловьёв упрекал Пушкина в бестактности. Так, всё так. О бестактности Пушкина, сожалея, вспоминал Пущин и, злорадствуя, Корф.
А Державин, заявивший Александру I, что приложит все усилия для розыска и наказания убийц его отца?
А Лермонтов, больно задевавший всех на своём пути и буквально заставивший Мартынова стрелять?
А Пастернак, пытавшийся поговорить со Сталиным о жизни и смерти?
Не есть ли бестактность – родовая черта поэтов? Во всяком случае, русских поэтов.
Свою бестактность Владимир Соловьёв проявил не только в статье «Судьба Пушкина».
В 1881 году, после убийства народовольцами Александра II, Владимир Соловьёв был одним из тех, кто, ничуть не оправдывая террор, настаивал на помилования преступников. «Из ложно понимаемого христианства!» Как говорили тогда и как говорят сейчас о тех, кто считает, что человекоубийство не соответствует учению Христа.
Одним из самых знаменитых текстов Владимира Соловьёва стало стихотворение «Панмонголизм». Наконец-то русская мысль поняла, что не свет будет с Востока, а отвратительная жёлтая погибель.
Пророчество, с каждым днём становящееся всё более актуальным.
И как обычно, самое важное, самая последняя правда формулируется в правильных ямбах.
Владимир Соловьёв был и остается единственным русским поэтом, умершим от скипидара. Скипидар применялся как верное средство против чертей.
Чёрт, являвшийся Ивану Карамазову, алкал свойского общения с настоящим философом, а ему шибали в ноздри скипидаром.
Для Владимира Соловьёва раскол Церкви был ежедневной гноящейся, нарывающей раной. Оставаясь православным христианином, Владимир Соловьёв принял причастие в католической церкви. Ученик Соловьёва Вячеслав Иванов тоже пришёл к римской церкви. И тоже не порывая с православием.
О религиозной философии Владимира Соловьёва можно сказать так: мечтания о Святой Католической Руси.
Во главе новой Церкви, Церкви Святого духа, по мысли Соловьёва должны были встать русский царь, папа римский и Пророк. Подразумевалось, что пророком будет сам автор концепции.
Владимир Соловьёв
Лежит на месте этом.
Сперва был филосо́ф.
А ныне стал шкелетом.
В стихах Владимир Соловьёв такого себе не позволял, в стихах он был избавлен от слишком серьёзного отношения к самому себе.
В стихах он вообще был умнее, чем в прозе.
«Пока не требует поэта…»










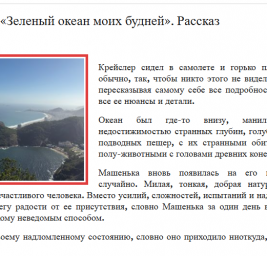













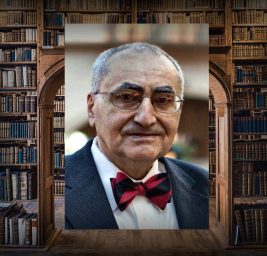






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ