«Под рояль запляшет шёпотом дождь…»
19.09.2025
/
Редакция

В рамках арт-проекта «Бегемот внутри» в библиотеке имени Ивана Крылова в Сокольниках состоялась презентация поэтической книги Марлены Мош «Я не знаю, о чём я». В книгу вошли стихи разных лет: и ранние, и поздние (но, по словам выступающей, «не самые последние»).
Марлена начала «со своих свежих стихотворений». Это оказались философские верлибры, в презентуемую книжку не включённые: «усталость накапливается незаметно / как ком в горле / и при внезапном обнаружении / хочется откашляться / выдворить её вон / но всю её выдворить невозможно / остатки цепляются / и начинают наверстывать упущенное…»
Далее вечер проходил в такой конфигурации: чтение стихов чередовалось с игрой на фортепиано, за которое садились только китайские пианисты. Почему именно китайские? Станет ясно чуть позже (мягкий спойлер: ближе к финалу).
***
Пань Юэ, инкрустировав стихотворное чтение виновницы торжества, исполнил на фортепиано две композиции: рахманиновскую прелюдию до-диез минор (op. 3, № 2), входящую в «Пьесы-фантазии» для фортепиано (весь цикл из пяти номеров был создан Рахманиновым в 1892 году и посвящён Антону Аренскому); и шопеновский этюд соль мажор для фортепиано соло (op. 10, № 5), написанный франко-польским композитором в 1830 году.

Марлена на музыкальные композиции «ответила» верлибрами: «Белые ландыши / а может розы / хризантемы белые / букет из рук твоих / наполненных светом надежд / со сдержанными чувствами / несбыточная мечта / срывается с букета / связанного белыми нитками / вечно держу / никогда не увядает». Впрочем, потом было немного регулярного стиха — силлабо-тоники, в том числе с использованием глагольных и ассонансных рифм: «я в зеркале / а в зеркале вода / я ею умываюсь иногда / вода в ней никогда не плесневеет / вода в ней разгораясь просветлеет…»; «кто-то мечется между / и не там и не здесь / под закрытыми веждами / взгромождается лес…» (в презентуемой книге силлабо-тонической поэзии достаточно, но на вечере Марлена читала, в основном, верлибры).
Второй пианист Сунь Шилинь исполнил прелюдию и фугу № 7 Баха ми-бемоль мажор из сборника его пьес для «хорошо темперированного клавира»; Этюды-картины Рахманинова (соч. 33: No. 7 ми-бемоль мажор) и Сонату для фортепиано № 14 Бетховена до-диез минор — да-да, ту самую, которая поименована как «Лунная». Тут так и хочется вспомнить, а, вспомнив, и рассказать, кто и почему назвал сонату «лунной» (сам Бетховен такого названия ей не давал). Вспомнить-то я вспомнил, но поскольку не сноб, рассказывать общеизвестное не стану — кто подзабыл, тому ChatGPT или на худой конец «Алиса» в помощь.
***
«Широкому небу» Марлены «приходится шагать по колючему времени» — об этом она и прочитала стих. А поскольку выступающая не только поэт, но и музыкант, и певица, то как тут ни совместить приятное с… приятным: «поэзию в целом» с «поэзией в частности» (то есть с поэзией о музыке). Выступающая прочитала стих о джазе: «никогда не знаешь что тебя ждёт / под рояль запляшет шепотом дождь / музыкант увлекшись проник в струю / где нашёл он душу почти мою…»
Вполне логично и в соответствии с конфигурацией вечера после стихотворения про джаз опять зазвучала музыка. И снова не джазовая, а классическая фортепианная: третий сегодняшний китайский пианист Чжао Чжэсянь, раздухарившись, так вдохновенно сыграл Скрябина, что когда закончил исполнение и с восторгом на лице резко вскочил на ноги, словно отрешённый от мира сего, то за его спиной рухнул стул.

«Что-что, а страстность есть», — прокомментировала оживление в зале Марлена и прочитала несколько мини-стихотворений (два из них привожу ниже полностью):
-
«стою меж поездами / ускользающее не удержишь / но цепляюсь за тающее / повторяю примеряю / звук танцующий / то взлетает то ныряет / в круг за будущим»;
-
«отчаявшись / я себя по частям утрачивала / увидев тебя / охваченного одиночеством / причаливаю к себе обратно / души в тебе не чая / встречай меня!»
***
Традиция арт-клуба «Бегемот внутри» — возможность в финале вечеров пообщаться с виновниками торжества, задать выступающим вопросы. От скреп и традиционных ценностей не отступили в клубе и сегодня. Поскольку у Марлены вечера проходили в клубе уже неоднократно, то все вопросы, которые накопились у его хозяина Николая Милешкина, он ей, по его словам, давно задал.
Первым откликнулся супруг Марлены Александр Малкус и по совместительству доцент Московской консерватории. Он с удивлением поведал залу, что не замечает, когда Марлена пишет стихи — они рождаются на свет, а он не видит самого процесса. Вот на творческом вечере жены Александр и решил поинтересоваться: когда же это происходит? По словам поэтессы, «вдохновение легче птицы и пушинки: если кто-то замечает процесс, вдохновение сразу улетает, невозможно его увидеть, а если увидишь, стихотворение не будет написано — вдохновение не ищет времени». Так и осталось загадкой, почему вдохновение приходит в те часы, когда этого не видит даже супруг.
На вопрос, как Марлена осмысливает то, почему в одних случаях у неё рождается регулярный стих, а в других верлибр, ответ был, что это «происходит спонтанно».
***
Если все вопросы Марлене Николаем Милешкиным были «давно заданы», то китайских пианистов он видел впервые, поэтому вопрос возник именно к ним (с ремаркой: дескать, любому из троих, кто сам решит ответить). Вопрос начался с «прелюдии» (почти баховской). Дядя Милешкина (наверняка самых честных правил) был музыкантом и преподавателем. У дяди обучался некий прилежный студент из Вьетнама. После того, как вьетнамец отточил исполнение одной из рахманиновских пьес, дядя сделал вывод, что сыграно вроде бы «всё правильно, но в результате получился вьетнамский Рахманинов» (к тому же фортепиано — нетрадиционный для вьетнамской, равно как и для китайской, культуры инструмент). Дядя Николая посоветовал вьетнамскому студенту идти в Третьяковскую галерею и там «целыми днями проникаться русской культурой». Студент воспользовался этим советом и, проведя долгое время в Третьяковке, вдруг осознал, как нужно играть Рахманинова. «Прелюдия» Николая на словах «китайская музыка другая, нежели европейская и, в частности, российская» закончилась и прозвучал собственно вопрос: представляет ли сложность процесс перестройки культурного сознания китайца для того, чтобы сыграть Рахманинова?

За трёх китайских пианистов ответил Пань Юэ: «если человек не знает русскую культуру, язык и интонацию, то может неправильно исполнять музыку». Это, по мнению Юэ, «вопрос интерпретации». Если, к примеру, музыкант мыслит по-итальянски, то это «чуть-чуть ближе к русской культуре», ибо «латинский язык не настолько отличается от славянских языков». Если же «человек мыслит на китайском языке, который состоит из иероглифов», то и музыкальное исполнение будет китайским. Китайцу, как и корейцу, Юэ «посоветовал бы больше слушать русские стихотворения, чтобы понять, какие там интонации и фразировки — это повлияет на исполнение музыкальных произведений». Чтобы «решить проблему» нестыковки культур и исполнений, продолжил Юэ, «нужно приезжать в Россию и учить язык; а если нет такой возможности, надо слушать исполнение русских исполнителей, учить стихи и смотреть фильмы на русском или хотя бы на китайском языке прочитать сочинения русских писателей». В подтверждение своих слов Юэ прочитал стихотворение — правда, сделал это по-китайски, поэтому нарочито подчеркивал тональность (смысл озвученного пояснил так: «это поэт скучает по Родине»). Марлена Мош согласилась с китайским пианистом — «интонация стихов помогает фразировке музыки». Особенно это помогает артистам. Когда поэты декламируют свои стихи, они делают это просто искренне. А когда поэзию читают артисты «с интонацией и музыкальностью, то больше понимаешь, о чём речь: слово, произнесённое с разными интонациями, становится разными словами».
Юэ считает, что музыка — это тот же язык. Пианист снова подошёл к фортепиано и сыграл фрагмент китайской мелодии — «здесь по каждой ноте можно изобразить один иероглиф, и каждый иероглиф имеет свою интонацию, даже если не петь, а говорить». Оторвавшись от клавиш, Юэ, пояснил, что «в китайском каждая нота имеет одну интонацию, один тон», и начертил в воздухе какие-то иероглифы, после чего снова опустил пальцы на клавиши. Когда зазвучал фрагмент мелодии, то пианист прокомментировал: в русском языке нота — это слог или слово. По его мнению, ситуация зеркальна: русские исполнители часто ошибаются, исполняя китайскую музыку.
Юэ сыграл ещё одну китайскую мелодию и обратился к залу с вопросом: кто что услышал? Не дождавшись ответа, ответил сам, что это имитация дуэта двух китайских инструментов: флейты и хуциня (струнный этнический инструмент). Когда Марлена гастролировала по Китаю с музыкальными концертами (вот, наконец, разгадка тайны Полишинеля, откуда на её творческом вечере китайские музыканты!), то видела игру на «длинном удивительном инструменте — это было самое лучшее музыкальное исполнение», которое она услышала в Китае (и этим инструментом был хуцинь). И вообще, когда она слышала китайскую речь, то ей, не понимающей смысла, очень хотелось «повторять звукоряд» — настолько музыкален китайский язык.
На вопрос, сколько времени ушло, чтобы понять сущностную разницу между китайской и европейской/русской культурами, и снять культурный барьер в исполнении музыки, Юэ ответил, что лично у него такой проблемы вообще не было, ибо он с детства начал одновременно говорить на двух языках: английском и китайском (а между русским и английским «разницы нет»).
…В финале вечера всей троице китайских товарищей (как их назвали бы в советские времена) хозяин арт-проекта «Бегемот внутри» Николай Милешкин вручил «символические подарки в виде грамот».
Владимир Буев
P.s. Марлена Мош — поэт, певица, автор нескольких поэтических книг и многочисленных публикаций в периодике. Её стихи переведены на английский, китайский, узбекский и армянский языки. Выступает во многих странах с древнеармянскими и русскими песнями, а также песнями Амаяка Моряна на свои стихи.
















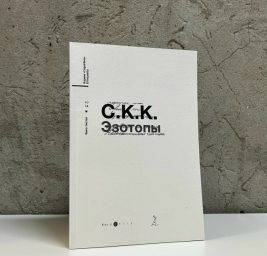



















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ