Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Трансформация традиции «лишнего человека» в романе «Главный романс олигарха» В.А. Иванова-Таганского
- Елена Сомова. «Обратная сторона терпения». Эссе
- Нина Щербак. «Лихорадочно и спокойно». Рассказ
- Саша Чёрный. Страшный мир
- Елена Сомова. «Траектория крохотного взлета». Рассказ
Две судьбы одной жизни
23.09.2025
Александр Афиногенов между мейнстримом и новым каноном в драме
Есть темы, которые как иные гении, доживают до собственного бессмертия. «Единственную жизнь подменили ритуалами. Суть жизни человека искривлена, свелась к бюрократической функции, к вспомогательному ресурсу», – в 1930 году, в начале великого перелома не одного Александра Афиногенова тревожила эта мысль. И он торопился со своей, уже шестой по счету, пьесой, воплощая характер героя, травмированного и разочарованного в постреволюционном социуме. Таким предстает профессор Бородин, научный руководитель Института физиологических стимулов, которого лабораторный эксперимент поставил перед фактом: определяют поведение человека страх, любовь, ненависть, голод. Не идеология, рекрутирующая в свои ряды и воспитывающая сознательных членов общества, а четыре физиологических регулятора организма. В образной разгадке ученого Афиногенов рассмотрел симптомы глубокого кризиса установленного и его трудами социального порядка.
Оригинальность пьесы «Страх» заключалась в ее многоуровневой структуре. На первом плане раскрывается яростная конфликтность героев, которая по-своему питается полемическим градусом драматургии Горького. Затем Афиногенов использует прием «текст в тексте» — доклад, из которого зритель узнает о выводах эксперимента, второй уровень смысловой партитуры. Развивая действие, Афиногенов приводит профессора к социально-политическому обобщению, объясняя убийственный вред тотального страха для гуманистической природы человека — это следующий пласт с едва ли не «вертикальным» выходом героя-индивидуалиста из круга общепринятых в советском обществе норм.
Главный персонаж, в котором проступали черты академика и Нобелевского лауреата Ивана Павлова, обращавшегося с критикой в ЦК партии, признавал, что страх превратился в системную силу, распространившуюся повсюду, оттого люди словно теряют равновесие. «Страх ходит за человеком. Человек становится недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным. Никто ничего не делает без окрика, без занесения на черную доску, без угрозы посадить или выслать». Или: «Уничтожьте страх, уничтожьте всё, что рождает страх, и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветёт страна!», — эти и другие фрагменты раздумий на любой сцене, в любом городе страны не однажды прерывались аплодисментами. (Овации прерывали чтение профессором своего доклада в прекрасном спектакле «Страх» Ярославского Театра драмы им. Ф.Волкова несколько лет назад — Н.С.). Пресс жизни беспощаден, и под него попали герои пьесы – в финале отказавшиеся от своих взглядов Иван Бородин, его дочь Валентина и любимый ученик Герман Кастальский. Но все ли капитулируют в отчаянии? Искры самоуважения – вещь не отменимая, теплятся в живой душе при любом раскладе. Автор, похоже, настроен более мрачно, выбрав в качестве антагониста ученого старую большевичку Клару, обвиняющую Бородина в том, что тот «не дышит вместе с народом». В своих нападках она нагловата, истерична и убедительна.
«Бытовая пьесочка с проблемками» Афиногенова не занимала. Только образы, написанные «кровью сердца», поддержанные шагающим навстречу зрителем, готовым дискутировать, возвращаться через день в мыслях снова к пережитому в театре и гарантировать аншлаги. Спектакль «Страх», на премьере которого занавес давали 17 раз, и на поклонах к актерам подбегали зрители, чтобы пожать руки, влиятельные рецензенты назвали прорывом. Острое, актуальное высказывание имело громкий и заслуженный успех. Купив в нагрузку второй билет на «Доходное место» в театр им. Вс.Мейерхольда, у кого-то получилось попасть во МХАТ 2-й, где «Страх» шел вровень с «Днями Турбиных», пять-шесть раз в месяц. Те, кому не повезло, писали жалобы.
Удивительно, но обласканный Художественным театром, модный советский автор Александр Афиногенов выбивался из мейнстрима, который образовали драматурги, как и он, начинавшие после гражданской войны. Они работали в черно-белом контексте жестко, страстно, «без отживших людей, без отживших теней», с новым культурным пафосом и разной эстетической подпиткой. То была вдохновенная, с сильным эмоциональным нервом пора, когда вся страна менялась в экстремальном ритме. Атмосфера деятельного оптимизма заражала, влекла, будила светлые надежды и масштабные идеи, которые молодые инженеры и творцы за счастье почитали воплотить в жизнь. Современное прочтение сочинений Всеволода Вишневского, Константина Тренева, Николая Погодина, Лидии Сейфуллиной, Владимира Киршона, Александра Афиногенова – это возможность сравнить спрессованное время тогда и теперь, услышать «физиологически ощутимую речь» персонажей, порой экзотических, выяснить маршрут общепризнанной пьесы тех лет, услышать диалог искусства, общества и власти.
В надежде побороть «бескультурье народных масс» революционной «цивилизацией» советская власть задвинула подальше театр психологический, объявив курс на укрепление театра пролетарского, реалистического с «правдой обнажения новой жизни». Последовательно создавала народную театральную инфраструктуру: помимо академических, драматических и музыкальных профессиональных институций, в молодой стране Советов действовали более 50 тысяч клубных, красноармейских и деревенских театров. Самодеятельные драматические коллективы, обязательные в техникумах и ВУЗах, театральные кружки, в том числе для выступлений в «красных уголках» предприятий, – вся эта махина требовала молодых авторов, актуальный репертуар, современную систему образования деятелей театрального искусства, методику проведения воспитательной работы со зрителем.
Старый репертуар отменен. Новая драма, художественные приемы для сценических решений современного материала, вещей с назидательным революционным пафосом рождались в условиях реального времени. «Мы должны понять, что пьеса, театр — совсем особый вид художественного воздействия на человека. Ни роман, ни повесть, ни рассказ, ни очерк не будут так действовать на восприятие читателя, как будет действовать на зрителя пьеса, поставленная в театре…, помогающая строительству социализма, помогающая переделке человеческой психики в сторону социализма», — обратился к писателям в 1932 году Иосиф Сталин, руководствуясь соображениями зрелищности и охвата аудитории. О слиянии диктатуры пролетариата и культуры, за исключением Николая Бухарина, большевики мечтали, компенсируя игру по правилам занятостью, почетом, званиями. Однако творить ощущение энергично строящегося будущего, не проваливаясь в заданность, натурализм, плакатность, специфическому театральному организму удавалось не всегда. Быстрее других восполнялся мелодраматический и комедийный жанр.
Политическая динамика набирала силу, и молодая советская драматургия чаще других искусств подвергалась администрированию. Путь, который она прошла за 10 лет – от «Перегноя» Л.Сейфуллиной (1923) с конфликтом крестьян бедных и зажиточных, в финале большевики погибали от рук казаков, до мало кем прочитанной по сей день пьесы А.Афиногенова «Ложь» (1933) с выявлением нарастающего цинизма членов партии — свидетельствует о закономерном для писателей переосмыслении категорий центрального конфликта и главного героя, художественного пространства и композиционной симметрии. Несгибаемого, грубоватого солдата революции, человека «порогового сознания» сменил на сцене персонаж поспокойнее — простой и понятный рабочим руководитель, строитель светлого завтра с пятилетним планом в руках. К концу 30-х голос врага в сценической литературе уже не слышен.
Категорию народного страха и обстановку внутренней «скованности» высшие чиновники, кстати, считали для управления страной полезной, потому спектакль «Страх», убрав реплики про карательные органы, разрешили. Через пару лет, правда, вдали от столицы спохватились и сняли из репертуара. Приглядывая за строптивым, но «своим» автором дилогии («Страх», «Ложь»), власть попутно корректировала остальных. Все то, что в конце 20-х не укладывалось в идеологическую рамку, партийная печать распекала, в конце 30-х могло подлежать уничтожению и забвению. Афиногенов был среди тех, кто в прессе, например, Михаила Булгакова энергично подтравливал, впрочем, большие претензии были обращены и к себе.
Кто-то ревниво заметит, зачем ломать сложившуюся иерархию драматургических образцов, выделяя одно из довоенной когорты имен, — Александра Афиногенова (1904-1941), когда неменьшей славы добился его современник, любимый автор театра им. Вс. Мейерхольда, легкий в сочинительстве, счастливчик и остроумец Николай Эрдман. К яркой, покореженной судьбе писателя в последние десятилетия критическая мысль обращалась часто. Хотя бы потому, что Н.Эрдман до ареста и после возвращения из ссылки – это два разных человека. Талант драматурга («Мандат», «Самоубийца») в кругу не менее одаренных коллег был признан безоговорочно, но прерван закрывшейся пред самым лицом с отвратительным грохотом дверью. После 1938 года Эрдман с неснятой судимостью пьесы уже не писал.
Другой олимпиец — Михаил Булгаков смело шел навстречу сложным художественным задачам, к его ногам падал побежденным любой литературный жанр. Однако в 1929 году истинному богу советской драматургии («Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег», «Кабала святош») выпало испытать вселенского уровня катастрофу с утратой МХТ и прекращением договоров с другими театрами, запретом высочайшей власти на творческую работу и недолгим локальным послаблением. Загнанный в болезнь, вплоть до своей смерти в 1940 г. Булгаков работал над мистико-философским, многосоставным по структуре, названным впоследствии культовым, едва ли не самым издаваемым в России романом «Мастер и Маргарита», по которому число театральных инсценировок в нашей стране и зарубежом может сравниться только количество сценических вариаций прозы Федора Достоевского.
Каждый в своей поэтике, Булгаков и Эрдман породили ранее не существовавший канон отечественной драматургии – с разноплановой, выраженной анатомически точно социальностью, связной, многоуровневой подачей конфликта, почти приключенческой скоростью развития действия, психологической глубиной иносказания, выразительными диалогами и скептицизмом героев в отношении октября 1917 г. Наследие классиков оценено объективно и исследовано весьма ответственно.
Недостаточно, на мой взгляд, картографирован феномен Александра Афиногенова, сохранившего в письме и черты мейнстрима, и признаки нового канона. Его творческие странствия – незаурядный опыт личной политической драмы на крупном плане. Близкое общение во второй половине 20-х с основоположниками Художественного театра – Станиславским и Немировичем-Данченко, далеких от зашнурованного пролеткульта, а также пережитый им душевный переворот и близость ареста в 37-м были способны раскрыть затаившийся потенциал, перевести писателя в элитарную лигу, закрепив при жизни его собственное место в истории литературы, репутацию не померкнувшей звезды. Альтернатива была — выкинутый из обоймы автор оставался наедине с дневником, одиноким и верным хранителем исповеди. (Для потомков-исследователей всегда богатый и поучительный материал). Если, конечно, «беспристрастная» история не выдавала сразу билет в один конец.
Афиногенов из той породы, кто «смолоду был молод» — шагал по родной земле уверенно и радостно. Романтичный по мироощущению, что называется, по капле воды легко представлял водопад, сходился с людьми живо, учил английский язык, верил в себя и удачное стечение обстоятельств. Высокого роста, с лучистыми голубыми глазами, всегда выглядел моложе своих лет, словом, «чудный молодой ангел». «Жизнь разбивается на три русла: люди, встречи, книги», — дневниковая запись оставлена совсем юным человеком. Люди старой закалки, рожденные до октябрьской революции 1917 г., будто с первой минуты получили какой-то важный и нужный заряд, им быстро открывались знания и пути. Подросток Афиногенов не знал лишь одного: вопрос свободы творчества скоро будет стоять поперек чести, для кого-то — жизни.
В городе Скопине он, четырнадцатилетний наследник семьи убежденных марксистов, объединил активную молодежь, и вскоре юный общительный большевик рос вместе с Рязанской парторганизацией. Работая цензором в уездном военкомате, в 15 дебютировал в «Известиях» стихотворением «Красным героям». Вскоре вышли в свет две книжки стихов под псевдонимом Александр Дерзнувший. Организованный, он пробовал себя в разном качестве: ухаживая за больной тифом матерью, которую любил всю жизнь, вечерами рисовал декорации для кукольного театра. В 20 лет сочинил первые пьесы «Роберт Тим», «Проценты», «Лозовский едет». Их опубликовали, но театрами из-за схематизма персонажей были отклонены. Спектакли «Волчья тропа» и «Малиновое варенье» становятся прямым откликом на запрос времени, но, убедившись в прохладном отношении публики к «вредительской» тематике, в конце 20-х он уходит от тиражирования пьес-агиток.
Через журналистику с ее поиском насущных интересов и проблем обычных людей Афиногенов не вошел — вбежал в советскую литературу. Один из руководителей РАППа, преподаватель и редактор, опекаемый М.Горьким теоретик и практик революционного театра с личным критиком Сталиным, действительно много читавшим. Синий сталинский карандаш, как выстрел из любого положения, неизменно попадал в сердцевину художественного просчета, можно сказать прямее — политического обвинения: «Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?»
Почти все, кто обживал театральный континент, с образованием и без, не с первой попытки адаптировали базовые установки – приоритет внутренней политики, верховенство классового подхода, соответствие опыта сцены жизненному опыту, знание масштаба своего героя — честного, беспорочного и беззаветно преданного делу рабочего. «Откройте глаза и увидите, что в партии есть такие рабочие», — уже не впервой одернул А.Афиногенова на полях его рукописи И.Сталин. Редактировались по несколько раз «Партбилет» А.Завалишина, «Мандат» Н.Эрдмана, «Список благодеяний» Ю.Олеши, «Ложь» А.Афиногенова, «Любовь Яровая» К.Тренева. В итоге «Ложь» после премьерного показа запретили, «Список благодеяний» через сезон аншлагов тоже. Творчество, к слову, изумительного комедийного драматурга Василия Шкваркина, популярного в 30-е годы, цензура запретила целиком – за «безыдейность». Автора, не вписавшегося в строгий идеологический каркас, сегодня мало кто помнит. Время – редко объективный судия, и эту сломанную судьбу оно забыло.
Неудача с пьесой «Ложь» (1933), первый вариант которой, кроме И.Сталина, не понравился В.Молотову и М.Горькому, и который в 1993 году был впервые опубликован А.Казанцевым, издателем журнала «Драматург», на самом деле обнаруживает развитие писательской манеры. Все дальше от упрощения, все ближе к осмысленной повседневности, в которой люди существуют в паутине обвинений. Слово под подозрением. За умышленную ложь перед партией принимают высказанные вслух мнения, не разбираясь в подоплеке, тем более полутонах. «…а на лицах у всех маски… И для всякого собственная его жизнь — самое главное… Это же правда, правда, именно: маски, у всех маски… Теперь верить нельзя никому, теперь уклоны у всех внутри, иногда мне кажется, что вся партия в уклонах», — главная героиня Нина пытается уйти от неискренности, доверяясь дневнику, но его находит бдительный член партячейки Горчакова. Теперь Нину, жену директора завода Ковалева, ждет персональное дело и лишение партбилета. Как партийная, поведенческая норма тема доноса в искусстве укореняется, и старосветские понятия «ложь» и «бесчестие» еще не раз поменяются местами. (Чувствуется метафорическое сближение с 90-ми: «Вы вместе ужинаете, потом один другому угрожает, потом вы снова вместе ужинаете». П.Авен «Время Березовского», Corpus, 2018).
Злободневности добавляет сюжетная линия, которую годом ранее опробовал Н.Погодин в первой производственной пьесе «Мой друг» (1932). У Погодина начальник строительства Григорий Гай, как и у Афиногенова Виктор Ковалев, – нечистоплотные люди. Оба идут на подлог… ради интересов производства. В разнотипных конфликтах автор шаг за шагом раскрывает родовые свойства лжи – от бытовой до мировоззренческой без какой-либо надежды на бесклассовое общество будущего с его чистейшей моралью. Поэтому Сталин, уловив замысел реалистичного изображения партийных течений и оценив «цельность» лишь одного персонажа — оппозиционера Накатова на фоне сомневающихся и нечистых на руку коммунистов, назвал идею богатой и пьесу завернул.
Авторская картина мира, конечно, глубже. Афиногенов нащупал черты повествования лиричного, психологически мерцающего. В пьесе оживает сосредоточенность на характере и бликах чувств, на неудавшейся жизни – в чем-то сходная с чеховской сюжетная ситуация «человек и тоска по настоящей правде». Больше других его беспокоит Нина, блуждающая между желанием взаимной, полнокровной любви и тоскливыми семейными отношениями. Она всегда напряжена, мыслить творчески, тонко, многовариантно не способна. Истощение молодой женщины, двигающейся в колесе постоянных подмен, с уже нечеткой логикой, в финале оборачивается импульсивным с ее же помощью спасением попутчика-уклониста, а любимый человек с ее же помощью погибает. Высокий класс мимикрии Накатова, необходимый для выживания в опасном мире, бьет утверждающего советский порядок замнаркома Рядового и разрушает образ бескомпромиссной Нины. Концовка неожиданная. И ее депрессивный лед посильнее финала с вмешательством все побеждающего ЦК, как, видимо, предполагал заказчик. «Не в «вожде» дело, а в коллективном руководителе – в ЦК партии», — пишет И.Сталин автору. Но во втором варианте пьесы замечания он учитывает мало. Не оказалось у Афиногенова методов ни против массового страха, ни против ханжеского криводушия низовых партийцев.
Вне флагманских тем зарождается идея символического измерения повседневности. Выросшая из романтизма драматургии Горького и чеховского лиризма, импрессионистическая фактура пьесы «Далекое» (1935) выглядела напитанной тогда и сохранила увлекательность по сию пору. Недаром автор назвал ее лучшей из 26 написанных им пьес. В поисках способа художественного расширения Афиногенов подсознательно направился к основателю русской психологической драмы, понятно, в сменившемся антураже. 13 февраля 1933 года на втором пленуме оргкомитета Союза советских писателей Афиногенов имел в виду Чехова, говоря: «…задача советской драматургии – овладеть проблемой среды и времени. Воздуха нет в наших пьесах, того самого воздуха, который окружает весь зрительный зал с первого момента, когда отдернулся занавес театра».
Как и Чехов, Афиногенов отказывается от интриги, от внешнего драматического действия и концентрируется на человеческих типах. Перед нами встает каждый герой в отдельности, например, разочарованный Влас с катастрофой в прошлом, по невыглаженной бытовой речи напоминающий горьковского Луку. Или Глаша, жена Лаврентия, рвущегося за подвигом в Москву, с катастрофой, переживаемой ею сейчас.
Автор искусно расплетает двойственный статус Матвея Малько –человека мощного, благородного и легендарного комкора, в котором земные обитатели станции Далекое видят бездонную доброту, неожиданно ставшую главным маркером современного былинного героя. Командир с апостольским именем таким не кажется, он такой и есть. Спустившись с подножки вагона сломавшегося спецпоезда Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, как с высоты небесной, в мир маленьких людей и, выслушав доклад начальника разъезда «Далекое», Матвей Ильич поправляет по-отечески: «Рапорт ваш принимаю… Но отмечаю недооценку разъезда и собственной работы. У нас незаметных разъездов нет».
Афиногенову было важно создать архитектонический концепт, превращающий индивидуальные, небытовые женские портреты в искристый, впечатляющий актерский ансамбль. Он пишет их с натуры, фотографически точно, с ангельской нежностью, легкостью и удовольствием. Автору нравится Любовь Корюшко, жена начальника разъезда, общительная, крепкая, с хитрецой, не расстающаяся с двустволкой. Одной Любе ведом секрет щедрой реки, и она предлагает командиру для оплаты лечения «отдарок» — мешочек с намытым золотым песком. Афиногенов очарован Глашей, воплощением древней архетипической памяти Матери. Она наблюдательна и рассудительна, лучше опытных охотников изучила дикую природу. Афиногенов восхищается женой комкора Верой, подбадривающей каждого заботливым словом, и молоденькой дочкой Корюшко Женей, обитающей в стихии радости, готовой стать донором крови для неизлечимо больного Матвея Ильича.
Случайная встреча и вынужденное пребывание героя за тысячи верст от столицы раскрывают неодолимое человеческое милосердие, разрешают споры о смысле жизни и любовные коллизии, в самом безнадежном деле дарит подлинную надежду – классическая фабула, развернувшая Афиногенова вглубь огромной страны, к сокровенным людским тайнам и правде переживаний.
Поскольку в 1932 году у театров отобрали монопольное право на постановку новой пьесы, а «Далекое» еще в рукописи обещала всем причастным славу, текст схватили десятки коллективов по всей стране. Легендарная премьера с Борисом Васильевичем Щукиным в главной роли была сыграна на сцене театра им. Е.Вахтангова в ноябре 1935 г. Благодаря виртуозно придуманной полноте артистического партнерства, спектакли повсеместно имели большой успех. К сожалению, недолгий.
Будучи на пике творческой формы, критику и нападки коллег пережить можно. Но к полному афронту он готов не был. Исключенный из «премьеров», ошарашенный обструкцией литературного начальства, «троцкистский агент» Афиногенов вспоминал друзей-коллег, доверившихся прозвучавшей клевете и отворачивающихся при встречах в Переделкино — московскую квартиру отобрали сразу. Пьесы запретили. Завалишина и Киршона расстреляли. Он был вымучен переменой участи, «больными мыслями» — о самоубийстве тоже мелькали. И в голове навязчиво всплывали слова поддержавшего его поэта Ильи Сельвинского: «Буду думать, что я уже умер, как Пушкин, и сейчас вместо меня живет другой человек, с интересом наблюдающий, как расправляются с памятью умершего Сельвинского».
«…нужна жертва, и выбор пал на тебя… Или можно, наоборот, чувствовать с каждым днем прилив новых сил и решимость бороться и доказывать свою правоту и прямо в глаза людям говорить о том, что никто бы из них не посмел отказаться от чести быть знакомым с Ягодой, на груди которого пять орденов, а теперь — задним числом — о, как рады все тому, что ты упал… Но найди силу в самом себе, не опирайся ни на кого, даже на самого близкого друга — найди силу и встань!» – пишет 33-летний Александр Афиногенов в своем дневнике.
Последствия писательской казни он смог талантливо разрулить. Вначале самый кассовый автор, потом исключенный из партии «никудышний художник» с прикрученным, казалось, намертво статусом «временно находящийся на свободе», и неожиданно для всех, в 1938-м, восстановленный в рядах ВКП (б) с полным набором привилегий члена Союза писателей СССР задумал пьесу с предоттепельным настроением. У него есть силы «написать очень важное, что не изменится от очередного закона о хлебозаготовках…, ничего в пьесе не доказывая».
Покорив сцены МХАТа, Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина, сотни крупных площадок по всей стране, включая любительские, главный редактор журнала «Театр и драматургия» работает над пьесой «Машенька» (1940). Словно взял в умелые руки чеховскую кисть и, не отвлекаясь на идеологическую «подчистку» творимой реальности, изысканными, плавными движениями добился «подлинной действенности человеческих мыслей, страстей и чувств» в труднопроходимом семейном интерьере. Много лет в 180 театрах нашей страны лирико-психологическая драма шла при полных залах. А в 1943 году ее поставили на Бродвее под названием «Профессор, послушайте!», где Василия Ивановича Окаемова играл знаменитый актер Дадли Диггз, и все внимание было уделено ему, профессору, а не становлению внучки Маши.
К пьесе, в которой герои, скорее из холодноватой вежливости поддерживают семейный уклад, а в финале, забыв обиды и вернувшись друг к другу, вьют уютное гнездышко, сохранили интерес в постперестроечное время. Что может быть лучше, чем жить родным вместе, помогая и поддерживая друг друга, — это не сентиментальная мысль, дежурное пожелание или политическая аллегория. Это кислород, гарантирующий норму фундаментально жизненным процессам. Это обыкновенность, свидетельствующая о духовной зрелости героев и самого драматурга.
Весной 2025 года спектакль «Машенька» вернулся в репертуар, разумеется, в обновленной режиссуре, театра им.Моссовета (художественный руководитель проекта А.Кончаловский), где 85 лет назад триумфальная работа и сердечная теплота Веры Петровны Марецкой заставили зрителей подумать о доброй мысли как о поступке, преображении собственного «я» через любовь к близкому человеку, его познавание и, чтобы потом ни случилось, все равно его любить. «Ты храбрее, чем тебе кажется. И ты не один», — эти непроизнесенные со сцены, но парящие в воздухе слова, как тайное знание, очевидцев постановки гипнотизировали и ободряли.
…Многих драматургов нервировала глубоко спрятанная, подменившая мечту колючая боль, но не каждого судьба «отпустила», возвратив свой расточительный блеск. Из певца поучительного рационализма вырасти в почти что рефлексирующего эстета, вокалиста с широким диапазоном? У Афиногенова, вопреки мобилизованной его природе социального художника, получилось. Не к раздвоению — к контрасту в писательской оптике «вопрекиста» привело, помимо выпадения из «жизненной лунки» в 1937-м, простое, ранее почему-то не посещавшее его наблюдение, что не все люди заполняют сердце раскаленной верой в мировую революцию. Жить внутри острых классовых битв, по расписанию постановлений ЦК, — для некоторых это все чуждый, навязываемый извне темперамент, неестественное донкихотство. В их тихий, без резких сдвигов мир, ничем не угрожающий остальным, политические страсти не проникают. Тем дороже предельная семейственность, любовные объятия, простота тихого вечера. Как доверительно заметил в узком кругу беспартийный чиновник от литературы, писатель Леонид Соболев, задолго до руководства в 1958-м общественным осуждением поэта Пастернака: «Когда все рушится, надо найти свое место». Полвека спустя, с этой утешительной мудростью невольно перекликнулся режиссер Алексей Балабанов: «Важно, ребята, найти своих и успокоиться».
Афиногенов взял свое. Он влюбился в загадочную американку, увлеченную коммунистической идеей и искусством танца. Однако насладиться благополучием с Дженни Марлинг, вступившей в советское гражданство как Евгения Бернардовна Афиногенова, в полной мере не успел. Осколок бомбы в 1941-м, спустя семь лет, пожар на теплоходе «Победа» лишили двух дочерей обожающих их родителей. Девочек воспитала мама Александра Николаевича. Крепкую связь с родственниками сохранила старшая дочь от первого брака драматурга – биолог Светлана Афиногенова, супруга профессора в области радиолокации П.А.Бакулева.
Прекрасно помню по Союзу писателей СССР в 1980-е младшую дочь – благородно-золотистой масти женщину с застенчивой улыбкой, глубокой эрудиции филолога Александру Афиногенову (1942-2022). Хорошо известная как переводчик скандинавских мастеров — Августа Стриндберга, Тумаса Транстрёмера, Ингмара Бергмана, Кнута Гамсуна, Ханса Бьёркегрена, Ганса Христиана Андерсена. За большой вклад в культуру художественного перевода была награждена королевским орденом Полярной звезды Швеции. Достойное продолжение Александра Афиногенова, признанного советского драматурга, чей рискованный творческий выбор между значением коллективной истины и личной воли стал документом художественным и историческим.
Наталья Селиванова


























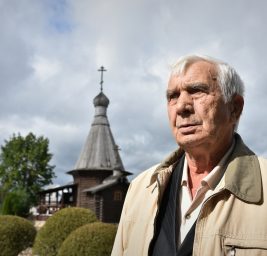






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ