Новое
- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Мандельштам. Гений без места
- Информационная война 2021 года: рецензия на монографию А.Г. Голодова
- Скудость разума и величие духа — всё зависит от человека
- Яков Шафран. «Подвижный в неподвижном». Рассказ
Дон-Аминадо. Не оглядываясь, но озираясь
16.10.2025
Как ни определяй место Дон-Аминадо в русской литературе, последним словом будет «поэт»!
Лучший русский юмористический журнал – «Сатирикон» – получил своё название вовсе не от одноимённого романа Петрония, такие далёкие параллели проводятся только невольно. Нелепые, жалкие, смешные, иногда постыдные скитания молодых, влюбленных, голодных остроумцев по городам и весям – это я о героях романа или о сотрудниках журнала, об их путях после, а иногда и до 17-го года? Всё у них было как в романе, разве что молодость – не у всех.
Но если б Аверченко и сознавал, на какую участь обрекает себя и своих товарищей таким названием, то всё равно ради красного словца не пожалел бы никого и ничего. Да будет «Сатирикон»!
Странен, а подчас жуток русский смех – Антоша Чехонте не даст соврать. В основе большой русской юмористики лежит глухая онтологическая тоска. Тем неожиданней было появление целой плеяды молодых остряков, которым, казалось, сам чёрт не брат – шутили от всего сердца.
Война, революция, скитания, эмиграция – это какого хочешь весельчака доконает. Но Дон-Аминадо, Аверченко, Тэффи – все они, став писателями, которых уже не назовешь юмористами, сохранили сатириконовскую закваску. И когда они смеялись, то смеялись честно и открыто, без этих «невидимых слёз», цель которых – успокоить совесть читателя: мол, смех наш не просто так, но оправданный гражданственностью и даже высокоморальностью. У сатириконовцев хватало смелости смеяться просто потому, что смешно.
В «Сатириконе» печаталось множество поэтов, в том числе Маяковский, Городецкий, даже Гумилёв. Это всё были люди со стороны – так сказать, приглашённые звёзды. Но были и собственно сатириконовские поэты, главным из которых был Саша Чёрный. Дон-Аминадо по всем признакам тем и стиля тоже был сатириконовским поэтом, другое дело, что его поэзия по большому счёту началась после закрытия изначальных «Сатириконов». Но у поэтов всегда сложные, неоднозначные взаимоотношения со временем.
Дон-Аминадо. Псевдоним был впору молодому сатириконовскому автору, но умному сатирику, маститому поэту он уже был маловат, тесноват, как юношеский костюмчик: рукава едва до локтей достают, даже уже не понятно, это ещё пиджак или уже жакет. А только новый костюм и покупать не на что, и надевать не хочется. Можно перелицевать старый и подписываться уже Д. Аминадо, как будто это может кого-то обмануть.
Во время Первой мировой сочинение патриотических стихов было малопочтенным, но высокодоходным промыслом: издательство «Лукоморье» и тому подобные не скупились на гонорары. Лучшие русские поэты заходились в шовинистическом восторге, проклиная гуннов. Даже Маяковский, чьи антивоенные стихи стали образцами жанра, не стеснялся публиковать строки: «о панталоны венских красоток вытрем наши штыки». Чего уж спрашивать с других.
На этом фальшивом фоне военные стихи Дон-Аминадо звучат на удивление прилично: они в меру мужественны, в меру сентиментальны – то, что нужно воюющей стране.
Вот так был переосмыслен пушкинский «Талисман»:
Сквозь мглу последнего тумана
Блеснут в расширенных очах
Два изменивших талисмана
На верных жребию мечах!
В отличие от большинства авторов патриотических стихов Дон-Аминадо знал о войне не понаслышке: служил в солдатах, был ранен.
Потом, уже в эмиграции, Дон-Аминадо протрезвел окончательно, чтобы строго и безжалостно осудить собственные военные стихи.
Мы всюду искали святую Каабу.
Мы все уверяли вполне откровенно
Навзрыд голосившую тульскую бабу,
Что ейный кормилец – защитник Лувэна.
Лувен, который сравняли с землёй, стал памятником тевтонского варварства. Первая Мировая война стала памятником всеобщего варварства, которое охватило народы Европы, не пощадив даже поэтов.
После революции Дон-Аминадо проделал классический путь русского писателя: Киев, Одесса, Константинополь, чтобы наконец-то добраться до Парижа.
То признание, которое было у Дон-Аминадо в России, не было ещё настоящей славой, но готовилось ею стать. В эмиграции, где былые русские имена потускнели, Дон-Аминадо неуклонно продвигался вперёд, его всё больше и больше признавали. Но эта нищая эмигрантская слава только растравляла воображение – как бы оно было в настоящей России, в настоящем Петербурге?
В эмиграции Дон-Аминадо крутился как мог, стал, что называется, гешефтмахером: полученное в юности юридическое образование пошло в ход. Экономика в её скудном, голодном, беженском варианте стала одной из тем его стихов и афоризмов.
Продаем паи в артели,
Потому что мы влетели…
<…>
«Песней душу веселя»,
Сочиняю векселя.
Интересно было бы подсчитать, что приносило Дон-Аминадо больше дохода – коммерция или стишки о ней.
Там, где другие поэты были высокомерны и ностальгичны, Дон-Аминадо не стеснялся составлять иногда печальную, но всегда смешную и умную энциклопедию эмигрантского житья-бытья.
В хор казаков из Бордо
Нужен тенор с верхним «до».
Это лирика может без вреда для здоровья питаться одними воспоминаниями, поэзия сатирическая требует пищи грубой и свежей, ей всё полезно, что в рот полезло:
Русский хутор близ Булони,
Всё на масле, жизнь на лоне.
—
Покупаем всякий хлам,
Обращаться к Пьер-Абрам.
В умении не воспринимать трагедию как трагедию Дон-Аминадо не было равных: ну трагедия, ну и что, разве это повод перестать шутить, писать, покупать-продавать всякий словесный хлам, зная его невысокую цену?
Фрагментарность мира соответствовала специфике дара Дон-Аминадо, и там, где Георгий Иванов сокрушался, что не имеет власти соединить в создании одном прекрасного разрозненные части, Дон-Аминадо ничего соединять не хотел, видимо, понимая, что собранное целое вряд ли будет прекрасным. Когда-то было прекрасным – это да…
«Жизнь – она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».
Разве не слышатся в этом стихотворении Бродского невольные интонации Дон-Аминадо. И невероятную лёгкую афористичность Дон-Аминадо унаследовал в русской поэзии только Бродский. Хотя, казалось бы, трудно найти менее похожих поэтов. Вот такие переклички бывают на неочевидных высотах.
Цветаева высоко ценила поэзию Дон-Аминадо, но ценила несколько авансом, как бы говоря: жаль, что вы не позволяете себе по-настоящему стать поэтом. Она была права: при всей свежести и оригинальности стихов Дон-Аминадо они, скорее, для газеты, чем для книги. Но разве сиюминутная прелесть поэзии менее важна, чем её вечность?
Если Дон-Аминадо не писал смешно, то ему казалось, что юмор непременно надо чем-нибудь заменить, и в дело шла сентиментальность.
Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец…
Казалось, что поэт стеснялся собственной поэзии и всё как-то пытался её задрапировать – то в одежды сатиры, то чуть ли не романса. Но там, где Дон-Аминадо сентиментальности себе не позволял, появлялись уже настоящие стихи:
Пей, как говорится,
Мелкая единица,
Сивка и Россинант,
Рядовой эмигрант!
Россинант именно так – с двумя «с», чтобы не было ни малейших сомнений в национальной принадлежности старой клячи.
Дон-Аминадо – наш Дон-Кихот, рыцарь весёлого образа.
Кажется, первое, что делала русская интеллигенция на новом месте, это основывала печатное издание. Только потом оглядывалась по сторонам, ища себе на пропитание, а журналу – на передовицу. По всей Европе мелькали названия незначительных журналов, чьему авторскому составу позавидовал бы любой солидный российский журнал из тех, прежних, настоящих времён.
Проза Дон-Аминадо была сдержанней и суше поэзии, а мемуарная проза была просто образцовой.
Мемуары Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути» читаются легко. Живых портретов современников в них немного – по большому счёту, всего один Бунин, Царь-Иван.
Афористика – жанр, плохо прижившийся в русской литературе. Началась русская афористика с Козьмы Пруткова, то есть с пародии на несуществующие образцы: это как если бы рыцарские романы начались с Дон Кихота. В Советском Союзе жанр вообще выбился из литературы, и главной по афоризмам у нас стала Фаина Раневская.
Дон-Аминадо был умён тем холодным, колким французским умом, который так подходящ для афоризмов, этого галльского способа определять и запоминать этику.
Наш Ларошфуко тоже был моралистом, но весьма своеобразным:
Если всю жизнь поступать по-свински, то в конце концов можно зажить по-человечески.
При желании и пафос можно капитализировать.
Жить надо не оглядываясь, но… озираясь.
Не брезговал Дон-Аминадо и простой шуткой безо всяких подтекстов:
После трех рюмок коньяку француз переходит на минеральную воду, а русский на «ты».
Сам Дон-Аминадо безо всякого коньяку перешёл с русской литературой на «ты».
Гиппиус видела в Дон-Аминадо прямого продолжателя поэзии Некрасова, продолжателя, к сожалению, не реализовавшегося. Конечно, это не был очевидный народный Некрасов, написавший «Кому на Руси жить хорошо» и «Мороза, Красного носа», но остроумный и желчный Некрасов «Современников».
Мне этот взгляд Гиппиус кажется несколько поверхностным: Некрасов в каждой своей строчке остаётся рабом идеологии, деятелем освободительного движения, а Дон-Аминадо сам по себе свободен и потому избавлен от необходимости негодовать на своих героев. Не то чтобы он им так уж сочувствовал, но и призывать на их головы громы и молнии точно не собирается. И «бывали хуже времена, но не было подлей» Дон-Аминадо тоже не мог сказать, потому как понимал: и бывали, и, дай Бог, если обойдёмся без атомной войны, будут времена ещё хуже и подлей. Такая вот эмигрантская форма оптимизма.
Самые свои едкие инвективы Дон-Аминадо умел облекать в строки несколько элегической тональности:
Разве вы не твердили, что истина
Воссияет, как солнце горячее,
Над холодными тундрами Севера,
Если в тундрах созвать предпарламенты?!
Или в другом месте:
Их шёпот будет беден и нескладен.
Но он внесёт ненужность суеты
В торжественность безмолвных перекладин
Под небом величавой пустоты.
Ничто так не раздражало Дон-Аминадо, как превыспренняя политическая болтовня: патриотическая, либеральная, эстетская – болтовня, которая тасует свои маски, не слишком заботясь о том, что трюки постыдного мастерства видны невооружённым глазом; так опытный шулер, понимая, что перед ним тепленькая публика, даже не прячет нужные карты в рукав. Болтуны эти не могли, конечно, погубить Россию – уж слишком они бессильны, – но смогли опошлить её гибель.
Дон-Аминадо пишет просто, для него в стихах главное – мысль, которую не стоит заслонять литературными приёмами, унижать излишней образностью и аллитерациями. Про него тоже можно сказать: «вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». Такая фельетонная поэзия тоже имеет право на жизнь, но простота хуже воровства мешает признанию поэта.
К поэту Дон-Аминадо не относились всерьёз. Это могло раздражать, но это и давало ни с чем не сравнимую свободу; раз с поэта взятки гладки, то можно, не стесняясь, о себе и своих читателях:
Живём. Скрипим. И медленно седеем.
Плетёмся переулками Passy.
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси.
И ничего: прочитают, не обидятся, даже посмеиваться станут: ишь как ловко он нас пропесочил.
Ещё христианство учило, что истину людям надо вещать из самого нелепого и даже позорного положения, тщательно избегая всякого авторитета, оставляя его фарисеям.
То, что стихи Дон-Аминадо настоящие, убедительно показало нынешнее время. Вновь став злободневными, слова не стали ни лучше, ни хуже.
Вот так Дон-Аминадо подытоживает российскую историю:
И всё для того, чтоб в конечном итоге,
Прослыв сумасшедшей, святой и кликушей,
Лежать в стороне от широкой дороги
Огромной, гниющей и косною тушей.
Действительно, надо быть юмористом, чтобы так зло и откровенно, вовсе не шутя…
Дмитрий Аникин
Tags: афоризмы, Дмитрий Аникин, Дон-Аминадо, Козьма Прутков, литературная критика, мемуары, Париж, Поезд на третьем пути, поэзия, русская эмиграция, русское зарубежье, сатира, Сатирикон, фельетон, юмор












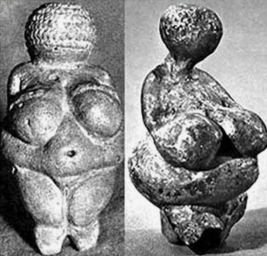




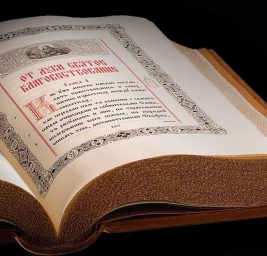







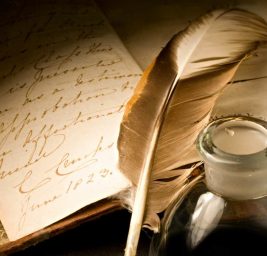





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ