Любовь Рыжкова. «Двуликий идол» на перекрестке. Драматизм натурфилософии В.Ф. Ходасевича
30.11.2013Душа идет путем зерна…
Пытливый исследователь творчества В.Ф. Ходасевича, помимо исследований тематического многообразия его лирики, вправе задаться закономерным вопросом: каков у него пейзаж? Каковы его характер, функции, роль в произведении? И есть ли он вообще, ведь поэзия В.Ф. Ходасевича – это, прежде всего, рассказ о душе, ее изломах и изгибах, даже вывертах, ее сложнейшей эволюции, взлетах, падениях, росте. Когда-то поэт написал:
Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело [1, с. 179].
Вся поэзия В.Ф. Ходасевича – это отражение жизни его души. Но душа – это тоже природа, значит, мы вправе поднимать эту тему.
Пейзаж эпохи Серебряного века – не просто пейзаж, это – не идиллическая картинка со счастливыми пейзанами и пейзанками; это – не некое художественное полотно, вызывающее умильное чувство; и это – не эпическая картина, передающая глубину, ширь и монументальность природы. Пейзаж Серебряного века остро драматичен, часто – трагичен и всегда несет сложную психологическую нагрузку. Таков и пейзаж В.Ф. Ходасевича.
«Сегодня снова я научен безмолвной мудростью полей» – даже такой простой и безыскусный пейзаж, как в стихотворении «Один среди речных излучин» (где всего восемь стихов) – и тот психологичен. Вид этих «речных излучин», шелест тростника вызывают у лирического героя невеселые мысли. Лексический состав стихотворения при этом необычайно насыщен соответствующими подобному настроению эпитетами: «поздние журавли», «опавший лист», «хмурая река». Казалось бы, ничего не произошло, ничего не случилось в жизни лирического героя – но предчувствие неотвратимости судьбы здесь слышится явственно, хотя на дворе стоял всего лишь 1906 год – именно тогда написано стихотворение. И до революции 1917 года, и эмиграции 1922 года было еще далеко. Может быть, здесь отразилось понимание общей судьбы поколения, ведь сказал же А.А. Блок: «Мы – дети страшных лет России». А говоря словами В.Ф. Ходасевича, «кочевий скудных дети злые», это строки из стихотворения «Ночи» 1907 года. Общие темы, идеи, мысли, слова появлялись у разных поэтов, и они осознавали это. У В.Ф. Ходасевича есть строки: «Как птица в воздухе, как рыба в океане, / Как скользкий червь в сырых пластах земли, / Как саламандра в пламени – так человек / Во времени. Кочевник полудикий» [3, с. 135].
Еще в 1907 году в стихотворении «Звезда» он воскликнул, обращаясь к Звезде: «Если вздумаешь упасть, удержать тебя кто может?». Но пройдет тринадцать лет, и уже в 1920 году вновь прозвучат подобные интонации, и он назовет свою душу «легкой» и «падучей», слово звезда: «Легкая моя, падучая, / Милая душа моя!».
Конечно, в его жизни не все было так мрачно, были и «рокот соловьиный», и «янтарные тучки», «тающие вечера» и «хмельные кубки», «любовная ворожба» и «восторженная ложь», «дремотность дышащих роз» и «ситцевые зори». И хотя впереди были еще и «лазурный воздух» и «оливковые сады» Сорренто, и «отдаленные туманы» Неаполя, но чаще были «глухие дни», «сырые ночи», «пустая мгла», когда болела «несчастная совесть» и так хотелось «усыпительного покоя». Он ясно видел, как «идут под музыку солдаты, и бесы юркие кишат». И даже на отдыхе, у моря, под жарким солнцем он замечал проходящую и никем не узнанного Каина. Он словно всегда был начеку, всегда ждал беду, предательство, измену.
И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода… [3, с. 174].
Он был готов к подобным перипетиям. И поэт все чаще ощущал свой разлад с миром: «Господь нам не дал примиренья с своей цветущею весной», – восклицал он в 1913 году. Конечно, это страшно, и это говорит о многом, особенно когда поэт признавался, что «мы дышим легче и свободней не там, где есть сосновый лес». То есть природа для него – не источник блага и гармонии, а напротив, она словно посягает на его свободу, хотя у всех людей происходит как раз наоборот: именно природа дает человеку силы, ощущение полета, радости, счастья и т.д. Однако следующие строки, в которых поэт уточняет, где же ему дышится легко, заставляют задуматься еще серьезнее: «Но древним мраком преисподней. Иль горним воздухом небес». Эта строфа звучала бы зловеще, если бы не последний стих, дающий надежду, что не все так беспросветно в его жизни.
Натурфилософские поиски (а они были!) привели поэта к пониманию идеи «зерна», и свою собственную земную жизнь (и душу) он уподоблял зерну, которое прежде, чем прорасти, должно умереть. У него даже появляются книга «Путем зерна», где ясно выражена эта натурфилософская мысль. Он писал: «Так и душа моя идет путем зерна: / Сойдя во мрак, уйдет – и оживет она» [2, с. 96]. Таким образом, «мрак преисподней» – не только символ тьмы и место вечного наказания грешников, но еще и определенный этап эволюции души, ее восхождения. Именно поэтому его душу радует не «поэтов праздное бряцанье», а «немое прорастание зерна» – на него вся надежда. Значит, мы можем сказать, что В.Ф. Ходасевич смог подняться над «мраком преисподней», по крайней мере, попытки этого были, во всяком случае, об этом говорит сборник «Путем зерна».
Название книги «Тяжелая лира» звучит менее обнадеживающе. Тем не менее, начинается сборник стихотворением «Музыка» (1920), в котором идет речь о празднике Благовещения, и мы находим здесь «ясное утро», «морозный пар», «высокое небо», и поэту слышится даже «неслышная симфония», которую, видимо, исполняют «пернатые ангелы». И в это время душа лирического героя дышит «чистой высотой», она – в лазури, она – сияющая. И в отношении к природе появляются ноты искренней любви – от размышлений о малости планеты («горошины земли») до прямого признания («люблю природу»). Он говорит: «И сам стригу кусты сирени вокруг террасы и в саду».
Уже в это время в его поэзии появляется та кристальная чистота выражения мысли и чувства, которая так характерна лирике В.Ф. Ходасевича, и хотя «нездешняя прохлада уже бежит по волосам», но ему вдруг с ясностью открывается, что «жизнь потаенно хороша», он чувствует, как его душа «дышит небом».
Его художественная чуткость становилась поистине нечеловеческой, казалось, он начинал видеть и слышать недоступное другим – примечать «звездный ход», слышать, «как растет трава». При этом он понимал, что «пока не выплачешь земные очи – не станешь духом». Стремился ли он таковым стать – неизвестно, но земное бытие его часто было омрачено. Даже если вокруг него были просторы с лугами, лесами, «росистыми полянами», косогорами, ливнями, радугой – он носил в душе «петербургские туманы» и чувствовал в себе «дыхание распада». Это слово – распад – стал для него не только знаком личной судьбы, но и символом своего времени, отражением его эстетики. Не случайно другой ярчайший представитель Серебряного века Г.В. Иванов пишет произведение с названием «Распад атома». Серебряный век жил в этом состоянии – он создавал и уничтожал, он объединял и расчленял, он ощущал себя творцом и разрушителем, он воспринимал мир как «невероятный подарок» Природы-Бога и тут же крушил «всю эту пышную нелепость».
Видимо, все деятели Серебряного века были крайне противоречивы в своих художественных исканиях, но эти противоречия были следствием эпохи ломки уклада жизни, нравственных ценностей, крушения идеалов. Стремиться к свету и ясно видеть тьму, культивировать горнее и игнорировать земное, видеть возвышенную красоту мира и осознавать циничную смерть – таков характер натурфилософии эпохи. Вот и В.Ф. Ходасевич восклицал: «И к чему такая ширь, если есть на свете смерть?». Разрешить эту задачу, видимо, он не мог, как не может ее разрешить ни один человек. Он так и оставался «стопами» – в «подземном пламени» и «челом» – в звездах (стихотворение «Баллада»).
Однако надо отдать должное, что в отличие от многих других представителей Серебряного века, которые предпочли тьму, игры с огнем, выбрали «тринадцатый час» и скольжение над бездной, Владислав Ходасевич умел «в затоптанном и низком» увидеть небо и «горний лик», и сам дивился этому: «Не чудно ли? В затоптанном и низком / Свой горний лик мы нынче обрели».
После того, как отзвучала его «тяжелая лира», наступила «Европейская ночь», так была названа новая книга стихов – в эмиграции. Но и здесь, в Берлине, Париже, Венеции – та же раздвоенность души и те же кричащие противоречия остались с ним: «Все бьется человечий гений: / То вверх, то вниз. И то сказать: / От восхождений и падений / Уж позволительно устать! [3, с. 240]. Значит, пришла усталость, но жить предстояло еще целых пятнадцать лет. Темной оказалась «европейская ночь», и метания остались метаниями, но степень их художественного изображения достигла пронзительной силы, афористической точности и чеканного мастерства. Стоит вспомнить лишь строфу из стихотворения 1925 года «Из дневника»:
Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в не, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом? [3, с. 248].
Понял ли он сам что-нибудь в этой круговерти, спешке, мытарстве? Если понял – то что? Приник ли в заветные пределы его пророческий глаз? Что он увидел там, в этой запретной глуби времен? Или этого вовсе делать не следовало, ведь, как однажды он сказал, «того, что нас не станет, не нужно касаться». Но ведь при этом он понимал, что «не пророчить невозможно» и «каждый стих звучит, как предвещанье». Видимо, он был прав.
Ветер как сквозной образ
Одним из сквозных образов поэзии Владислава Ходасевича является образ ветра, который возникает в его стихах в самых различных лирических ситуациях (Осень», «Ряженые», «Сумерки», «Ночи», «Я угасну… Я угасну…» и др.) Это настолько бросается в глаза, что не заметить этого нельзя. Вместе с тем нельзя сказать, что ветер – главное действующее «лицо» в поэзии В.Ф. Ходасевича, тем не менее именно ветер иногда даже диктует развитие ситуации: «Кто-то золотом сусальным / Облепил кресты и крыши. / Тихий ветер дымам дальним / Приказал завиться выше» [3, с. 319].
Ветер имеет разный характер, он может быть «крепким и гулким», колючим, злобным, мгновенным, сногсшибательным, древним, летучим. Даже поезд, проносящийся мимо, на каком-то ассоциативном плане связан с ветром: «Поезд, гремя и качаясь, обдает меня ветром и паром». То он «как стон запоздалых рыданий», то дует по переулкам как «гость залетный», то «шелестит песчаными волнами».
Ветер связан с психологическим состоянием героя, он возникает в минуты чрезвычайно важные для него. Он стонет, замирает, задувает с новой силой, становится бурей, вихрем, а то превращается в самый настоящий «безобразный вой метели», а иногда поэту слышится «ветерка дыханье снеговое». Любопытно, но свою «тяжелую лиру» герой тоже получает «в руки сквозь ветер». Значит, ветер для поэта образ знаковый, значимый, весомый. Вот и Каин бродит по морскому берегу, обдуваемый ветром «под европейской ночью темной».
Ветер – проявление стихии воздуха, движение этого воздуха есть неотъемлемая часть природного мира. Вся природа В.Ф. Ходасевича, часто как и его жизнь – это passivum, именно так – «Passivum» называется одно из его стихотворений, что в переводе с латинского языка означает «пассивный залог». И в самом деле, пассивный залог здесь как символ пассивного состояния лирического героя, его бездействия, молчаливого наблюдения и неучастия в жизни. Здесь ступени «засыпаны листвой», луг «гладко скошен», и день подобен осеннему листу, что «бескрайним ветрам в бездну брошен». Страдательный залог, как ни странно это звучит, в данном случае – доминанта психологического состояния лирического героя. Жизнь уходит, помимо желания человека, однако в душе его теплится нетленный огонь.
Кажется, весь мир подчинен ветру, даже цветок, что по народному поверью расцветает в Купальскую ночь, и тот склоняет головку под ветром: «Цвети во тьме, лелея клад! / Тебя лишь ветер вольно склонит / Да волк, блуждая наугад, / Хвостом ленивым тихо тронет» [3, с. 47]. И рассветный ветер рассыпает золу потухшего купальского костра.
Ветер из стихии природы может вдруг превращаться в некий символ – символ времени, уходящих лет. В.Ф. Ходасевич, характеризуя свою эпоху, находит для этого значимые слова: это – время скуки: «О, скука, тощий пес, взывающий к луне! Ты – ветер времени, свистящий в уши мне!». Эти строки написаны в 1913 году, и обратим внимание, что здесь – та же тема бездеятельного, пассивного отношения к жизни.
С годами ветер в его стихах стал как будто стихать, но ненадолго. Но это не ветер стал стихать в его бурной драматической жизни, просто сам поэт в зрелом возрасте замкнулся, закрылся, спрятался от него за плотной дверью и глухим окном. Но сам-то он хорошо знал, что там, «за дверью – неизбежный бой» И стоит выглянуть в окно, и сразу поймешь, что: «Да, меня не пантера прыжками / На парижский чердак загнала. / И Вергилия нет за плечами, – / Только есть одиночество в раме / Говорящего правду стекла» [3, с. 249]. Стекло говорило ему правду, и он осознавал, что в жизни борьба не окончена, что ежедневная битва продолжается, и эта битва – за хлеб насущный, родину, место под солнцем, славу, почет и прочие радости земные. И бой этот не окончился, он продолжался, и злые ветры дули с не меньшей силой, чем и раньше.
Его трагическая судьба словно была предопределена и услышана им самим – в ранней юности, в звуках этого ветра. Ведь еще восемнадцатилетним юношей он заметил и услышал в шуме ветра не что-нибудь, а «страшную игру» и «шепот дьявола»:
Этот шепот в свисте ветра,
В шелесте ветвей…
Он трусливых заставляет
Дверь закрыть плотней [3, с. 296].
Но он не был труслив, он это осознал еще в юные годы. В стихотворении «Достижение», обращаясь к солнцу, он воскликнул: «Ты видишь? Я – смелый…».
Со временем поэт понял, что он – носитель двух начал и отражение двух противоположных сил, и вся жизнь его прошла словно на перекрестке. В 1928 году он написал короткое стихотворение с характерным названием «Памятник» (всего восемь стихов), в котором подытожил:
В России новой, но великой,
Поставят идол мне двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок [3, с. 357].
Видимо, подсознательно ветер был для него неким символом – символом перемен, изменения, движения. И движением не чего-то неопределенного, а вполне конкретного – стихии воздуха – не застывшей, а постоянно устремленной вперед. Ветер как символ вечного движения и знак неуспокоенной, мятущейся, оторванной от родины живой души. Но ни на российском, ни на другом перекрестке мира «двуликий идол» не поставлен поэту до сих пор.
Литература
Ходасевич В.Ф.
- Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. – М.: Политиздат, 1991. – 511 с.
- Поэты Серебряного века. Ред.-составитель Н.И. Сазонов. – Йошкар-Ола: Изд. центр «МПИК», Марийский полиграфическо-издательский комбинат, 1999. – 560 с.
- Ходасевич В.Ф. Собрание стихов / Сост. А. Дорофеев. – М.: Центурион, Интерпракс, 1992. – 448 с. – (Серия «Серебряный век»).











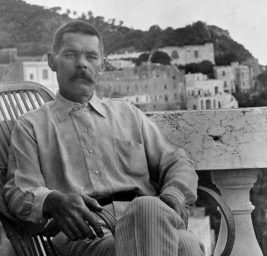



















1 комментарий
Pingback
01.12.2013http://klauzura.ru/2013/10/soderzhanie-vypusk-12-30-dekabr-2013-goda/