- «–ï—Å–ª–∏ –±—ã –º—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏». –ü–æ–ª–∏—Ñ–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏
- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»
- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»
- –õ—é–±–æ–≤—å, –ü–∞—Ä–∏–∂ –∏ –ø—Å–∏—Ö–æ–∞–Ω–∞–ª–∏–∑: –∫–∞–∫ —Ñ–∏–ª–æ–ª–æ–≥ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç –¥—É—à–µ–≤–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–Ω–∞–Ω–∏—è –≤ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã
- «Как на турецкой перестрелке…»
- –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ë—É—Ç — ¬´–ú–∏—Ä –Ω–∞ –ó–µ–º–ª–µ¬ª
–õ—é–±–æ–≤—å –Ý—ã–∂–∫–æ–≤–∞. ¬´–í–æ–ª—è —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å—å—è. –ù–∞—Ç—É—Ä—Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏—è –ù. –°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞¬ª
31.12.2013–û–±—Ä–∞–∑—ã –∏ —Å–∏–ª–ª–æ–≥–∏–∑–º—ã
Поэтический мир Н. С. Гумилева слишком сложен, пестр, многоцветен, ярок, щедр на образы – такие образы редко у кого встретишь, так они необычны, витиеваты, причудливы. В его поэтическом пространстве бродят «изысканные жирафы», аисты «как воздушные маги», «девы-жрицы с эбеновой кожей», звезды «похожие на спелый барбарис», и сам он читает стихи «драконам, водопадам и облакам». Безусловно, это мир поэта – и даже не из-за обилия экзотики, а из-за высочайшего мастерства превращать столь диковинные образы в достояние литературы и собственно читателей.
Вместе с тем это мир философа, склонного к холодной логике, точному расчету и строгим силлогизмам. Если вспомнить мысль В.Г. Белинского о том, что философ мыслит силлогизмами, а поэт – образами и картинами [2, с. 391], то о Н.С. Гумилеве можно сказать, что в его лице гармонично соединились поэт и философ.
Глядя на окружающую природу, он мог спокойно констатировать, что все вокруг – «лишь скудное многоразличье Творцом просыпанных семян». Эта мысль, выраженная в поэтической форме, тем не менее явно отдает снисходительностью скептика или – хуже того – прямотой клинициста: мы все поражаемся красоте окружающего мира, степенной роскоши природы, богатству ее форм, а Н.С. Гумилев во всем этом видит лишь «скудное многоразличье».
Кроме того, известно, что Н.С. Гумилев был метким стрелком и довольно хладнокровным охотником, о чем он сам писал в «Африканском дневнике»: «Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств» [6, с. 85]. Это странное признание – предмет для некоторых размышлений, кем же был этот загадочный человек – Николай Степанович Гумилев? Но мысль о возможном возмездии все же гнездилась в его душе, иначе бы он не написал фразу, которая многое объясняет: «А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно» [6, с. 85].
Поэт был уверен, что поэзия есть такая же часть природы, как и все вокруг, она теснейшим образом связана с природным миром, а значит, она живет и развивается по законам природы, то есть по Гумилеву, алгеброй можно поверить гармонию. Кроме того, рождение стихотворений Н.С. Гумилев сравнивал с происхождением живых организмов. В статье «Жизнь стиха» он писал: «Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни» [8, с. 399]. И далее: «Все действует на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью» [Там же]. Таким образом, поэт признавал естественность появления поэзии как таковой, ее невыдуманную, природную суть.
Наверное, не случайно Н.С. Гумилев был не только поэтом, но и отважным воином (он добровольцем воевал на фронтах Первой мировой войны, за проявленные воинские качества был определен в разведчики); героем (вспомним, что он был дважды награжден Георгиевским крестом); неутомимым путешественником (Европа, Египет, Судан, Эфиопия, Палестина, Турция – в списке стран, которые он посетил); охотником (на его счету подстреленные леопарды, гиены и др.). Или, может быть, он был воином, героем, путешественником, охотником именно потому, что был, прежде всего, поэтом, – то есть человеком, умеющим проявить мужество в самых сложных и опасных ситуациях; собрать свою волю для совершения необыкновенного поступка; бесстрашно пройти по свету множество самых непредсказуемых дорог; сконцентрироваться и проявить хладнокровие в минуту острого напряжения. И при этом он умел здраво оценить обстановку, зафиксировать главное, увидеть суть и в соответствии с логикой перенести все это на бумагу в зримых и ярчайших словесных красках.
–°—Ç–∏–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–∞ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞ –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–∞ —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–µ–º —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∏, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è —á—Ä–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–æ-–∏–∑–æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–π, –¥–∞–∂–µ —ç–∫–ª–µ–∫—Ç–∏—á–Ω–æ–π. –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤ –ø–∏—Å–∞–ª –æ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–µ: ¬´–ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –∏ –∞–∫–º–µ–∏—Å—Ç, –∏ —Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç (–ø—Ä–∏—Ç–æ–º –∫—Ä–∞–π–Ω–∏–π), –∏ –∏–º–∞–∂–∏–Ω–∏—ŗǬª¬Ý [8, —Å. 7]. –ü–æ—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–ª–∏–∑–∫—É—é –º—ã—Å–ª—å –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤ –æ–± –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞: ¬´–û–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã—Ö —á–µ—Ä—Ç —ç–ø–æ—Ö–∏ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º, –≤—Å–µ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã —Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–æ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ –∏ –Ω–∞—É–∫–∏, –ú–æ—Ü–∞—Ä—Ç–∞ –∏ –°–∞–ª—å–µ—Ä–∏, —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–∑–∏–¥–∞–Ω–∏—è –∏ –∞–Ω–∞–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã —É–º–∞. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–æ–±–æ–π –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏—è!¬ª [8, —Å. 23]. –ü–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ —Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏–µ, —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –ø—Ä–æ–¥–∏–∫—Ç–æ–≤–∞–Ω–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–æ–º —ç–ø–æ—Ö–∏, –ø–æ–∏—Å–∫–æ–º –Ω–æ–≤—ã—Ö —Ñ–æ—Ä–º –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞, –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ǘ嬪 –Ω–µ—á—Ç–æ –Ω–æ–≤–æ–µ –∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ –∏ —Å—Ç–∞—Ç—å –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º; —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã ‚Äì –ª–∏—á–Ω—ã–º –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏–µ–º –ø–æ—ç—Ç–∞ –∫–æ –≤—Å–µ–º—É –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ–º—É, –∫ –Ω–µ–∫–∏–º –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã–º –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è–º —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–æ–≤ –∏ —è–≤–ª–µ–Ω–∏–π –∏ —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫ –≤–µ—Å—å–º–∞ –æ–ø–∞—Å–Ω—ã–º —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∞–º.
В силу такого сочетания (образного мышления поэта и рассудочности философа или даже философа-натуралиста) стихи Н.С. Гумилева несли на себе печать и того и другого, приближая его к постижению природы настолько, насколько мало кто из поэтов приближался к ней. Да, он смотрел на природу глазами поэта, и потому ему открывалось заповедное знание на бессознательно-интуитивном уровне: «И за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем». О чем догадывался поэт? О каких природных тайнах узнавала его душа в этих прорывах в неведомое?
В стихотворении «Credo» он писал: «Откуда я пришел, не знаю… / Не знаю я, куда уйду, / Когда победно отблистаю / В моем сверкающем саду…» Значит, жизнь изначально виделась ему «садом» и праздником, и он, поэт, наслаждался ее сверкающими красками. Далее поэт признавался: «Мне все открыто в этом мире – / И ночи тень, и солнца свет, / И в торжествующем эфире / Мерцанье ласковых планет». Как видим, уже в раннем творчестве Н.С. Гумилева наметился его космизм, который выражен во многих стихотворениях. Поэт сознавал это: «Я всей вселенной вижу звенья», причем, космизм этот обозначился в его творчестве сразу, определив его натурфилософские поиски а, может быть, и саму судьбу.
Но он же был и «холодным философом», граница между его поэтическим словом и философией весьма зыбкая. Иногда трудно понять, где кончается философия и начинается литература, и наоборот.
–°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫–∂–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞–¥ —ç—Ç–∏–º–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º–∏, –ê.–ü. –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤ –≤ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ ¬´–û–±—Ä–∞–∑–Ω–∞—è —Ç–∫–∞–Ω—å —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—謪, –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ –∏ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ǘɗė㬪, –ø–∏—à–µ—Ç: ¬´–°—Ç–∞—Ç—É—Å —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ –∏–Ω–æ–π, —á–µ–º —Å—Ç–∞—Ç—É—Å –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ. –ï—Å–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è ¬´–µ–¥–∏–Ω–∏—Ü–µ–𬪠—Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π¬Ý –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã, —Ç–æ ¬´–µ–¥–∏–Ω–∏—Ü–∞–º–∏¬ª —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –∏–¥–µ–∏, –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ü–∏–∏, —Å–∏—Å—Ç–µ–º—㬪 [1, —Å. 37]. –ù–æ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–æ–±–æ–π –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –∏–¥–µ–π, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Ç—É—Ä—Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–µ –ø–æ–∏—Å–∫–∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—é—Ç –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.
–ñ–∏–≤–∞—è –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞
Мир природы в творчестве Н.С. Гумилева преломляется сквозь призму его многоликого гения. Природу поэт воспринимает как храм: «Промчится день, зажжет закат, природа будет храм…», созданный верховной волей, полный чудес и живущий по своим законам, но храм таинственный, что вполне традиционно для русской литературы. Все в природе целесообразно, все имеет свой смысл и назначение, в ней нет ничего случайного, невесть откуда взявшегося, она – живая и одухотворенная. «По узкой тропинке / Я шел, упоенный мечтою своей, / И в каждой былинке / Горело сияние чьих-то очей», – такова первая строфа стихотворения «Осень».
–í —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–ö–∞–º–µ–Ω—å¬ª —Ç–∞–∫–∏–º –∂–µ –æ–¥—É—à–µ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø–æ—ç—Ç—É –≤–∏–¥–∏—Ç—Å—è –∫–∞–º–µ–Ω—å. ¬´–í–∏–¥–∏—à—å, –∫–∞–∫ –∑–ª–æ–±–Ω–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –∫–∞–º–µ–Ω—å, / –í –Ω–µ–º —â–µ–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏, / –ü–æ–¥ –º—Ö–æ–º –º–µ—Ä—Ü–∞–µ—Ç —Å–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –ø–ª–∞–º–µ–Ω—å; / –ù–µ –¥—É–º–∞–π, —Ç–æ –Ω–µ —Å–≤–µ—Ç–ª—è–∫–∏¬ª. –≠—Ç–æ—Ç –∫–∞–º–µ–Ω—å –∂–∏–≤–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω—å—é, –æ–∫–æ–ª–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –∏ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–º–∏ –¥—Ä—É–∏–¥–∞–º–∏, –∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è —É—á–∞—Å—Ç—å –∂–¥–µ—Ç —Ç–æ–≥–æ, –∫—Ç–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –∑–∞–¥–µ–Ω–µ—Ç –µ–≥–æ, —Ç–æ–ª–∫–Ω–µ—Ç –∏–ª–∏ —á–µ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø–æ—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∏—Ç. ¬´–û–Ω –ø—Ä–æ–º–æ–ª—á–∏—Ç –∏ –±—É–¥–µ—Ç —Å –≤–∏–¥—É / –ù–µ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω, –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π —É—Ç–µ—Ŭª, –Ω–æ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ‚Ķ –æ—Ç–æ–º—Å—Ç–∏—Ç¬Ý –æ–±–∏–¥—á–∏–∫—É.
Одушевление природы, как известно, имеет глубокие корни, уходящие в мифологические и религиозные представления древних народов, например, ведизм индусов учит, что все вокруг имеет живую душу – деревья, кустарники, цветы, травы, горы, реки, и даже неподвижный и мертвый с виду камень может быть прибежищем чьей-нибудь души, опустившейся в своем развитии в круговороте ее инкарнаций до такого состояния.
В стихотворении «Всадник» звучит подобная тема, но здесь она проработана поэтом еще более детально: ночной дорогой едет всадник, на небе – строгий месяц, освещающий пространство вокруг, внезапно конь, чего-то испугавшись, начинает дрожать. Казалось бы, нет ничего, что могло бы его так испугать и ничто не предвещает худого, конь видит перед собою возле пня лишь обыкновенный белый камень: «И внезапно за деревней белый камень возле пня». Но так ли уж он обыкновенен и прост этот придорожный валун, если он так «испугал усмешкой древней задрожавшего коня»?
Человек еще ничего не подозревает, у него нет «шестого чувства», потому он и не чует беды, которая его ожидает этой странной, загадочной ночью, ведь беда эта – смутная, непонятная, таинственная, проистекающая неизвестно от кого и от чего. Но беду чует животное – конь седока, видимо, потому что он ближе к природе, нежели человек, оторвавшийся от ее естества, ушедший в города и утративший спасительную связь с нею. И конь дрожит перед этим живым камнем с его «древней усмешкой», он уже знает, что всадник его – не жилец, и что этой ночью ему суждено погибнуть.
На рассвете конь возвращается в селение один, а камень робко прячет свой странный «оскал» – может быть, чья-то неуспокоенная и мстящая душа живет в этом камне, наводя ужас на всех, кто встречается ему на пути? Он свершил свою месть, возможно, успокоившись до следующего раза.
Обратим внимание, что символ камня – краеугольный в метафоричной системе акмеизма. Известно, что слово «акме» в переводе с греческого – вершина, острие или даже камень. Отношение акмеистов к поэзии было подчеркнуто значимым, примечательно, что И.Ф. Анненский говорил, что акмеисты «гранят и обрамляют» поэтическое слово, будто шлифуют камень. Не случайно он наделен у них живой душой.
Та же тема «живого камня» звучит и в «Поэме начала»: «С сотворенья мира стократы / Умирая, менялся прах, / Этот камень рычал когда-то, / Этот плющ парил в облаках…». Дальше идет строфа, буквально объясняющая суть этого вечного превращения – такова философия природы по Н.С. Гумилеву, и таково его отношение к жизни и смерти. Согласно Н.С. Гумилеву, нет ни рождения, ни смерти, есть круговорот «вселенской души», без начала и конца. «Убивая и воскрешая, / Набухать вселенской душой – / В этом воля земли святая, / Непонятная ей самой». Так в поэзии Н.С. Гумилева прозвучала тема инкарнации.
¬´–Ý—É—Å—å –±—Ä–µ–¥–∏—Ç –ë–æ–≥–æ–º‚Ķ¬ª
В природе – Бог
–í —ç—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω–æ–º —Ö—Ä–∞–º–µ –µ—Å—Ç—å —Ç–æ—Ç, –≤ —á—å–∏—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∂–∏–∑–Ω—å –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ. ¬´–Ý—É—Å—å –±—Ä–µ–¥–∏—Ç –ë–æ–≥–æ–º¬ª, ‚Äì –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –ø–æ—ç—Ç, –≤–∏–¥—è –≤–æ –≤—Å–µ–º –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤—ã—Å–æ—á–∞–π—à–µ–π –≤–æ–ª–∏ –Ω–µ–±–µ—Å. –ù–æ –ë–æ–≥–æ–º ¬´–±—Ä–µ–¥–∏—Ǭª –≤–µ—Å—å –º–∏—Ä, –ª—é–±–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥ –∏—Å–ø–æ–∫–æ–Ω –≤–µ–∫–æ–≤, –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –∂–∏–≤–µ—Ç –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –±–æ–≥–æ–∏—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∏ –æ –ª—é–±–æ–º –º—ã—Å–ª—è—â–µ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–µ, –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –∑–∞–¥–∞–≤—à–µ–º—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –æ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–∏ –º–∏—Ä–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—è, —Å—É—Ç–∏ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –∏ —Å–º—ã—Å–ª–µ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –í —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–°–æ–Ω –ê–¥–∞–º–∞¬ª –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –ø–∏—Å–∞–ª –æ —Ç–∞–∫–æ–º –∏—â—É—â–µ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–µ: ¬´–£—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –∏ –∫ –Ω–µ–±—É –≤–æ–∑–≤–æ–¥–∏—Ç —Å–≤–æ–π –≤–∑–æ—Ä, / –°–ª–µ–ø–æ–π –∏ –∫–æ—â—É–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–∑–æ—Ä —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, / –¢–∞–º, –ë–æ–≥–æ–º —Ä–∞—Å–∫–∏–Ω—É—Ç –æ—Ç –≤–µ–∫–∞ –¥–æ –≤–µ–∫–∞, / –ú–µ—Ä—Ü–∞–µ—Ç –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º –º–Ω–æ–≥–æ–∑–≤–µ–∑–¥–Ω—ã–π —à–∞—Ç–µ—Ä, / –°–≤—è—Ç—ã–º–∏ –Ω–æ—á–∞–º–∏, —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π –∏ —Å—Ç—Ä–æ–≥–∏–π, / –û–Ω –∫–ª–æ–Ω–∏—Ç –∫–æ–ª–µ–Ω–∞ –∏ –≥—Ä–µ–∑–∏—Ç –æ –ë–æ–≥–µ¬ª.
Все, созданное рукою Бога, совершенно и непревзойденно, и таковой же видится взору поэта природа, она тоже творение Господа. «Я знаю, что деревья, а не нам дано величье совершенной жизни». Поэт по-своему объясняет причину этого: «На ласковой земле, сестре звездам мы – на чужбине, а они – в отчизне». Таким образом, мир природы – деревья и цветы, животные и птицы, травы и камни становятся вровень с человеком – таков главный постулат философии природы Гумилева-поэта и Гумилева-мыслителя.
–í —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–î–µ—Ç—Å—Ç–≤–欪 –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –º—ã —á–∏—Ç–∞–µ–º –Ω–µ–∑–∞—Ç–µ–π–ª–∏–≤—ã–µ, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã, —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏, —Ä–∏—Å—É—é—â–∏–µ –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–µ–π–∑–∞–∂–∞: ¬´–Ø —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–æ–º –ª—é–±–∏–ª –±–æ–ª—å—à–∏–µ, –º–µ–¥–æ–º –ø–∞—Ö–Ω—É—â–∏–µ –ª—É–≥–∞, –ø–µ—Ä–µ–ª–µ—Å–∫–∏, —Ç—Ä–∞–≤—ã —Å—É—Ö–∏–µ‚Ķ¬ª. –ù–æ –ø–æ—ç—Ç –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –º–µ–Ω—è–µ—Ç –∏–Ω—Ç–æ–Ω–∞—Ü–∏—é: ¬´–ö–∞–∂–¥—ã–π –ø—ã–ª—å–Ω—ã–π –∫—É—Å—Ç –ø—Ä–∏–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–π / –ú–Ω–µ –∫—Ä–∏—á–∞–ª: ¬´–Ø —à—É—á—É —Å —Ç–æ–±–æ–π, / –û–±–æ–π–¥–∏ –º–µ–Ω—è –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ / –ò —É–∑–Ω–∞–µ—à—å, –∫—Ç–æ —è —Ç–∞–∫–æ–π!¬ª. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–∂–∏–≤–∞—é—â–∏—Ö –∏ –º—Å—Ç—è—â–∏—Ö –∫–∞–º–Ω–µ–π —ç—Ç–æ –∑–≤—É—á–∏—Ç –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–µ—Ä–µ–≥–∞—é—â–µ. –ù–æ –ø–æ—ç—Ç –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –≤–¥—Ä—É–≥ –≤—ã–≤–æ–¥ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ ¬´–ª—é–¥—Å–∫–∞—è –∫—Ä–æ–≤—å –Ω–µ —Å–≤—è—Ç–µ–µ –∏–∑—É–º—Ä—É–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–∫–∞ —Ç—Ä–∞–≤¬ª, –ø–æ–¥—á–µ—Ä–∫–∏–≤–∞—è —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ –∏, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∑–∞–Ω–∏–∂–∞—è –∑–Ω–∞—á–∏–º–æ—Å—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ö–∞–∫ –±—ã —Ç–æ –Ω–∏ –±—ã–ª–æ, –æ–Ω —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É —Å –ª—é–±–æ–≤—å—é, —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –∏… –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ–º: ¬´–ú—ã –ø–æ–Ω—è–ª–∏ —Ç–µ–±—è, –∑–µ–º–ª—è: / –¢—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ö–º—É—Ä–∞—è –ø—Ä–∏–≤—Ä–∞—Ç–Ω–∏—Ü–∞ / –£ –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –ë–æ–∂–∏–∏ –ø–æ–ª—謪. –í –∫–∞–∂–¥–æ–π –±—ã–ª–∏–Ω–∫–µ –∏ —Ç—Ä–∞–≤–∏–Ω–∫–µ –æ–Ω –≤–∏–¥–µ–ª ¬´–Ω–∞–º–µ–∫ –Ω–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–µ—Å–±—ã—Ç–æ—á–Ω–æ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏¬ª –∏ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ –≤–æ–ª–µ –¢–≤–æ—Ä—Ü–∞.
–ú–Ω–æ–≥–æ–∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ –∏ —è–∑—ã–∫ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã
Природа в творчестве Н.С. Гумилева прекрасна и величественна, она – предмет его восхищения и восторга, обожания и любви. Она несказанно хороша, трогательна и элегична, а может быть диковинной, цветистой, экзотичной. Особенно это касается дальних стран, где успел побывать поэт за свою короткую тридцатипятилетнюю жизнь. В «Африканском дневнике» Н.С. Гумилев описывал, например, дорогу в Харар (город в Эфиопии): «Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно-зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный, словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде» [6, с. 69].
В этом диковинном природном мире, созданном пером Н.С. Гумилева, нас встречают многочисленные животные, среди которых хищники: ягуары, пантеры, шакалы, носороги, крокодилы, змеи, кошки, волки, тигры, львы, зубры, барсы, вепри. И вполне мирные животные: слоны, жирафы, обезьяны, черепахи, газели, зебры, буйволы, мулы, козы, лани, кенгуру. Здесь настоящее птичье царство: орлы, аисты, какаду, коршуны, попугаи, ястребы, а также легкокрылые бабочки. И царство обитателей моря: крабы, осьминоги, тритоны, тюлени, рыбы-мечи. Необычайно богат растительный мир, здесь заросли алоэ и цветущий барбарис, банановые пальмы и цветущие маслины, мимозовые рощи и изгороди молочая, возделанные поля дурро и кофейные плантации, баобабы, смоковницы, кипарисы. Здесь водовороты с клокочущей пеной, шумные водопады и море, что «грохочет свою вековечную сказку».
Можно привести множество строк об этом, но даже все они не передадут того богатейшего многообразия красок поэта. «На холмах, словно вещие друиды, / Толпились величавые платаны…»; «Ночные бабочки перелетали / Среди цветов, поднявшихся высоко, / Или между звезд, – так низко были звезды, / Похожие на спелый барбарис»; «Цветы поют свой гимн лесной, / Детям и ласточкам знакомый, / И под развесистой сосной / Танцуют маленькие гномы». По мнению поэта, здесь на Земле, «садовод Всемогущего Бога в серебрящейся мантии крыльев сотворил отражение рая», дав яркие краски всей природе: «Он собрал здесь совсем небывалых, / Удивительных птиц и животных. / Краски взяв у пустынных закатов, / Попугаям он перья раскрасил, / Дал слону он клыки, что белее / Облаков африканского неба, / Льва одел золотою одеждой…». Это строки из стихотворения «Судан», описывающего столь экзотичную для европейца страну, но ведь это – краски нашей планеты, родного дома всех землян, разнообразного и прекрасного своим разнообразием. Далее поэт делает удивительное, романтическо-прекрасное предположение, что этот «садовод Всемогущего Бога» «ушел на далекие звезды – может быть, их раскрашивать тоже…».
–°–æ–≤—Å–µ–º –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –ø–æ—ç—Ç –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç –¥–ª—è –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã: ¬´–í —Å–∞–¥–∞—Ö –Ω–∞—Å—Ç—É—Ä—Ü–∏–∏ –∏ —Ä–æ–∑–∞–Ω—ã, / –í –ø—Ä—É–¥–∞—Ö –∑–∞—Ü–≤–µ—Ç—à–∏—Ö –∫–∞—Ä–∞—Å–∏, ‚Äì / –£—Å–∞–¥—å–±—ã —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ —Ä–∞–∑–±—Ä–æ—Å–∞–Ω—ã / –ü–æ –≤—Å–µ–π —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –Ý—É—Å–∏¬ª. –ó–¥–µ—Å—å —Å–æ–≤—Å–µ–º –∏–Ω–æ–π –ª–µ–∫—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤, –∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥–±–æ—Ä —Å–ª–æ–≤ ‚Äì –≤–æ–ª—å–Ω—ã–π –∏–ª–∏ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω—ã–π, –Ω–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏–π —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—É—é¬Ý –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–±—ã–ª–∏–Ω–Ω—É—é –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ò –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏–Ω–æ–π –æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–π —Ä—è–¥: –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–µ, –æ–ø—É—à–∫–∏, —Å–æ–Ω–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∞–≤—ã, —Ä–∞–∑–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø–µ–Ω–∏–µ –ª—è–≥—É—à–µ–∫, –¥–æ–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –≥–æ–ª–æ—Å –≤—ã–ø–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç –∏ –≤–ø—Ä—è–º—å ¬´—Å–µ—Ä–¥—Ü–µ–º –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –±–µ—Ä–µ–∑—ã, ‚Äì –∑–≤–æ–Ω –º–∞–ª–∏–Ω–æ–≤—ã–π –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–æ–≤¬ª. –ù–æ —ç—Ç–æ—Ç –∫—Ä–∞–π —Å ¬´–ø–æ—Ä—ã–∂–µ–≤—à–∏–º–∏ –ø–æ—á–∫–∞–º–∏¬ª –∏ ¬´–º–æ–∫—Ä—ã–º –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–º¬ª –Ω–µ—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ –º–∏–ª –ø–æ—ç—Ç—É: ¬´–Ø –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –æ—Ç—Ä–µ–∫–∞—é—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞—á–Ω—ã—Ö –±–ª–∞–≥‚Ķ¬ª, ‚Äì –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª—Å—è –æ–Ω –≤ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–ü–æ–∫–æ—Ä–Ω–æ—ŗǗ嬪, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∏–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–∏ –≤—Å–µ–π –µ–≥–æ –ª—é–±–≤–∏ –∫ –∞—Ñ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –±—ã–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–∂–µ –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç–µ.
–ù–æ –ø–æ—ç—Ç —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É —à–∏—Ä–æ–∫–æ, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –Ω–æ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —Ü–µ–ª–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ –±—ã–ª–∞ –µ–º—É –±–ª–∏–∑–∫–∞ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–∞. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –µ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ–π ‚Äì —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫, –æ–∫–∞–∑–∞–≤—à–∏—Å—å –¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Ä–æ–¥–∏–Ω—ã –∏ –æ—Ç ¬´–º–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —è–∑—ã–∫–∞¬ª, –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω, –ø–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –ø–æ—ç—Ç–∞, —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–º, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –≤—Å—é–¥—É –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–∞ –∏ ¬´–æ—Å–ª–µ–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞¬ª, –∏ –≥–æ–ª–æ—Å –µ–µ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–µ–Ω –ª—é–±–æ–º—É. ¬´–ü–µ–Ω—å–µ –ø—Ç–∏—Ü, –≤ –≤–µ—Ç–≤—è—Ö –≥–Ω–µ–∑–¥—è—â–∏—Ö—Å—è, —Ä–∞–∑–≤–µ —á—É–∂–¥—ã–π —è–∑—ã–∫ —Ç–µ–±–µ?¬ª, ‚Äì –∑–∞–¥–∞–µ—Ç—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –ø–æ—ç—Ç. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ ‚Äì —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å—É–º, –æ–Ω–∞ –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è–µ—Ç –ª—é–¥–µ–π –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, —Å–ª—É–∂–∏—Ç –∏–º —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –º–æ—Å—Ç–∫–æ–º, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –æ—Å–Ω–æ–≤–æ–π –∏—Ö –≤–∑–∞–∏–º–æ–ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–欪 –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª, —á—Ç–æ ¬´–Ω–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ—é —Ä–µ—á—å—é –≥—É–¥—è—Ç –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—Ç—Ä–∞‚Ķ¬ª, –∏ –ø–æ—ç—Ç –º–æ–∂–µ—Ç, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∏—á—å, —Ç–æ –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏—Ç—å—Å—è –∫ —ç—Ç–æ–º—É —è–∑—ã–∫—É. –ò —É—Å–ª—ã—à–∞–≤ –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç –∏—Ö –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—ã. –≠—Ç–∏ –æ–±—Ä–∞–∑—ã –æ–Ω —Å—á–∏—Ç–∞–ª –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Å–∞–º–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–æ–π.
В статье «Переводы стихотворные» Н.С. Гумилев откровенно писал: «Число образов ограничено, подсказано жизнью, и поэт редко бывает их творцом. Только в его отношении к ним проявляется его личность. Например, персидские поэты мыслили розу как живое существо, средневековые – как символ любви и красоты, роза Пушкина – это прекрасный цветок на своем стебле, роза Майкова – всегда украшение, аксессуар, у Вячеслава Иванова роза становится мистической ценностью и т.д.» [8, с. 426]. Но еще более удивительное признание находим мы в статье «Читатель», где Н.С. Гумилев писал: «Все, что говорится о поэтичности какого-нибудь пейзажа или явления природы, указывает только на пригодность их в качестве поэтического материала или намекает на очень отдаленную аналогию в анимистическом духе между поэтом и природой» [8, с. 420], и мы понимаем, что это слова настоящего художника. Для сравнения: героиня романа С. Моэма, актриса Джулия Ламберт говорила: «Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем…» [11, с. 429]. Художник извлекает свои образы из окружающей действительности, он их «подсматривает» в жизни и переносит в свое творчество.
–ë–æ—Ä—å–±–∞ –∏ –ø–æ–∫–æ–π
–ú–∏—Ä, –ø–æ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤—É, –ø–æ–ª–æ–Ω –±–æ—Ä—å–±—ã, –≤–∏–¥–∏–º–æ–π –∏ –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º–æ–π, –∏ —ç—Ç–∞ –∑–µ–º–Ω–∞—è –±–æ—Ä—å–±–∞ ‚Äì –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –±–æ—Ä—å–±—ã –∏–Ω–æ–π, –¥–ª—è—â–µ–π—Å—è —Å —Ç–µ—Ö —Å–∞–º—ã—Ö –ø–æ—Ä, –∫–∞–∫ –î–µ–Ω–Ω–∏—Ü–∞ —Å—Ç–∞–ª –õ—é—Ü–∏—Ñ–µ—Ä–æ–º. –¢–∞–∫ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏—è –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã —Å–º—ã–∫–∞–µ—Ç—Å—è —Å —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–µ–π –¥–æ–±—Ä–∞ –∏ –∑–ª–∞ –∏ –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º —Å–ª–æ–≤–µ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã–º –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ–º –¥—É—à–µ–≤–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª. –ü–æ—ç—Ç —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤–∏–¥–µ–ª —ç—Ç—É –±–æ—Ä—å–±—É, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –æ—â—É—â–∞—è –µ–µ: ¬´–ò —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é –Ω–µ—è—Å–Ω–æ, / –ì–¥–µ-—Ç–æ —Ç–∞–º, –≤ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –≥–æ–ª—É–±–æ–π, / –ß–µ–π-—Ç–æ –≥–æ–ª–æ—Å –ø–æ—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ-—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω—ã–π / –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ –±–æ—Ä—å–±–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π¬ª. –ò –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—è —Å–µ–±–µ –æ—Ç—á–µ—Ç, –Ω–∞ —á—å–µ–π –æ–Ω —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ, –ø–æ—ç—Ç –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ ¬´–Ý–∞–∑—Ä—É—à–∞—é—â–∏–π –±—É–¥–µ—Ç —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–ª–µ–Ω, / –û–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É—Ç –æ–±–ª–æ–º–∫–∞–º–∏ –ø–ª–∏—Ç, / –ò, –í—Å–µ–≤–∏–¥—è—â–∏–º –ë–æ–≥–æ–º –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω, / –û–Ω –æ –º—É–∫–µ —Å–≤–æ–µ–π –≤–æ–∑–æ–ø–∏—ǂĶ¬ª, —ç—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –≤ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ—Ä–µ—á–∏–≤—ã–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–í—ã–±–æ—Ĭª.
Но понимая весь ужас, весь трагизм этого духовного противостояния, по сути, обреченного на известный финал, поскольку с самого начала конец его был предопределен, поэт не сомневался в победе света над тьмою. Более того, он полагал, что это борение нужно не Богу, а человеку. Это ему, земному созданию, дана свободная воля, которой он распоряжается по своему усмотрению. Это ему, чей разум находится в состоянии вечной раздвоенности, нужно сделать свой выбор между правдой и ложью. Это человеческая душа объята постоянными страхами и сомнениями, разъедающим смятением и темным ужасом перед таинствами жизни и смерти. В стихотворении «Поединок» поэт восклицал: «Страшна борьба меж днем и ночью, / Но Богом нам она дана, / Чтоб люди видели воочью, / Кому победа суждена».
Но Н.С. Гумилев не был бы Н.С. Гумилевым, если бы не пришел к другому выводу, который, на первый взгляд, кажется странным для русского поэта, ведь русский поэт, вслед за М.Ю. Лермонтовым, всегда «просит бури», он живет в состоянии борьбы. А.А. Блок, как мы помним, тоже восклицал: «Покой нам только снится…», также находясь в состоянии борения. Н.С. Гумилев же, бесстрашный воин, отважный путешественник, безоглядно бросающийся в любые битвы, пускающийся в самые опасные походы, презирающий трусов и сам не раз рискующий жизнью и бывавший под пулями, вдруг тихо восклицает: «Я верю – боги в тишине, а не в смятении и буре». Это сказано в произведении «Возвращение Одиссея», и хотя эти слова вложены в уста его героя, они отражают духовную эволюцию поэта, ведь он приходит к мысли, что борьба – это удел незрелых душ, так же, как и страдание, удел же мудрецов и философов – спокойствие сердца.
Конечно, у Н.С. Гумилева есть и другие строки, как, например, следующие, буквально воспевающие красоту битвы: «Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы…», но обратим внимание, кто их произносит. А произносит их Блудный сын, герой поэмы с одноименным названием. Он, незрелый, мятежный, «красивый, могучий и полный здоровья», рвется из дому, ему кажется, что там, вдали от родного дома он найдет для себя нечто новое: «О, счастье! О, пенье бунтующей крови! Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!». Он еще незрел в своих поступках и неискусен в делах, в нем говорит лишь кипенье молодости и неопытности. Но все это скоро сменится совсем иными настроениями, и бывший бунтарь осознает, что его опыт «дорогого стоит», что юношеский бунт есть проявление душевной незрелости. Вот и Одиссей, пройдя столько испытаний, понимает, что спокойная, мудро размеренная жизнь может дать человеку настоящее счастье, поскольку спокойствие – это жизнь в состоянии гармонии, приближающая его к небесам, и это, как мы понимаем, вывод самого поэта.
То, что этот вывод не случаен, подтверждают и другие стихи. «Страстность – детище земли», – утверждает поэт в стихотворении «Две розы», а в стихотворении «Отрывок» есть и наводящие на вполне определенные мысли строки: «Христос сказал: убогие блаженны, / Завиден рок слепцов, калек и нищих, / Я их возьму в надзвездные селенья, / Я сделаю их рыцарями неба / И назову славнейшими из славных…». Но тут голос поэта словно прерывается, и он противоречит себе: «Но как же те, другие, чьей мыслью мы теперь живем и дышим», имея в виду властителей дум, великих поэтов, пророков и провидцев человечества, среди которых он называет имена Гете, Байрона и др. Поэт задает страшный, по сути, вопрос: «Искупят чем они свое величье, / Как им заплатит воля равновесья?» Надо ли говорить, что перед нами философия кармического воздаяния, распространенная в ведизме, буддизме, брахманизме, индуизме и некоторых других религиях. Следуя ей, человек рождается в семье, согласно своим духовным достижениям в прежнем материальном воплощении, но свое нынешнее положение он может улучшить или ухудшить, что скажется в следующей инкарнации.
В статье «Наследие символизма и акмеизм» Н.С. Гумилев писал: «Как можем мы вспоминать наши прежние существования (если это не явно литературный прием), когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют» [8, с. 412].
–ò —Ö–æ—Ç—è —ç—Ç–æ ‚Äì —Ç–µ–º–∞ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–≤–µ–¥–æ–≤, –æ–Ω–∞, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç –≤ –ø–æ—ç–∑–∏—é, –∏ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –≤–∞–∂–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–æ-–ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑ ¬´–≤–æ–ª—è —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å—å—謪. –ù–∞–º –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –æ —á—å–µ–π –≤–æ–ª–µ –∏–¥–µ—Ç —Ä–µ—á—å, —ç—Ç–æ –≤–æ–ª—è –ë–æ–≥–∞-–¢–≤–æ—Ä—Ü–∞, –Ω–æ –ø–æ—á–µ–º—É –∑–¥–µ—Å—å –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–µ—Ç —Å–ª–æ–≤–æ ¬´—Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å—å–µ¬ª? –Ý–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ —Ü–∞—Ä–∏—Ç –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –¥–µ–Ω—å —Å–º–µ–Ω—è—Ç—å –Ω–æ—á—å, –∞ –ª–µ—Ç–æ ‚Äì –∑–∏–º—É; —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ —Ü–∞—Ä–∏—Ç –≤–æ –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π, —Å–ª–µ–¥—è –∑–∞ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç –∏ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª, —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—è –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ç–∞ –∏ —Ç–µ–ø–ª–∞; —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ ‚Äì —ç—Ç–æ –Ω–µ–∫–∞—è –º–µ—Ä–∞, –∑–æ–ª–æ—Ç–∞—è —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–∞, –≤—ã—Å—à–∏–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫, –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–µ —Å–µ—á–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏–π, —Å–∏–º–≤–æ–ª –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏–∏. –ö–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–π ¬´–ø—Ä–∞—Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—嬪 –Ω–µ–æ–∫–æ–Ω—Ñ—É—Ü–∏–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ XI –≤–µ–∫–∞ –ß–∂–æ—É –î—É–Ω—å–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–ú—É–∑—ã–∫–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å—å—謪 [12, —Å. 101], —É—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—è –≤ —ç—Ç–æ–º –∏—Å—Ç–∏–Ω—É, –∏–¥—É—â—É—é –æ—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã.
–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã—Ö –≤—ã–≤–æ–¥–æ–≤ —É –ø–æ—ç—Ç–∞ –Ω–µ—Ç. –≠—Ç–æ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—Ç –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏. –¢–∞–∫, –ª—é–±—É—è—Å—å –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, —É–ø–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç—å—é –Ω–µ–±–∞, —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞, —Ä—É—á—å—è, –≤—Å–µ–≥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–∏—è, –ø–æ—ç—Ç –æ–±—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É —Å–µ—Ä–¥—Ü—É —Å –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º: ¬´–Ý–∞–∑–≤–µ —Ç—ã –Ω–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ –∂–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ —Ç—Ä–∞–≤—ã?¬ª
В одном из стихотворений («Беатриче»), не касающемся этой темы, есть удивительная строчка: «Слишком долго мы были затеряны в безднах». Бездны – это страдания человека, бездны – это его несовершенство, классическое «упоение в бою и бездны мрачной на краю…», но мы забываем, как полностью звучат эти пушкинские строки: «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю, / И в разъяренном океане, / Средь грозных волн и бурной тьмы, / И в аравийском урагане, / И в дуновении Чумы». Бездны – это человеческие заблуждения, уводящие его от спокойствия сердца и мудрого приятия мира, но не равнодушие, не безразличие, а именно спокойствие, как естественное выражение изначальной гармонии вселенной. Как видим, «воля равновесья» проявляется во всем. Поэт признавался, что в его жизни было много лишнего, наносного, но он «томился много по вышине и тишине» и, возможно, неправильно распоряжался временем: «смотрю в века, живу в минутах», – замечал он в стихотворении с красноречивым названием «Вечное».
–û –≥–ª—É–±–∏ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏
Тема времени занимала сознание поэта, но для Н.С. Гумилева словно не существовало ни времени, ни пространства, казалось, он умел заглядывать в прошлое и предвидеть будущее. В стихотворении «Прапамять» он писал: «И вот вся жизнь! Круженье, пенье, / Моря, пустыни, города, / Мелькающее отраженье / Потерянного навсегда», а в другой раз поэт словно неожиданно ронял странную строчку о том, что чувствовал себя «рожденным из глуби не нашего времени». Таким, «рожденным из глуби не нашего времени» иногда казался поэт не только своим современникам, но и потомкам.
Время и пространство для Н.С. Гумилева – некая поэтическая условность, в своем воображении он легко мог перенестись в любую точку земного шара и в какую угодно эпоху. Яркий пример – стихотворение «Заблудившийся трамвай», где образ «заблудившегося в бездне времен» трамвая – подтверждение этому. Страшно путешествие его лирического героя сквозь пространство и время, когда он проскакивает «сквозь рощу пальм», встречает нищего старика, «что умер в Бейруте год назад», и понимает, что «наша свобода – только оттуда бьющий свет».
–ù–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, —ç—Ç–æ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –Ω–µ—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ, –ø–æ—á—Ç–∏ –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–∏–¥–µ–Ω–∏–µ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ, —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –ø—Ä–æ—Ä—ã–≤ –≤ –Ω–µ–≤–µ–¥–æ–º–æ–µ, —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ª–∏—à—å –≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –ø–æ—ç—Ç–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –±–∞–ª–∞–Ω—Å–∏—Ä—É—è –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏ –º–∏—Ä–æ–≤, —É–º–µ—é—Ç –∏ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –µ–≥–æ. ¬´–õ—é–¥–∏ –∏ —Ç–µ–Ω–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç —É –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –∑–æ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–∞–¥ –ø–ª–∞–Ω–µ—Ǭª, ‚Äì –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ—ç—Ç –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω—É—é —Ñ—Ä–∞–∑—É, –Ω–æ —ç—Ç–æ, –ø–æ –µ–≥–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é, –∂–¥–µ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º, –∞ –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º –µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω—å ‚Äì —ç—Ç–æ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω—å–µ ¬´–æ—Ç –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∑–µ–º–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω—è –¥–æ –æ–≥–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ç–æ–ø—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—å—謪, —á—Ç–æ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç –ø–æ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤—É –∫–æ–Ω—Ü–∞ –ø—É—Ç–∏. –ù–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —ç–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç, —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≥–æ –∫ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–º—É: ¬´–ö–∞–∫ –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ –≤ —Ä–∞–∑—Ä–æ—Å—à–∏—Ö—Å—è —Ö–≤–æ—â–∞—Ö / –Ý–µ–≤–µ–ª–∞ –æ—Ç —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è –±–µ—Å—Å–∏–ª—å—è / –¢–≤–∞—Ä—å —Å–∫–æ–ª—å–∑–∫–∞—è, –ø–æ—á—É—è –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∞—Ö / –ï—â–µ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –∫—Ä—ã–ª—å—謪. –ü—Ä–æ—à–ª–æ–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ ¬´—Å–∫–æ–ª—å–∑–∫–æ–π —Ç–≤–∞—Ä–∏¬ª, –±—É–¥—É—â–µ–µ ‚Äì —Å–≤—è–∑–∞–Ω–æ —Å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å –≤ ¬´–ò–Ω–¥–∏—é –î—É—Ö–∞¬ª –∏ –æ–±—Ä–µ—Å—Ç–∏ ¬´—à–µ—Å—Ç–æ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–欪. –ü–æ—ç—Ç —Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—à–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –≤ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–®–µ—Å—Ç–æ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–欪: ¬´–¢–∞–∫ –≤–µ–∫ –∑–∞ –≤–µ–∫–æ–º ‚Äì —Å–∫–æ—Ä–æ –ª–∏, –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å? ‚Äì / –ü–æ–¥ —Å–∫–∞–ª—å–ø–µ–ª–µ–º –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –∏ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ / –ö—Ä–∏—á–∏—Ç –Ω–∞—à –¥—É—Ö, –∏–∑–Ω–µ–º–æ–≥–∞–µ—Ç –ø–ª–æ—Ç—å, / –Ý–æ–∂–¥–∞—è –æ—Ä–≥–∞–Ω –¥–ª—è —à–µ—Å—Ç–æ–≥–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞¬ª.
Безусловно, отношения Н.С. Гумилева с Временем были индивидуально-мистические, что, впрочем, вполне в духе эстетики Серебряного Века. «Не прикован я к нашему веку, если вижу сквозь бездну времен», – писал он.
–í–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –±—ã–ª –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ ‚Äì —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–≥–æ, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏–≤–æ–≥–æ –∏ —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ, –∏ –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω –Ω–µ –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–ª –µ–≥–æ –≤ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã—Ö –æ–±—Ä–∞–∑–∞—Ö, –Ω–∞ —Ç–æ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ã. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –≤ —ç—Ç–æ–º –±—ã–ª —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–π —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–º—ã—Å–µ–ª ‚Äì –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏—Ç—å —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –ø–æ—Å—Ç—Ñ–∞–∫—Ç—É–º, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫–æ–µ –∑–∞–ø–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ, –æ —á–µ–º –ø–∏—Å–∞–ª–∞ –ê.–ê. –ê—Ö–º–∞—Ç–æ–≤–∞, –∞ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Ç–æ–º—É –±—ã–ª–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –∏–Ω–∞—è –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–∞—è –Ω–µ —Å –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞, –∞ —Å –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –∏–Ω–æ–π –µ–≥–æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è—é—â–µ–π –µ–º—É –ø—Ä–∞–≤–¥–∏–≤–æ –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏—Ç—å —Å–≤–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ú–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –ø–æ—ç—Ç —Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑–±–µ–≥–∞–ª –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—Ç—å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º, –∞ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ –¥—Ä—É–≥–∏–º —Ç–µ–º–∞–º ‚Äì –¥—Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è–º. –ü–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ –≤ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ –Ω–µ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å, –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã, –∏–∑–±–µ–≥–∞—è —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞ –æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ –∏ –æ–ø–∞—Å–∞—è—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∑–∞ —ç—Ç–æ —Ä–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏–π —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∞–º–∏.
Как бы то ни было, но философская суть Времени интересовала поэта, хотя он задумывался не столько о его быстротечности, сколько о невозможности обретения истинного знания в материальном мире. Он больше печалился не о том, что жизнь проходит, а о «слепых блужданиях души» и писал о том времени, когда он станет «странно знающим». Ни оттенка печали не возникает у поэта при мысли о конце пути, скорее, это осознанная мудрость и философское приятие сути Времени, его хода, его неостановимости.
Есть поэты, которые при мысли о вечности приходят в смятение и трепет, впадают в уныние и отчаяние, испытывают негодование и даже злость – но ничего подобного мы не находим у Н.С. Гумилева, его философия времени на редкость гармонична: «Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя». Безусловно, «дорога к солнцу от червя» – это образное выражение эволюционного пути человека, попытка достойно пройти его от «инфузории, догадавшейся о беспредельности» (выражение А.А. Блока) до состояния зрелой души.
Та же мысль, связанная с осмыслением тайны времени, высказана поэтом в стихотворении «Я верил, я думал…»: «Летящей горою за мною несется Вчера, / А Завтра меня впереди ожидает, как бездна…». Обратим внимание на образ бездны, который так характерен для поэзии Серебряного Века. Видимо, характер эпохи, в которой им пришлось жить, связанный с чудовищной ломкой всех основ бытия, определил этот устойчивый образ. Действительность казалась им ирреальной, отражающей ужасы той самой бездны, ее бездонность и неотвратимость в их судьбах. Она требовала все новых и новых жертв. «Сколько ни старайся, бездну не наполнить», – говорил китайский мудрец И-Цзин [12, с. 245].
В этом стихотворении поэт, осознавая свой талант и невольно проводя параллель с упомянутыми им Гете, Байроном, восклицал: «И если я волей себе покоряю людей, / И если слетает ко мне по ночам вдохновенье, / И если я ведаю тайны – поэт, чародей, / Властитель вселенной – тем будет страшнее паденье…». Это – та же мысль о «весах равновесья», но высказанная другими словами. Его «посвященное небу сердце» чувствовало правду жизни и правду времени, скрытую от глаз многих. Безусловно и то, что поэт задумывался о грядущем: «Иногда я бываю печален, / Я, забытый, покинутый бог, / Созидающий в груде развалин / Старых храмов – грядущий чертог».
Значит, все-таки грусть была, но не всепоглощающая, скорее, временная, мимолетная. Она возникала тогда, когда он задумывался о грядущем и писал: «Но, быть может, подумают внуки, / Как орлята, тоскуя в гнезде: / «Где теперь эти крепкие руки, / Эти души горящие – где?» В другом стихотворении («Пиза») поэт говорит о времени с не меньшей горечью: «Все проходит, как тень, но время / Остается, как прежде, мстящим…». Здесь интересен эпитет – мстящее время, почему оно мстящее, догадаться несложно – хотя потому, что оно неумолимо-неостановимо. И трудно человеку понять, то ли это время проходит, то ли он проходит по времени, ведь человек стареет, а время вечно, он уходит, а время остается. И в такие минуты, вероятно, поэту становилось грустно, и его легко понять. Успокоение душа может найти в мудрой гумилевской строфе: «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, / А жизнь людей мгновенная и убога, / Но все в себя вмещает человек, / Который любит мир и верит в Бога».
В стихотворении «Пятистопные ямбы» мы находим одно удивительное признание: «И счастием душа обожжена / С тех самых пор; веселием полна, / И ясностью и мудростью, о Боге / Со звездами беседует она…».
От солнца осени – к солнцу духа
Можно ли говорить о пейзаже Гумилева Н.С.? Можно, с тем лишь условием, что его пейзаж – это картина самостоятельная и самодостаточная. «То лето было грозами полно, / Жарой и духотою небывалой, / Такой, что сразу делалось темно / И сердце биться вдруг переставало, / В полях колосья сыпали зерно, / И солнце даже в полдень было ало…». И от любой пейзажной картинки поэт мог легко перекинуть мостик к серьезным выводам, где любой объект природы приобретал глубокий и неожиданный смысл. Так в стихотворении «Солнце духа» поэт словно делится сокровенным: «Чувствую, что скоро осень будет, / Солнечные кончатся труды / И от древа духа снимут люди / Золотые, зрелые плоды». Понятно, что поэт имел в виду осень не биологическую, но символически-духовную, и в этой параллели видел прямую связь природного сбора урожая плодов и сбора плодов зрелого духа. Да, поэт перекидывал мостик от материи к духу, и это уже свидетельство масштабности мышления, подлинного космизма. Впоследствии «солнце духа» вновь вспыхнет на страницах лирики Гумилева Н.С., например, в стихотворении «Снова море»: «Солнце духа, ах, беззакатно, не земле его побороть…».
–¢–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞ –ù.–°. —ç–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ, –º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å, –æ–±–æ–≥–∞—â–∞–ª–æ—Å—å, –≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ –∂–∏–∑–Ω–∏, –ø–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –∑–Ω–∞–Ω–∏–π, –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏–∏ –æ–ø—ã—Ç–∞ –æ–Ω –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –≤—Å–µ –Ω–æ–≤—ã–µ –∏ –Ω–æ–≤—ã–µ –≥—Ä–∞–Ω–∏ –±—ã—Ç–∏—è. –°–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö –∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏–≤—ã–µ –Ω–æ—Ç—ã, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –∫–∞—Å–∞—é—â–∏–µ—Å—è —Ç–µ–º—ã —Å–º–µ—Ä—Ç–∏. –° –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –ø–æ—ç—Ç –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª ¬´–∫—Ä—É–≥–æ–≤–æ—Ä–æ—Ǭª –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∂–∏–≤–æ–π –¥—É—à–∏, —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤ —ç—Ç–æ–º, –ø—Ä–∏—á–µ–º, –≤ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Å—É—Ä–æ–≤–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ. –í —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–∏ ¬´–ü–∞–º—è—Ǘ嬪 —É –Ω–µ–≥–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∞—è —Å—Ç—Ä–æ—Ñ–∞: ¬´–ü–∞–º—è—Ç—å, —Ç—ã —Ä—É–∫–æ—é –≤–µ–ª–∏–∫–∞–Ω—à–∏ / –ñ–∏–∑–Ω—å –≤–µ–¥–µ—à—å, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥ —É–∑–¥—Ü—ã –∫–æ–Ω—è, / –¢—ã —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—à—å –º–Ω–µ –æ —Ç–µ—Ö, —á—Ç–æ —Ä–∞–Ω—å—à–µ / –í —ç—Ç–æ–º —Ç–µ–ª–µ –∂–∏–ª–∏ –¥–æ –º–µ–Ω—è¬ª, –≥–¥–µ –∑–≤—É—á–∏—Ç –º–æ—Ç–∏–≤ —Ä–µ–∏–Ω–∫–∞—Ä–Ω–∞—Ü–∏–∏. –ò —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ—ç—Ç —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏–ª —Å–µ–±–µ: ¬´–ö—Ä–∏–∫–Ω—É–ª —è‚Ķ –ù–æ —Ä–∞–∑–≤–µ –∫—Ç–æ –ø–æ–º–æ–∂–µ—Ç, / –ß—Ç–æ–± –º–æ—è –¥—É—à–∞ –Ω–µ —É–º–µ—Ä–ª–∞? / –¢–æ–ª—å–∫–æ –∑–º–µ–∏ —Å–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞—é—Ç –∫–æ–∂–∏, / –ú—ã –º–µ–Ω—è–µ–º –¥—É—à–∏, –Ω–µ —Ç–µ–ª–∞¬ª. –í–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —ç—Ç–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏—è –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –æ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–º –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ–º –ø—É—Ç–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–æ—à–µ–ª –ø–æ—ç—Ç –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –Ω–∞—Ç—É—Ä—Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö, –æ —á–µ–º —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É—é—Ç –Ω–∞–º –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –Ω–∞ –¥–∞–Ω–Ω—É—é —Ç–µ–º—É, –∫–∞–∫, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ ¬´–î—É—à–∞ –∏ —Ç–µ–ª–欪, –≥–¥–µ –æ–Ω –∑–∞–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä—è–º—ã–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –æ –ø–µ—Ä–≤–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥—É—Ö–∞ –∏ –≤—Ç–æ—Ä–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∏ –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ. –û–Ω, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π ¬´—Å–∫—É–¥–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–∞¬ª, –∏ –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –æ—â—É—â–∞–ª, —á—Ç–æ –¥—É—à–∞ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Ü–µ–ø—å—é –ø—Ä–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∞ –∫ —Ç–µ–ª—É. –≠—Ç–æ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ ‚Äì —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–π —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –î—É—à–∏ –∏ –¢–µ–ª–∞, –≥–¥–µ –î—É—à–∞ ‚Äì –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏—Ü–∞ –≤ ¬´–º–µ—Ä—Ü–∞—é—â–µ–º –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç–Ω–æ–º —Ö–æ—Ä–µ¬ª, —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–∞—è –∏ –≤–æ–ª—å–Ω–∞—è; –∏ –¢–µ–ª–æ ‚Äì –µ–µ¬Ý –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—â–µ, —Å–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—é—â–µ–µ –µ–µ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ —É—Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–∏—è. –ù–æ –µ–º—É –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã –ª—é–±–æ–≤—å –∏ –∑–µ–º–Ω—ã–µ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –∏ –ø–ª–æ—Ö–∏: ¬´–õ—é–±–ª—é –≤ —Å–æ–ª–µ–Ω–æ–π –ø–ª–µ—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ–ª–Ω–µ, / –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –∫ –∫—Ä–∏–∫–∞–º —è—Å—Ç—Ä–µ–±–∏–Ω—ã–º, / –õ—é–±–ª—é –Ω–∞ –Ω–µ–æ–±—ä–µ–∑–∂–µ–Ω–Ω–æ–º –∫–æ–Ω–µ / –ù–µ—Å—Ç–∏—Å—å –ø–æ –ª—É–≥—É, –ø–∞—Ö–Ω—É—â–µ–º—É —Ç–º–∏–Ω–æ–º‚Ķ¬ª, ‚Äì —ç—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –¢–µ–ª–æ.
Сложнейшие философские вопросы, называемые вечными, в творчестве Н.С. Гумилева обретали образно-пластичные формы, и он задавался ими вновь и вновь, и Н.С. Гумилев – один из немногих русских поэтов, кому дано было услышать неслышимое. «Когда же слово Бога с высоты / Большой Медведицею заблестело, / С вопросом: «Кто же, вопрошатель, ты?», – восклицал он и, не боясь, отвечал «дерзостным ответом», ибо он осознавал себя единым целым, Божьим существом, который «словно древо Игдразиль, пророс главою семью семь вселенных».
Когда-то Вячеслав Иванов написал о Н.С. Гумилеве: «Среди образов, объединявших поэзию Гумилева и его непосредственных предшественников – символистов, особенно заметны астральные, космические – звезды, планеты и их «сад» (иногда «зоологический» – сад «небесных зверей», как они названы в прозе Гумилева), Млечный Путь, кометы то и дело возникают в его стихах». [8, с. 5]. В самом деле, стихи Н.С. Гумилева поражают обилием «космических» образов, в стихотворении «Память» он писал: «И тогда повеет ветер странный / И прольется с неба страшный свет, / Это Млечный Путь расцвел нежданно / Садом ослепительных комет». В другом стихотворении поэт заметил: «Я чувствую огромные моря, / Колеблемые лунным притяжением, / И сонмы звезд, что движутся, горя, / От века предназначенным движением».
Поэт коснулся этой темы и в статье «Наследие символизма и акмеизм», где высказал сожаление о недосягаемости и недостижимости далеких миров: «Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе» [8, с. 412]. Конечно, это было время, когда ни о какой космической эре еще не было и речи, хотя о ней уже писал в своих трудах К.Э. Циолковский, и до нее оставалось всего лишь чуть более сорока лет. Все же общественное сознание еще не было готовым принять саму мысль об освоении космического пространства как реальную. И только творческие, пытливые умы рисовали в своем воображении фантастически прекрасные картины.
–í —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ, ¬´–∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ¬ª –æ–±—Ä–∞–∑—ã ‚Äì —á–∞—Å—Ç—ã–µ –≥–æ—Å—Ç–∏ –≤ –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞, —ç—Ç–æ –∑–≤–µ–∑–¥—ã –∏ –∫–æ–º–µ—Ç—ã, —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –∏ –º–µ—Ç–µ–æ—Ä—ã, ¬´–¥–∞–ª–µ–∫–∞—è –∑–≤–µ–∑–¥–∞ –í–µ–Ω–µ—Ä–∞¬ª –∏ –¥–∞–∂–µ ¬´–∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –º–∞—Ä—Å–∏–∞–Ω¬ª. –≠—Ç–∏ –æ–±—Ä–∞–∑—ã –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–ª–∏ –∏ –≤ –µ–≥–æ –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–∏, –∞–≤—Ç–æ–±–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–∏, –ø—É—Ç–µ–≤—ã–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∫–∏. –í ¬´–ê—Ñ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–º –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–µ¬ª —á–∏—Ç–∞–µ–º: ¬´–ù–æ—á—å –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —á—É–¥–µ—Å–Ω–∞—è –∏ –∑–ª–æ–≤–µ—â–∞. –Æ–∂–Ω—ã–π –ö—Ä–µ—Å—Ç –∫–∞–∫-—Ç–æ –±–æ–∫–æ–º –≤–∏—Å–∏—Ç –Ω–∞ –Ω–µ–±–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–∏–≤–Ω–æ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å—é, –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç–æ –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç–æ–π —Ä–æ—Å—Å—ã–ø—å—é –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –±–µ—Å—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–≤–µ–∑–¥¬ª [6, —Å. 58]. –í ¬´–ó–∞–ø–∏—Å–∫–∞—Ö –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏—Å—Ç–∞¬ª, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã, –¥–∞–ª–µ–∫–∏—Ö –æ—Ç —ç—Ç–æ–π —Ç–µ–º—É, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É¬Ý –æ–Ω–∏ –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—é—Ç –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –±—É–¥–Ω–∏, –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –≤—Ä–µ–º—è –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –Ω–æ—á–Ω–æ–µ –Ω–µ–±–æ –∏ –ø–æ—Ä–∞–∑–∏—Ç—å—Å—è –µ–≥–æ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ–π –∏ –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ–º. –û–Ω –ø–∏—Å–∞–ª: ¬´–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ª–µ—Å—É –Ω–∞ –≤—Å—é –Ω–æ—á—å. –¢–æ–≥–¥–∞, –ª–µ–∂–∞ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ, —è —á–∞—Å–∞–º–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –±–µ—Å—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ, —è—Å–Ω—ã–µ –æ—Ç –º–æ—Ä–æ–∑–∞, –∑–≤–µ–∑–¥—ã –∏ –∑–∞–±–∞–≤–ª—è–ª—Å—è, —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—è –∏—Ö –≤ –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã–º–∏ –Ω–∏—Ç—è–º–∏. –°–ø–µ—Ä–≤–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Ä—è–¥ –≥–µ–æ–º–µ—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —á–µ—Ä—Ç–µ–∂–µ–π, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ —Å–≤–∏—Ç–æ –ö–∞–±–∞–ª—ã. –ü–æ—Ç–æ–º —è –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –∑–∞—Ç–∫–∞–Ω–Ω–æ–º –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º –∫–æ–≤—Ä–µ, —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ —ç–º–±–ª–µ–º—ã, –º–µ—á–∏, –∫—Ä–µ—Å—Ç—ã, —á–∞—à–∏ –≤ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã—Ö –¥–ª—è –º–µ–Ω—è, –Ω–æ –ø–æ–ª–Ω—ã—Ö –Ω–µ—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞ —Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏—è—Ö. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —è–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã—Ä–∏—Å–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ–±–µ—Å–Ω—ã–µ –∑–≤–µ—Ä–∏. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ë–æ–ª—å—à–∞—è –ú–µ–¥–≤–µ–¥–∏—Ü–∞, –æ–ø—É—Å—Ç–∏–≤ –º–æ—Ä–¥—É, –ø—Ä–∏–Ω—é—Ö–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∫ —á—å–µ–º—É-—Ç–æ —Å–ª–µ–¥—É, –∫–∞–∫ –°–∫–æ—Ä–ø–∏–æ–Ω —à–µ–≤–µ–ª–∏—Ç —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–º, –∏—â–∞, –∫–æ–≥–æ –µ–º—É —É–∂–∞–ª–∏—Ç—å. –ù–∞ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –º–µ–Ω—è –æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –Ω–µ–≤—ã—Ä–∞–∑–∏–º—ã–π —Å—Ç—Ä–∞—Ö, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç –≤–Ω–∏–∑ –∏ –∑–∞–º–µ—Ç—è—Ç —Ç–∞–º –Ω–∞—à—É –∑–µ–º–ª—é. –í–µ–¥—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç—Å—è –≤ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∫—É—Å–æ–∫ –º–∞—Ç–æ–≤–æ –±–µ–ª–æ–≥–æ –ª—å–¥–∞ –∏ –ø–æ–ª–µ—Ç–∏—Ç –≤–Ω–µ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –æ—Ä–±–∏—Ç, –∑–∞—Ä–∞–∂–∞—è —Å–≤–æ–∏–º —É–∂–∞—Å–æ–º –¥—Ä—É–≥–∏–µ –º–∏—ė㬪 [6, —Å. 110 ‚Äì 111] .
–ß—É–≤—Å—Ç–≤—É—è —Å–µ–±—è ¬´–ø–æ—ç—Ç–æ–º, —á–∞—Ä–æ–¥–µ–µ–º¬ª, –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞—è—Å—å –∫ —Ç–∞–π–Ω–∞–º –±—ã—Ç–∏—è, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –ø–æ—ç—Ç –∏ –≤–ø—Ä—è–º—å —Å—É–º–µ–ª –Ω–∞–π—Ç–∏ —ç—Ç–∏ –ø—É—Ç–∏ ¬´–∫ —Å–æ–ª–Ω—Ü—É –æ—Ç —á–µ—Ä–≤—謪 –∏ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω—É—Ç—å –≤ –∑–∞–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ–µ. –°–ª–æ–≤–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–∏–µ —Å–≤—ã—à–µ –ø—Ä–æ–∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –µ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞ –≤ ¬´–ü–æ—ç–º–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞¬ª: ¬´–ü–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ —É—Å—Ç–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ / –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ—Å–º–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –¥–Ω–µ–º, / –Ý–∞–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –æ—Ç –≤–µ–∫–∞ / –ó–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ: –û–º!¬ª
Ом – как известно, трансцендентальный звук, первый звук сотворения Вселенной, это важнейшее понятие философии индуизма, представляющее собой «мистически священный слог ОМ, сохраняющий в глазах верующих свою магическую двойственность» [9, с. 59]. Это сакральное слово индуизма, обозначающее Всевышнего, «слог ом – тождественен Брахману» [3, с. 403].
Натурфилософия Н.С. Гумилева обрела не просто мощь и великолепие мастерства, но высочайшую силу звучания и поистине сакральный смысл: «И звенело болью мгновенной, / Тонким воздухом и огнем; / Сотрясало тело вселенной / Заповедное слово Ом». Кажется, в этой поэме «о рожденье, преображенье и конце первозданных сил» он выразил великую мудрость мира безукоризненным поэтическим языком. И созданный поэтом мир «из песен и огня», «из звезд и песен дом» кажется не менее реалистичным, чем окружающий нас мир – земной, вселенский, космический.
Масштаб его видения расширялся, духовные поиски становились все более зрелыми, но удивительно, что при этом его мысль устремлялась ввысь. Он и сам это понимал, когда писал: «С протянутыми руками, / С душой, где звезды зажглись, / Идут святыми путями / Избранники духа ввысь». Он сам был таким «избранником духа», идущим ввысь. И там, куда устремлял свой взор поэт – в этой непостижимой выси, – умел он разглядеть нечто, находящееся за гранью… ада и рая. Он писал: «За стенами рая новый сад, лучший сад мы с тобою отыщем».
Это уже надмирье, надзвездный мир, «всебытие», по словам поэта. Может быть, он и впрямь чувствовал себя «рыцарем счастья», готовым поделиться своим счастьем с каждым, не понимающим этого. Он словно открывался в запространственную даль, и только там его дух чувствовал себя свободным. В статье «Наследие символизма» Н.С. Гумилев писал: «Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства» [8, с. 412].
То он видел «флаг неземного корабля», то замечал, как «рванулся в простор» метеор, то открывал, что «в этом мире есть большие звезды», то зрил, как прорезает тьму «златая комета». А то, подобно молодому францисканцу, герою своего стихотворения, он ощущал, что знает преданья «о страшных влияньях могучих планет, о тайнах всего мирозданья».
В другом стихотворении («Сентиментальное путешествие») он писал: «Ты поймешь, что странного нет / И печального тоже нет, / И в душе твоей вспыхнет свет / Самых вольных Божьих планет…». В стихотворении «О. Н. Арбениной» появится строка о том, что «ничего в грядущем, кроме звезд». А в стихотворении «Сахара» и вовсе удивительная строка: «И когда наконец корабли марсиан у земного окажутся шара…». Наконец, эти образы нашли отражение в стихотворении «На далекой звезде Венере…»: «На далекой звезде Венере / Солнце пламенней и золотистей, / На Венере, ах, на Венере / У деревьев синие листья…».
Масштаб мышления поэта расширялся, обретая новые горизонты, космизм становился все более зрелым, и в «Поэме начала» он, кажется, уже прикасался к неприкасаемым тайнам. Почему неприкасаемым? Вспомним строки, когда-то сказанные им о человеке и XIX веке: «Трагикомедией – названьем «Человек» – / Был девятнадцатый смешной и страшный век, / Век, страшный потому, что в полном цвете силы / Смотрел он на небо, как смотрят в глубь могилы, / И потому смешной, что думал он найти / В недостижимое доступные пути…». И у него вырывались строки на грани пророчества: «А ночью в небе древнем и высоком / Я вижу записи судеб моих…», потому что он лучше многих понимал недоступность для земного человека этих небесных тайн.
–õ–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞:
- Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) // Вопросы философии, 2011, № 11. С. 37 – 47.
- Белинский В.Г. О русских классиках. – М.: Художественная литература, 1978. – 525 с.
- Бхагават-Гита, как она есть. – Москва–Ленинград–Калькутта–Бомбей–Нью-Дели: Бхактиведанта Бук Траст, 1992. – 832 с.
- Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи / Сост. и автор вступ. ст. Д.И. Золотницкий. – М.: Искусство, Ленинградское отделение, 1990. – 404 с. (Библиотека русской драматургии).
- Гумилев Н.С. Избранное / Сост., вступ. ст., коммент., лит.-биогр. хроника И.А. Панкеева. – М.: Просвещение, 1991. – 383 с. (Библиотека словесника).
- –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –ù.–°. –í –æ–≥–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º —Å—Ç–æ–ª–ø–µ / –í—Å—Ç—É–ø. —Å—Ç., —Å–æ—Å—Ç., –ª–∏—Ç.-–∏—Å—Ç. –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç. –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ–π —É–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å –í.–õ. –ü–æ–ª—É—à–∏–Ω–∞. ‚Äì –ú.: –°–æ–≤. –Ý–æ—Å—Å–∏—è, 1991. ‚Äì 416 —Å. (–Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–∏).
- –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –ù.–°. –ö–æ—Å—Ç–µ—Ä. –°—Ç–∏—Ö–∏. ‚Äì –°.-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥: –ì–∏–ø–µ—Ä–±–æ—Ä–µ–π, 1918. ‚Äì –ú.: –ö–Ω–∏–≥–∞, 1989. ‚Äì 48 —Å. (–Ý–µ–ø—Ä–∏–Ω—Ç–Ω–æ–µ –≤–æ—Å–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏—è 1918 –≥–æ–¥–∞).
- Гумилев Н.С. Стихи. Письма о русской поэзии / Вступ. ст. Вяч. Иванова. Сост., науч. подгот. текста, послесл. Н. Богомолова. – М.: Художественная литература, 1989. – 447 с. (Забытая книга).
- –î—Ä–µ–≤–æ –∏–Ω–¥—É–∏–∑–º–∞. –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –∏ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è. ‚Äì –ú.: ¬´–í–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–∞—è –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞¬ª –Ý–ê–ù, 1999. ‚Äì 559 —Å. (–ö—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞).
- –ô–æ–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ú–∏–ª–æ–≤–æ–µ. –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ì—É–º–∏–ª–µ–≤ –∏ –º–∞—Å–æ–Ω—Å–∫–æ–µ —É—á–µ–Ω–∏–µ. –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –Ω–∞—É—á–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ 17-19 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1991 –≥., –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥. http://gumilev.ru/about/21/
- Моэм С. Луна и грош. Театр. Пер с англ. Н. Ман и Г. Островской / Илл. А.Т. Яковлева. – М.: Правда, 1982. – 432 с.
- Мудрость Древнего Китая / Сост. А.Н. Зиневич. – СПб: Паритет, 2008. – 352 с.
- –Ý–∞—Å–∫–∏–Ω–∞ –ï.–Æ. –ì–µ–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–µ –∞—Å–ø–µ–∫—Ç—ã —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –ù.–°. –ì—É–º–∏–ª–µ–≤–∞: –ê–≤—Ç–æ—Ä–µ—Ñ. –¥–∏—Å. ‚Ķ –¥-—Ä–∞ —Ñ–∏–ª–æ–ª. –Ω–∞—É–∫. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≥—É–º–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç –∏–º–µ–Ω–∏ –ï.–Ý. –î–∞—à–∫–æ–≤–æ–π, 2009.
- Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, Г. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
- –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–π —Ä–µ—Å—É—Ä—Å. URL: http://russlitxx.narod.ru/xrongumilev.html (–¥–∞—Ç–∞ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è:17.12.2013).
























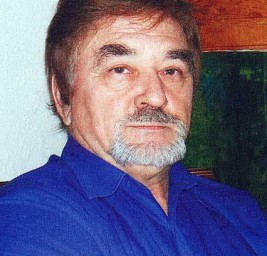






–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô