Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Александр Балтин. «Новогодняя ёлка, как ретроспекция жизни». Рассказ
- Елена Сомова. «Выравнивание вирусами». Философское эссе
- Путеводитель по краю листа
- Евгений Хохряков. «История с лопухами». Рассказ
- Елена Сомова. «Пришелец». Рассказ
Соломон Воложин. «Павленский не художник»
26.05.2017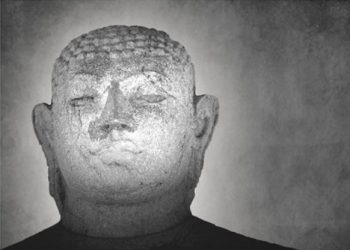
Я исхожу из замечательных слов Поршнева, непризнанного гения: «Если ты хочешь понять что-либо, узнай, как оно возникло».
Поршнев – учёный, с именем которого, для меня, во всяком случае, связана идея одновременности происхождения человека и искусства.
А всё при таком происхождении синкретично. И уже эта мысль вредит моему намерению показать, что перформанс – не искусство. Ибо я перформанс понимаю как жизнь (не условность), а искусство (условность) – не как жизнь. Так вот синкретичность жизнь с условностью сливает воедино. И как тогда мне оспаривать, что перформанс – не искусство? Ведь всё развивается диалектически: тезис – антитезис – синтез. То есть налицо некая повторяемость: в синтезе есть сколько-то тезиса. То есть синкретичность сменяется раздельностью, а потом раздельность должна вернуться к синкретичности, и – перформанс, мол, станет и жизнью, и искусством. И как доказать, что я прав?
Ну, наверно, надо предложить считать человечество находящимся на второй стадии (первая – предчеловеческая, с невыделением личного из общего, а третья – возвращение к слиянию личного и общего, коммунизм). И надо предложить считать сентенцию «перформанс – не искусство» верной для второй стадии развития гомо сапиенса. Нашей стадии.
Стоит осознать, каким было первое произведение искусства. Это были давностью 130.000 лет ожерелье из ракушек.
Из ряда вон выходящим было одной особи просверлить маленькую дырочку в неплоской, как часть сферы, ракушке (чтоб она не треснула). Из ряда опять вон выходящим было другой особи сделать то же самое с другою ракушкой. И то же – с третьей особью и третьей ракушкой. И так далее. И совсем уж из ряда вон было продеть жилку через все просверленные ракушки и надеть получившееся на шею.
В стаде, состоявшем из шерстистых внушателей и бесшёрстых внушаемых, рождавшихся такими вследствие наследственной недоношенности (такова теория антропогенеза по Поршневу), внушатель впадал в ступор от такого сюрприза со стороны внушаемых. И бесшёрстная самка могла избегнуть в этот раз отдать внушателю своего ребёнка для съедения стадом. Для того, собственно, самки и делали ожерелье.
Почему внушатели позволяли такое делать? – До них не доходили последствия этого действа. Это ж не было прямым неподчинением (жизнью). Это была не жизнь для них, внушателей, нечто, недостойное их внимания. И внушатели не реагировали.
А для внушаемых это была не только не жизнь, но и жизнь, ибо это обещало стать способом попробовать группе самок не отдать ребёнка одной из них на съедение стаду. Когда не отдать, вообще говоря, нельзя. Стадо – превыше всего. Внушатели, стадо возглавляющие, превыше всего. – Душераздирающее состояние! Оттого и из ряда вон выходящее поведение (и особенно результат этого поведения, ожерелье).
Но внушаемые стали это делать регулярно и вообще удрали от внушателей. Стали людьми. А условность полностью отделилась от жизни. Но сохранилась, как полезность.
В чём полезность? – В желании испытать свою сущность, теперь уже человеческую. Испытать то, например, как стали людьми (ведь жить вне стада – это смерть, казалось бы).
Запомнилось то, что условность как таковая не дала сойти с ума от раздрая: отдать – не отдать ребёнка на съедение стаду, когда и самому достанется. Животные (все) от раздрая получают невроз и погибают в быстром итоге. А эти – нет. Сто`ит такое, условное, повторять. Мало ли какие раздраи ещё ждут.
Например, удрав от внушателей, надо наново сорганизоваться, создать вожаков. А те уже знают, что есть способ не подчиняться интересам стаи – условность. Они её запрещают. И карают за нарушение: рубят фалангу пальца за каждое нарушение. И есть свидетельства: оттиски ладоней на мягкой глине (за тысячи лет затвердевшей и дошедшей до наших дней) с отрубленными одной или несколькими фалангами пальца. Причём оттиски такие находят в тёмных метах пещер. Человек знал, что оттиск оставлять нельзя, но хотелось. Так он это прятал от власти. Но не от общественности. Другие могли пойти найти запрещённое и посмотреть, и посочувствовать.
Так это – вполне себе условность. И – искусство. Потому что делалось это непроизвольно. Под влиянием, — говорю экстремистский я, — не сознания, а подсознания. Искусство неприкладное притом. Если б было прикладным (для усиления переживания знаемого и не запрещаемого), оно б являлось по инициативе сознания. (Я думаю, что синкретизм неприкладного и прикладного искусств, просматривающийся в ожерелье, долго ли, коротко ли – разрушился.)
Что за раздрай имели в виду оттиски ладоней? – Не знаем. Можем догадаться про раздрай, породивший пещерную живопись и Венер палеолита. И одно и другое делали отроки, которым не разрешали идти на охоту и обладать женщиной. Одно тоже пряталось в тёмных далях пещер, другое – в кулаке. Ну и, возможно, нравы уже смягчились, и не отрубали теперь фалангу пальца за художество. Но всё же приходилось прятать его. И оно касалось сокровенного. Потом и прятание прекратилось, но причастность сокровенному осталась навсегда. – Ну а за условность чего уж жестоко карать? Условность же, не жизнь. Раздрай вошёл в рамки. Характеристика «обязательно из ряда вон» – тоже.
И так жили тысячелетиями. Пока не наступило время совсем плохого капитализма (он не всегда имел на флаге «Потребительское Общество») и полного отчаяния от попыток этот капитализм свергнуть. А тут ещё и кризис религии наступил из-за успехов науки. Рубеж XIX-XX веков. А для кого-то значимым стал и кризис классической науки и позитивизма. – Пошли рывки вон за пределы неприкладного искусства.
Но коммунизм-то не наступил. Поэтому имеет смысл обозначить границы неприкладного искусства для такого периода. Я для себя избрал формулу Натева из книги «Искусство и общество» (1966): непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества.
Эту формулу я выделил из всех остальных. В ней есть слово «испытание». И сколько у вообще искусства со временем ни развелось функций (а их теперь очень много: познавательная, компенсаторная, воспитательная, усиливающая переживание и т.д. и т.п.), только у неприкладного искусства есть в числе прочих испытательная. Больше её нет ни у кого! И она связана с одним нюансом, появившимся при рождении искусства.
Помните, я говорил об из ряда вон выходящем? Так оно предполагает наличие из ряда вон НЕ выходящее. НЕ выходящее соотносится с обычным поведением внушаемой особи, отдающей во благо стада своего ребёнка на съедение. А ДА выходящее – нежелание отдавать. И происходит дразнение переживаний. То, что Натев называет испытанием сокровенного. Дразнение совпадает и с психологическим открытием Выготского о художественности: она есть дразнение противочувствиями (о дальнейшем в этой формуле можно не говорить).
Натев единственный учёный, обративший внимание на такую исключительность неприкладного искусства. Вот я его формулу и взял за основу.
Упомянутые рывки вон пошли относительно каждого слова формулы.
Принуждающее (как жизнь – вместо непринуждённого) – это авангардизм. Сделать так, чтоб организму человеческому стало нехорошо, когда так в пределах условности не ожидал (режущие ухо звуки, режущие глаз цвета, линии, режущие ум сочетания изображённого). Слишком-де нехороша действительность (или капиталистическая, или слабореволюционная, или лжесоциалистическая).
Но тут проглядывает дидактика, дескать, хорошо – более совершенное человечество.
Тогда – новое нападение, на иное слово формулы.
Опосредованное (вместо непосредственного) – это концептуализм (неоавангардизм).
О 15-минутных интервалах говорится на одном сайте. Возможно, об этом и написано в сопроводиловке, висящей рядом на стене в раме, как и сами фотографии. Имеется в виду, не таяние снега, а… Думайте. – Поскольку в одном месте в связи с Хюблером говорится об «обширном чтении азиатской философии», можно думать, что идеалом Хюблера является буддизм, и вот Хюблер выражает выпадение из действительности.
Так сам буддизм возник у Гуатамы в результате сильнейшего разочарования в том, что есть, мол, на свете бедность, болезни и смерть. Так что Хюблер, по крайней мере, не избежал цели совершенствования человечества (невозможность прекратить войну США во Вьетнаме и пронять вещистское большинство издевательсвами над ним гиперреализма и поп-арта – это большинство всё превращает в потребительскую ценность – чем не сила, генерирующая бегство из общества).
Однако текст взят в рамочку, висит рядом с фотографиями. И предполагается (разумно), что без опосредования (освоения текста) зритель не дойдёт до сопереживания чему-то вроде отключения ото всего.
Но! Граница искусства перейдена!
Когда не перейдена, тот же буддизм возбуждается непосредственно, через чувства (невидения вовне, презрения к внешнему и мн. др.), которые ассоциируются в воображении зрителя при взгляде на эти безразличные глаза и скривленные губы.
Ну пусть Хюблер предал так называемое концептуальное искусство: иной человек и без текста-подсказаки сообразит, что сфотографирована именно Продолжительность (раз снег растаял), и это наведёт зрителя на что-то буддистское. За что и отлучает Хюблера от концептуализма его теоретик Джозеф Кошут:
«Дуглас Хюблер… использует… искусствоподобную форму презентации (фотографии…)… у Хюблера (ему сейчас далеко за сорок — он значительно старше, чем большинство рассматриваемых здесь художников) нет тех целей и задач, которые бы сближали его с концептуальным искусством в его наиболее чистой и наиболее распространенной разновидности» (contemporary-artists.ru/art_after_philosophy.html).
Так. Смотрим чистую разновидность.

Сол Левит. 46 вариаций с тремя частями на 3 разных типах кубиков. 1968. Бумага 25.9 x 44.4 см, офсетная чёрно-белая печать.












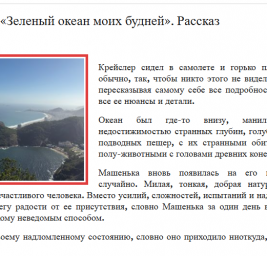


















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ