Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»
- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»
- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы
- «Как на турецкой перестрелке…»
- Николай Бут — «Мир на Земле»
Соломон Воложин. «Ущербность. Чья?»
02.11.2017
Норштейн сумел уловить в рисунках своего мультфильма то, что историки и аналитики так тщетно пытаются определить как «менталитет» русского человека, и именно в послевоенную эпоху
http://www.ljpoisk.ru/archive/321397.html
Я получил такой упрёк, заставивший меня посмотреть не виденную раньше «Сказку сказок» (1979) Норштейна:
«…примеры такой вольной или невольной эстетической слепоты, которая, например, тому же Норштейну позволила в его «Сказке сказок» ничтоже сумняшеся перелицевать русскую народную колыбельную про волчка! Ведь это только на первый взгляд невинный эстетический выверт, а по сути-то глумление над русскими дурами-матерями, которые тысячу лет предостерегают детушек супротив волка, а оный-то якобы на самом деле исключительно добр и толерантно ПРОдвинут вроде нынешних ракет США вокруг России, не так ли? А где бы был сам-то Норштейн и все Ваши соплеменники, если бы русские дети не были воспитаны давать отпор волкам?» (Игорь Семиреченский).
Статью, как видите, я предварил эпиграфом, в чём-то перекликающимся с упрёком. В чём перекличка? – В ограниченности временем. Автор эпиграфа весь на стороне послевоенной эпохи, эпохи перед развалом СССР, автор упрёка весь на стороне путинской эпохи, когда Россия опять сосредоточивается.
А у меня позиция вневременная (за что я и получил упрёк). Для меня важна не верность своему времени, а то, движим ли был автор идеалом подсознательным или осознаваемым. Если осознаваемым – это искусство второго сорта, хоть и дающее эстетическое наслаждение – если в нём есть экстраординарность. Если подсознательным – это искусство первого сорта. Для него (и только для него) я предлагаю применять слово художественность.
Как отчленить одно от другого? – У первосортного по крайней мере я чувствую, что есть ЧТО-ТО, непередаваемое словами. Если помучиться, может озарить. Тогда будут и слова-намёки, зачем автор то и то и то и ещё много что сделал так.
Я мультик посмотрел – явно есть ЧТО-ТО. И слов у меня – нет. Но я надеюсь, появятся по ходу писания. Если честно, у меня за время от смотрения фильма до, вот, писания уже стало что-то брезжить. Одно – точно: «Живём». – Это слово из заявки авторов на создание мультфильма
(тут — http://www.pereplet.ru/avtori/norshteyn.html).
Но тут у меня сразу вопрос к себе на засыпку: а как быть с тем, что едва ли не всё у Норштейна началось со слова «Живём», ведь оно исключает подсознательность идеала? Подсознательность – бессловесна.
Я буду выкручиваться поблажками себе.
Первая – такая. Слово может появиться просто не сразу, а через какое-то время после чего-то с участием подсознания.
Как факт, Норштейн сам признаёт:
«Он жил во мне, этот фильм, задолго до того, как я вообще подумал о том, чтобы заняться режиссурой. У меня есть этюд, живописный этюд, сейчас уже не помню точно, какого года: когда заканчивал художественную школу или чуть позже, когда уже пришел на студию, но этот этюд — вороны на дереве под снегом» (Там же).
Так я себе думаю, не началась ли та ворона ещё с наброска его соученика по художественной школе, Э. Назарова.
Правда, есть что-то похожее на кадр из мультика?
Тут уже есть то, что широко означено в слове «Живём». – Давайте жить дружно! – Как из другого советского мультика.
Намучились в СССР в довоенное и в военное время. Захотелось жить поспокойнее. Мирное сосуществование мелькало тогда по радио и телевидению. На обывательском уровне. А обывателями к тому времени стало уже большинство в стране. (Высоцкий глотку рвал, хотел побудить всех встряхнуться и спасти социализм от вещизма: а Норштейн, видимо, наоборот где-то: не надо хапать, а надо не высовываться.) Идеал Норштейна – мещанского типа. (И он победил, раз перестройка соскользнула в реставрацию капитализма.)
То есть я вполне могу считать «Сказку сказок» рождённой подсознательным идеалом мещанского типа. Типа. В типе много есть видов. Воинствующее мещанство: «Польза мне и побольше»… У Норштейна – ценность жизни маленького человека. Во всех смыслах маленького. От малого возраста до малой значимости в обществе.
Мещанин было почти ругательным словом в СССР, потому что власть, сама будучи мещанами и проводившая политику в интересах мещан как большинства, официально врала, что она за революцию и за гражданскую ответственность масс. Пастернак, в «Докторе Живаго» воспевший Мещанство, получил по шапке. И следующие претенденты имели чуть не разорванное сознание, желая не ссориться с лживой властью и даже её лжи поддаваясь.
В заявке заявлялось:
«…дружба и товарищество стояли превыше всего… Это должен быть фильм с поэтом в главной роли, причем не обязательно поэт появится на экране, может появиться его стихотворение — такое, как «Сказка сказок» Назыма Хикмета» (Там же).
А кто такой Назым Хикмет? – «…турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель. Основоположник турецкой революционной поэзии. Коммунист с 1922 года. Лауреат Международной премии Мира (1950)» (Википедия).
Ого! Имя. Общественный деятель. Подпевание власти, на словах поощряющую гражданскую активность.
Но… Процитировано стихотворение этого поэта, воспевающее мещанство:
«Стоим над водой –
солнце, кошка,
чинара, я
и наша судьба.
Вода прохладная,
Чинара высокая,
Солнце светит,
Кошка дремлет,
Я стихи сочиняю.
Слава Богу, живем!
Блеск воды бьет нам в лица —
Солнцу, кошке, чинаре, мне
И нашей судьбе».
Сюда уже и «живем» прокралось. И это не «по сути-то глумление», как пишет патриот Игорь Семиреченский, а, если и не разорванное сознание, то подсознательное мещанство как идеал. Сознательно Норштейн патриот и гражданин, как Некрасов призывал, а подсознательно мещанин. Как и тот же Некрасов, прекрасный игрок в карты, расчётливо подкупавший цензоров, чтоб пропускали в печать его гражданственные стихотворения, такие же расчётливые и потому не обладающие той художественностью, которую я определил выше, без ЧЕГО-ТО, чему нет слов. Но они были в ходу в революционной обстановке и тоже обогащали Некрасова.
А Норштейн выражал, наоборот, подсознательное.
И для возвеличивания подсознательного мещанства годилась… война. Великая Отечественная. Которой Норштейн был ровесник.
И вы не можете без выступивших слёз смотреть в фильме, как под каждый сбой патефонной иглы на заигранной пластинке у пар, танцующих пошлое танго «Утомлённое солнце», исчезает один парень, и девушка остаётся обнимающей пустоту. Потом вторая, третья… И сквозь их, оставшихся, призраками проходят вдаль одинаковые фигуры в касках, с винтовками с примкнутыми штыками.
Это потрясает и будет потрясать всегда и всех, потому что это рождено из авторского подсознания. Оно не знает, какими словами-образами воспеть мещанство, суть которого антипатриотическая (женщины в глубине души не хотят, чтоб уходили на фронт именно их мужчины). Но вмешивается железная необходимость подчиниться, как патефонной игле – перескочить. Сталкиваются два «хорошо»: хочу и надо. И рождается третье, катарсис, осознаваемый (если озарит, потом когда-нибудь) как воспевание мещанства.
(Мало кому удаётся воспеть идеал мещанского типа. Потому однажды этот мультик был назван лучшим анимационным фильмом всех времен и народов.)
Мне, лишь на 3 года старшему, чем Норштейн, от моей мамы хорошо известно танго «Утомлённое солнце», и я тоже в войну лишился отца. Но так случилось, что я исповедовал в те годы не такой идеал, как Норштейн, а такой, как Высоцкий. И танго это считал пошлятиной. И это помогло, чтоб меня озарило, ЧТО значили мои слёзы в этом месте фильма.
Но художественность, повторяю, не качество идеала (мещанского или гражданственного), а нечто как бы физиологическое в восприемнике: рождение третьего чувства из двух противочувствий. Или – трудность осознания подсознательного образа. (Их два вида – катарсисов: от противообразов и от образа.)
Второй – волчок как образ наступившего мира во всём мире.
(Для мещанина в глубине души не важно, что послевоенный мир – вооружённый и обеспечен ракетно-ядерным противостоянием.) У Норштейна, уверен, не «глумление над русскими дурами-матерями, которые тысячу лет предостерегают детушек супротив волка». Глумление обеспечено сознанием. А у Норштейна в сознании глумления нет. Почему я уверен?
Ответ, признаю, довольно слабый: потому что я еле-еле додумался до значения этого образа, ибо, обиженный Семиреченским по национальному признаку, я не смог осознать то, что ясно ему, а я себя считаю очень чутким на подсознательное происхождение образа, так как остро ощущаю, если образ очень уж неожиданный. И вот – на второй только день до меня дошло, что волчок, который схватит Ваню за бочок – в фильме есть образ… мира и добра. Это моя специальность – чтоб озаряло. А до самого художника может так и не дойти. По крайней мере, сколько мне привелось почитать об этом фильме за два дня (исключая Самиреченского), я нигде не наткнулся на такую интерпретацию. И вообще – хоть на какую-то интерпретацию, почему именно хватающий за бочок – добряк.
Кстати, он в фильме схватил-таки раз за бочок листок со стихотворением, так это его характеризует возвышенно. А чтоб не подумали иного, листок превратился в кричащего младенца, и Волчек его еле утихомирил песней о себе (со вздохом, где поёт: «схватит за бочок»).
Автор, выражающий подсознательный идеал не имеет никакого отношения к моралям, соответствующим иным идеалам. А я считаю, что моралей столько, сколько идеалов. Он даже и к морали, соответствующей его подсознательному идеалу, тоже не имеет отношения по большому счёту. Поэтому все, с иными моралями, чем мещанская, есть вероятные противники Норштейна, если у них нет вкуса, т.е. чутья на наличие в произведении ЧЕГО-ТО, невыразимого словами. Что и продемонстрировал гражданственный, вроде бы, Семиреченский.
Сейчас, с этой новой волной информационной войны против России, наблюдается ухудшение эстетического качества патриотов. Где им до тонкости…
Кто их подтянет?






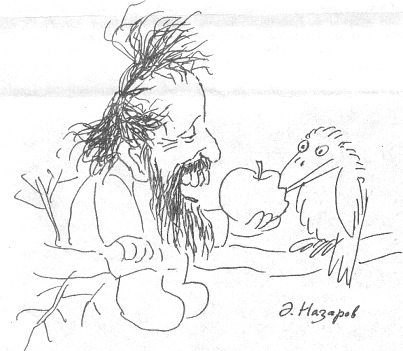




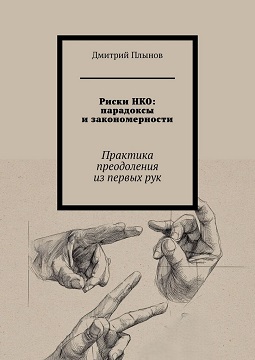
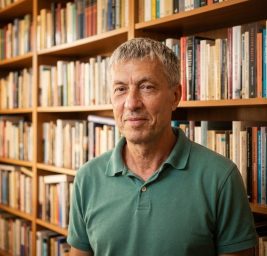
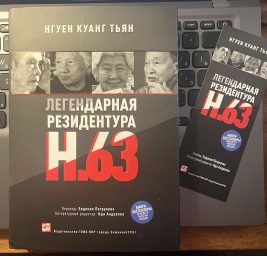



















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ