Новое
- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения
- Положение не обязывает
- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»
- Блеск жизни Жульет Бинош
- Рыцарь второго плана
- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ
– КАМО ГРЯДЕШИ?
23.10.2018
«Quo vadis, Domine?» – Апостол Петр – Христу.
«В Рим, чтобы снова принять распятие»…
Валентин Семенович Непомнящий в своей уникальной, глубокой статье «Удерживающий теперь…» (1992 – 1996) приводит строки из Второго Послания Фессалоникийцам (2:7) Святого Апостола Павла: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь…» [1:491; здесь и далее курсив автора – Л.В.]
В этой и других работах видный ученый, литературовед, пушкинист, пишет, в частности, о «трагедии человеческой вины перед Бытием, перед Богом скорбящим и страдающим, перед Христом распятым и распинаемым постоянно мною» [1:456].
«Почему? Как?» – пусть отвечает каждый себе сам. Как и на вопрос: «Куда же ты идешь, человек, народ, страна, мир?..» Может быть, помогут понять и ответить нижеследующие положения. С ними можно соглашаться, можно спорить, но, наверное, желательно их знать.
Предлагаемая статья включает в себя фрагменты «редакционных заметок» (вступительного слова) к программам-выпускам Литературной гостиной Одесского Дома ученых («Праздник праздников…», «Молитва поэта», «Засвети меня, Твою свечу…», многих, посвященных А.С. Пушкину 1999-2017 гг.)
Полагаю, что в сегодняшних реалиях нашего мира многие положения статьи В.С. Непомнящего – весьма актуальны…
* * *
В.С. Непомнящий писал, что Русью в христианстве, в «»греческом» вероисповедании было опознано нечто словно бы предвечно свое. Крещение оказалось актом самопознания, духовной самоидентификации и национального самоопределения, результатом чего стал быстрый процесс формирования Руси как единой – при всех внутренних противоречиях – нации с общей по духовной устремленности культурой» [1:450].
В основе ее – «христианские истины «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18, 36), «Не хлебом одним будет жить человек» (Мф. 4, 4)». Эти истины «понимались не в богословском только (или отвлеченно-философском) смысле, а прямо, актуально и конкретно; здесь и давнее наше непростое отношение к богатству, к «палатам каменным», к культу земных благ, традиционная непритязательность и простота житейского уклада…» [1:450].
Вчера нас призвали: «Обогащайтесь!» Причем, пути, методы – неважны, во всяком случае, амнистия обогатившимся в 90-х годах весьма показательна, как и прославление «прекрасных 90-х» иными участниками телепередач, авторами публикаций, etc.
Но Русская культура, литература – особенно! – «свидетельствовала об истории падшего мира в свете учения о спасении». И – «Нисколько не утаивая трагизма наличной действительности, эта литература в целом была необычайно светлой, гуманной (говоря по-нынешнему) и полной надежды: при всех слабостях и падениях человека, она видела в нем искру Замысла, черты образа Божия и, говоря горькую правду о нем, в то же время призывала милость к падшим» [1:450-451].
У истоков её – «одно из празднично радостных ее произведений – Иларионово «Слово о законе и благодати» («О законе, данном через Моисея, и о благодати и истине, явленной Христом…»)» [1:451].
* * *
«Слово о законе и благодати» – первое именное произведение древней русской литературы. Произнесено Митрополитом Иларионом в 1038 году, за полтора века до «Слова о полку Игореве». Раскрывает превосходство христианства над иудейством и язычеством, Благодати над Законом, воспевает Русь, Киев, князя Владимира Крестителя и его сына Ярослава Мудрого, духовником которого был Иларион.
В этом году исполняется 980 лет уникальному литературному произведению Руси.
А 20 лет тому назад, в 1998 году, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов (11 февраля 1941 – 17 ноября 2003) перевёл «Слово о законе и благодати» со старославянского на современный русский язык и изложил в стихотворной форме.
Повесть сия о Законе в лице Моисея,
О Благодати и истине в сердце Христа.
Что дал Закон? Что с собой принесла Благодать?.. [2:97].
В «Слове…» «главная тема, – пишет В.С. Непомнящий, – христианская иерархия ценностей, отношение между наличной действительностью человеческого существования (отраженной в законе) и благодатью Божественного Замысла о человеке: «Прежде (был дан) закон, а потом – благодать, прежде – тень, а потом – истина»» [1:451]. Но –
Ведь никого не могла удержать тень Закона.
Долго ведь в идольской тьме пребывали народы.
Как Благодати ученье свое удержать?.. [2:107].
«Иудеи, – напоминает Непомнящий, – ведь соделывали свое оправдание в (мерцании) свечи закона, христиане же свое спасение в (сиянии) солнца благодати… В иудействе… – оправдание, а в христианстве – спасение. И оправдание – в сем мире, а спасение – в будущем веке. Потому иудеи услаждались земным, христиане же – небесным. И к тому же оправдание иудейское… не простиралось на другие народы, но совершалось лишь в Иудее. Христианское же спасение – благодатно и изобильно, простираясь во все края земные» [1:452].
…Где иудеи, там самость себя утверждает,
где христиане, там души спасение зиждут.
Самость себя утверждает в мгновенье бегущем,
только спасение зиждется в веке грядущем.
Ибо в земном иудеи всегда процветали,
а христиане в небесном себя обретали.
Самость – душа иудейства, и в оные годы
не простиралась она на иные народы.
Щедро и благо спасение у христиан
и досягает великое множество стран…
…Хоть иудейство кичилось высокою статью,
но христианство его превзошло Благодатью.
…Раньше на малом вознесся Закон и упал,
вера Христова, хотя и поздней, стала первой
и распростерлась на все племена и народы.
Истина и Благодать, как морскою водою,
нашу убогую землю покрыла собою.
Прочь иудейство, что ветхо, и косно, и скупо! [2:100-101].
О Пришествии, Ниспослании Христа – человечеству:
…Он к ним пришел по пророчествам старого века.
Было предсказано прежде: «Я послан не только
к овцам Израиля, гибнущим в доме его».
И – «Не пришел Я Закон разорить, но исполнить» [2:105].
…Он к ним явился, но злобно отвергли Его,
темными были дела их, да вряд ли и станут
явными, так как темны и сокрыты всегда. [2:105-106].
Наверное, погрешу упрощением, задавая вопрос: В нынешней реальной практической жизни – мы на закон (многочисленные законы, суды, милиции-полиции, адвокатуры и пр.) уповаем, или – на благодать – духовность, любовь, справедливость, совесть?.. Со – Весть?..
Но надеюсь на прощение, иевольно вспоминая мысли мудрых: «Нет более верного признака дурного устройства городов, как обилие в них юристов и врачей» (Платон); «Какая польза в напрасных законах там, где нет нравов» (Гораций); «Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарств: признак болезни и безсилия» (Вольтер); «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а многочисленность процессов не в пользу законов» (П. Буаст); «Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды» (О. Мирабо); «Законы точно паутина, в которую попадает мелкая мошкара, но через которую прорываются шершни и осы» (Дж. Свифт); «Есть тысяча способов быть очень дурным человеком, не нарушая ни одного закона» (Анна Сталь); «Законодательство – жернов, мелющий бедных и приводимый в движение богатыми» (О. Гольдсмит).
Ограничусь «осьмиконечником» высказываний…
Ещё Тертуллиан определил: «душа человеческая по природе христианка». И В.С. Непомнящий замечает: у «русской духовности» – всехристианская «закваска». Но она, душа русская, «»всемирно отзывчива», всемирно притягательна». И – «…мир квалифицировал это качество как национально русское. Лестное для нас, определение это, однако, появилось в мире, что называется, не от хорошей жизни».
«Крещение Руси произошло в эпоху, когда на Западе тоже назревал, так сказать, свой «выбор веры». Внутри христианского мира складывались два типа культуры, две системы ценностей, имеющих одно происхождение, сходные, а во многом и одинаковые по составу и формальной иерархии, но решительно различные в практической ориентированности, в отношениях <…> с «идеалом» и действительностью»» [1:452-453].
* * *
Очень интересно и полезно потому, я думаю, познакомиться с рассуждением В.С. Непомнящего об особенностях «в отношении к праздникам Рождества и Пасхи» на Руси и – на Западе.
«Для «восточного», православного сознания, – пишет Непомнящий, – Рождество Христово – как для всякого христианского сознания – событие особое и величайшее; однако оно все же вписано в цепь событий, предвечно определенных быть таинственным актом спасения погрязшего в грехе человечества крестной жертвой Сына Божия. Пасха же вбирает в себя всю полноту акта спасения, от Благовещения и Рождества до Распятия и Воскресения. Вочеловечение Бога, рождение Христа – акт участия Бога к человеку и в судьбе человечества, Пасха же, предваряемая страданием и смертью Христа, – сверх того указание пути к спасению и вечной жизни: «Последуй за Мною, взяв крест» (Мр.10, 21)».
Позволю себе привести нижеследующее, выделяя дополнительно (п/ж) отдельные слова:
«Рождество – акт Божественной любви к человеку, Пасха же – сверх того призыв к ответной любви человека к Богу, к осуществлению и торжеству христианского идеала, Божественного Замысла о человеке. Поэтому Пасха в православии – «праздник праздников и торжество есть торжеств»» [1:453].
Вот и сложилось так, что на Западе Пасха – «праздник в ряду других: мистическое его содержание воспринимается менее актуально и гораздо абстрактнее, зато акцентируется «натуральная» сторона события – Распятие и крестные муки, притом тем настойчивее, чем меньше эта сторона импонирует сознанию, ориентированному на мирское благополучие, «заботы мира сего». На роль «праздника праздников» такое событие не годится; зато Рождество резко выделяют из цепи событий – его локальное содержание особо актуализируется, становится самодовлеющим: Бог так любит меня, что уподобился мне. Такой акцент льстит самолюбию, оправдывает и утверждавет самодостаточность моего «я»…» И – главное! – «…в своем наличном состоянии. Оттого на Западе, по немецкой пословице, «нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества».
В одном, стало быть, случае главное событие – призыв к человеку уподобиться Богу, в другом – наличный факт уподобления Бога человеку» [1:453].
Невольно вспоминаю картину Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос в гробу». Потрясение, шок, ужас Ф.М. Достоевского (1867) в картинной галерее Базеля от страшного, натуралистического изображения трупа: мёртвого, исстрадавшегося, одинокого (sic!) ч е л о в е к а! Достоевский, наш великий гуманист, глубоко верующий, не случайно воскликнул: «Да от этой картины у иного вера может пропасть!» Эти слова, вложил и в уста князя Мышкина. Да, поверить в возможность воскрешения изображённого – трудно.
Традиционно сюжет «Снятие с креста» включает и фигуры учеников, Богоматери, Марии Магдалины, у Гольбейна их нет. В отличие от неоконченной, к сожалению, картины В.Г. Перова (Третьяковская галерея, Москва), мозаики по эскизам Виктора Васнецова (Собор Воскресения Христова, Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург), икон русских храмов.
Рассказав о великой мировой трагедии, они целомудренно и высоко несут страждущей душе истинную Веру.
* * *
Особый интерес и значение приобретает реальное воплощение таких, разных на Руси и на Западе, умозрений.
«Западное христианство, – акцентирует Непомнящий, – ориентировано на человека, так сказать, натурального, каков он есть сейчас; православное – на человека, каков он должен бы быть, т.е. как он замышлен Богом, иначе говоря – на соотносимый с Христом идеал человека. Отсюда разница в иерархии ценностей. В плане нравственно-гражданском вершина этой иерархии на Западе – права человека, категория внешняя по отношению к личности; в восточном же христианстве на этом высшем месте – обязанности человека, ценность внутренняя, обеспечиваемая самою личностью – прежде всего в исполнении заповедей. В общекультурном плане западный тип устремлен к успехам цивилизации как сферы материальной, восточный же – к культуре как области духовного» [1:454].
Не могу удержаться и не привести, по сути, ту же мысль В.С. Непомнящего – но с существенными нюансами! – в более ранней его статье «Предполагаем жить» (1990). Он пишет:
«Много говорят о правах человека. Не боюсь сказать: слишком много. Забывается одна тонкость.
Есть книга, которую Пушкин дерзнул сравнить с Евангелием; это христианское сочинение, и оно называется «Об обязанностях человека». Не будем обсуждать, можно ли что-нибудь сравнивать с Евангелием, но таково уж было впечатление Пушкина; думаю, его поразила, помимо прочего, сама постановка вопроса: не права человека, но – обязанности его. Это – изменение точки отсчета, другая антропология.
Права человека – категория социальная и юридическая, то есть по отношению к человеку внешняя. Права человеку обеспечиваются извне его, в наружных условиях его существования. Это категория цивилизации.
Обязанности человека – категория культуры, вещь внутренняя; они могут быть реально осуществлены только изнутри человека. В этом смысле истинные обязанности человека есть категория религиозная, духовная, и сформулированы они в заповедях – как необходимые условия сохранности в человеке образа и подобия Бога. Никакие «права человека» немыслимы там, где не исполняются обязанности человека как духовного существа: любые усилия тщетны, любые законы бессильны» [3:18].
Как сегодня не вспомнить об окончательно (?) вдолбленном в наше сознание приоритете права, уничижении обязанностей, понятия долга? Особенно – у молодёжи…
А мне приходилось признаваться в инстинктивном неприятии даже слова: «цивилизация». Писала в феврале 1995-го, в больнице, лечась от последствий «контакта» с «тойотой» «новой украинки»:
«Длинно-змеиное, «цикающее», чуждое русскому языку. Но чем дальше, тем более навязываемое и застревающее невольно в сознании. Только и слышишь: «в цивилизованном мире», «пора и нам присоединиться к европейской (американской и т.п.) цивилизации…»
А я вот – не хочу.» [4:22].
При публикации в газете «Одесский вестник» это «признание» редакцией, приглашавшей к разговору «философов, деятелей культуры, читателей», предусмотрительно опущено… [5].
Стоит, может быть, вспомнить и Збигнева Бжезинского: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие». Правда, на Украине сегодня отрицают это его признание [6].
Но вернусь к работам Валентина Непомнящего. Для разрядки – из статьи «С веселым призраком свободы» (1993):
«Хотите знать, что такое культура по-американски? Пожалуйста: «Цивилизация складывается из идей и убеждений. Культура суммирует приемы и навыки. Изобретение смывного бачка – знак цивилизации. То, что в каждом доме есть смывной бачок, – признак культуры». (Это все те же ковбои пера П. Вайль и А. Генис, это их книжка «Родная речь», покорившая сердца нашей спешно цивилизующейся публики…)
Да нет, я вовсе не собираюсь с ними спорить; если им так нравится – пусть. Дело в другом: ведь у нас, темных, совсем другие понятия! Для нас культура – штука в основе своей идеальная, а цивилизация – в конечном счете материальная, включающая также и смывные бачки вместе с фактом их изобретения; по-нашему, культура (на латыни – «возделывание») есть возделывание человека, его души и духа, а цивилизация – возделывание лишь среды, условий обитания человека. Но мы же им не навязываем это устарелое понимание! То есть – если у них там и культура, и цивилизация общим знаменателем имеют смывной бачок – пожалуйста; но нас-то зачем этой меркой мерить, мы до этого еще не «дотянулись»».
Автор отвергает стремление «переделать на «американский» лад само наше понимание культуры, научить видеть в ней всего лишь «прием и навык», «культуру и отдых», одним словом – подчинить культуру цивилизации в качестве ее, цивилизации, следствия и служанки, что прямо обратно всем нашим представлениям не только о культуре, но и о жизни» [7:396-397].
* * *
Условно обозначая ценностные ориентации и основанные на них культуры как пасхальную и рождественскую, Непомнящий подчеркивает, что так проще и «нагляднее представить суть и масштабы происходящей в этом мире драмы». Ведь «христианство, по определению, религия не земного, а небесного, не устроения и оправдания в мире сем, а спасение «в будущем веке»; идеал христианства божествен, а не гуманитарен, его аксиология (ценность, достоинство – Л.В.) – не прагматическая, а творческая, не «закона», а «благодати», не необходимости, а свободы, – она рождена вольной крестной жертвой Богочеловека <…> Иисус ведь не внял предложению «оправдаться» – сойти с креста. «Хитон» христианской системы ценностей не «раздирается»» [1:454-455].
Не случаен выбор, «Исторический «жеребий» России». Она «встретилась в «восточном», «греческом» исповедании с Божественным ликом христианского учения, исторически мгновенно его приняла и на протяжении веков удерживала как исповедание пасхальное.
«Жеребий» этот оказался не очень выигрышен с точки зрения земного устроения, скорее наоборот. Исповедание было таково, что ни сытость, ни богатство, сила, слава и успех, ни индивидуальная и иная свобода, ни прочие земные утехи не находили места в ценностной системе как сфере, связанной с христианским идеалом: идеалом была праведная жизнь, в пределе – святость. Между тем на деле люди Святой Руси были не лучше западных: так же любили земную жизнь и ее удовольствия, так же стремились к богатству и благополучию, успеху и славе, так же воевали, грешили и безобразничали, как и везде, а порой и похлеще; для нашего народа, чувствительного, сурового и страстного, с его медлительным, но огненным и взрывным темпераментом, с его способностью равно к безбрежной широте и упрямой односторонности, со склонностью как к мечтательному созерцанию, так и к «безудержу» во всем, от унизительной подчас покорности до «русского бунта», до преступления, – идеал праведности и святости был столь же органически влекущим, сколь и неимоверно трудным. Но исповедание было таково, что несоответствие этому идеалу осознавалось не как нейтральная «исходная данность», терпимая и приемлемая в качестве «общей нормы», а как грех и вина. «Исходной данностью» был (мыслился) человек не «каков он есть», в наличном состоянии, а как образ и подобие Бога; нормой было не «оправдание в сем мире», а «спасение в будущем веке», – нормой был идеал. Притом труднодостижимость его вовсе не означала принципиальной недостижимости (святые и праведники были, как есть они и везде, недаром: «Не стоит город без святого, село без праведника»); и мыслился идеал не как туманно-далекое «Должно Быть», противостоящее мрачной «действительности»: идеал был то, что должен я, и притом здесь и сейчас» и был сверхконкретен и сверхактуален: «последуй за Мною, взяв крест»; а это-то труднее всего.
Крест – то, что и соединяет, и разделяет «рождественную» и «пасхальную» системы ценностей, это общая реальность, вызывающая с обеих сторон мучительные, но разные переживания. Для «рождественской» культуры крест – прежде всего символ страждущего естества, символ трагического и скорбного в человеческом бытии; для «пасхальной» – трагедия человеческой вины перед Бытием, перед Богом скорбящим и страдающим, перед Христом распятым и распинаемым постоянно мною; но одновременно – и символ победы благодати и истины Христа над «чином естества», а потому орудие спасения, «благое иго» (см.: Мф. 11, 30) на пути к жизни вечной, где «несть ни печаль, ни воздыхание»».
«И в культуре Запада, – признает автор, – есть «пасхальное» начало, «без него ничего великого не было бы в европейской культуре – как, впрочем, и культуры как таковой: одна цивилизация». И в русской культуре «рождественское» начало – светская культура, без него была бы одна церковная» [1:455-457]. Он подчеркивает, что речь идет лишь о доминантах, о преимущественном отношении у одних с «действительностью», у других с идеалом.
* * *
Важно, что «пасхальный» характер русской культуры «предопределил целый ряд коренных особенностей русской литературы», «главную проблему ее – проблему совести», «переживаемую как драма вины», – пишет В.С. Непомнящий.
Не «культ страдания», в коем обвиняют русскую культуру, но сосредоточенность на драме вины, в которой – «парадоксально претворенное русской историей наследие пасхальной светлости культуры Святой Руси». Не случайно и русская литература названа «западным писателем XX века святой». «В совестном страдании – главный нерв этой литературы, источник ее метаний и вдохновений, ее крест и основа ее человеческого кредо (своею светлостью прямо противоположного западному – по сути дела глубоко трагическому – культу успеха и счастья) – кредо, которое гласит:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
Все это, собственно, и есть природа того, что именуют «русской духовностью»» [1:457-458].
Замечаю, подчёркиваю: культ успеха и счастья – есть культ глубоко трагический.
«Столь странного высказывания: «хочу жить, чтоб страдать» ни у одного поэта нет, – замечает В. Непомнящий в одном из интервью 2008 года, – Думая об этом, я всегда вспоминаю слова героини «Унесенных ветром»: «Я пойду на все, но больше никогда не буду голодать». В этом кредо Скарлетт О’Хара – зерно «американской мечты» о всегда сытом существовании как основе всего. Россия и Пушкин из другого теста. По убеждению Ахматовой, Пушкин – самый «светский», самый аристократичный из наших писателей при всей своей очевиднейшей «народности». А Бунин как-то сказал, что в настоящем русском аристократе есть нечто от простого мужика, в мужике же – что-то аристократическое. И Россия, и Пушкин, и русская литература понимают, что страдания человечества им заслужены, что не может человек быть счастлив в изуродованном им мире.
Потребительское сознание стремится исключительно к ближайшей выгоде. Сейчас два рода культуры: культура – служение и культура – обслуживание. Первая – хлеб, вторая – зрелище. Первая требует работы ума и совести, вторая – только свободного времени и денег. Первая – труд, вторая – развлечение, «расслабление» после «серьезного дела» – зарабатывания денег» [8].
Спасибо, Валентин Семенович, за кавычки в определении дела, по-ихнему – бизнеса!
Вспомнились и строки Марины Цветаевой – в дополнение к приведенной мысли Бунина: «Русский народ царственен: это постоянное: мы, наше. <…> (Мы, наше можно также понять как ничье, безымянно-божье. Вне гордыни <cверху: сиротства>: я. Но тогда и царское: Мы, Наше – ничье, безымянно-божье, вне уродства: гордыни: я. Мужик как царь: один за всех. 1932 г.) И еще: мужика «мы, наше» делает царственным, царя – народом. – И обоих – божьим» [9:223].
Вспоминаю и чёткое в работе В.С. Непомнящего 2004 года – о словах «обаятельной героини» «Унесенных ветром»: «Это твердое плебейское кредо – формула «американской мечты» (теперь, по существу, мечты всего «цивилизованного», то есть западного, мира)». А вот «кредо и формула» русской культуры, заключенные в словах А.С. Пушкина, – «Это – аристократическая формула достоинства и ответственности, ответственности духовной.
Никакая «конвергенция» этих двух исповеданий невозможна» [10:250; курсив мой – Л.В.]
* * *
Многие положения основной рассматриваемой статьи В.С. Непомнящего вынуждена опустить, приглашая мыслящего читателя познакомиться с нею, доступной и в интернете [1].
Но хочу привести несколько заключительных положений. О роли и значении творчества А.С. Пушкина. Яснее становится отчего столь ненавистен он творцам и защитникам ежеминутно распинаемой, брошенной в грязь, под ноги толпе, «Тени Пушкина» – «памятного знака», «арт-стрит объекта» в униженной, опозоренной этим «знаком» Одессе.
Глубоко благодарна Валентину Семеновичу за отклик, за поддержку в борьбе против этого издевательства. Он написал нам: «Умственно тупая и бандитски наглая, акция «тень Пушкина» есть своего рода «формула» указанного разгрома культуры. Не случайно она нравится начальству. Это – свидетельство о том, что разгром осуществляется не «снизу», не каким-нибудь агрессивным быдлом, а сверху, со стороны власти, которой нет никакого дела до людей, до народа, до Отечества. В акции «тень Пушкина», как в зеркале, отразилась истинная сущность того, как относятся к культуре, к народу и к стране те, от кого зависят национальные, государственные и человеческие судьбы» [11].
А в статье «Удерживающий теперь…» Валентин Непомнящий писал о «революции» Петра I, которая была попыткой изменить природу Русской нации, «сломать хребет «старой», православной культуре, оставить ее в историческом прошлом; попыткой протестантского переворота, имевшего целью переделать нацию в «рождественском» духе, переориентировав на «заботы века сего». И делалось это с поистине русским размахом». Писал о возникновении в петровскую эпоху светской культуры, осваивающей «европейские достижения»; о том, что одновременно и «бурно возрастает интерес к собственной истории – гражданской, церковной и культурной, тяга к национальному и духовному самоосмыслению, самоутверждению, самостоянию». О чрезвычайно важной роли творчества – миссии! – А.С. Пушкина: «В поле наибольшего напряжения этого сотрудничества-борьбы и возникает – исторически немедленно, как бы сразу в ответ на попытку «разодрать хитон» национально-духовного склада России, – Пушкин»[1:458].
Детально, убедительно представляет автор нелегкий, сложный Путь Поэта к Истине. Пишет об «уникальной особенности художественного мира Пушкина». Мира, беспримерно катастрофичного, могущего поспорить с самыми мрачными из созданных литературой Нового времени «художественных миров по концентрации трагических коллизий и зла».
НО! – «мир Пушкина в целом производит впечатление столь же беспримерно светлого и совершенно отвечает эпитету, который из всех писателей, пишущих трагическую «правду жизни», только к Пушкину и применим: солнечный» [1:479].
В. Непомнящий приводит слова Льва Шестова «Умозрение и откровение…»:
«Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный, человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература, и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой грозного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги…» [1:480].
Не могу не заметить и следующего положения статьи В.С. Непомнящего:
«Слово «православие» сегодня часто вызывает раздражение. К этому дело шло давно, с той же петровской революции с ее стремлением превратить православие в форму, в идеологию». Увы, «…именно как идеология и понимается в нашем секуляризованном обществе (не исключая и многих священнослужителей) православная вера. Тем более что прижившееся у нас, на фоне либерально-экуменических веяний, слово «конфессия» обнаружило, в русском употреблении, секулярный, идеологический, чуть ли не партийный смысл.
Но православие – не «конфессия»: в своей неизменившейся догматике это – христианство до схизмы, с его неотмирными, «слишком высокими» (на «мирской» взгляд, недостижимыми) идеалами. Воспринятое Русью при Крещении, удержанное ею в своем пасхальном качестве в течение нескольких веков, пока на Западе оформлялось и развивалось христианство «рождественского» толка, православие было брошено под каток петровских реформ, сущность которых состояла в том, чтобы Россия совершила акт вхождения в «европейский дом» не по естественной логике собственного развития, а – оставив свой крест, перестав быть собою – странной страною, которая – если снова вспомнить Чаадаева – «как бы не входит в состав человечества, а существует лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок»» [1:481-482].
Но Россия, возможно, в связи с этим «жребием», «в духовном своем «самостоянье» всегда упорствовала и, более или менее покорно принимая спускаемые сверху или извне приходящие политические либо социальные изменения, внутреннее свое отстаивала твердо и самыми разнообразными способами: от бунтов, самосожжений и бегств на окраины Империи до того массового пассивного, наподобие сидячей забастовки, сопротивления, которое принято именовать и безразличием, и бессловесностью, и косностью, и тупостью, и еще менее лестными словами и которое Пушкин определил как безмолвствование.
Внутренним, духовным сопротивлением и ответила Россия на попытку царя-преобразователя преобразовать ее душу и идеалы. Рана была нанесена, нужно было ее залечить, восстановить нарушенную петровской революцией духовную преемственность и национальную культурную родословную – чтобы уйти от опасности уподобления, равной опасности исчезновения. Организм реагирует на травму или грубое хирургическое вмешательство, вырабатывая в себе самом залечивающие вещества, – «верховная логика провидения» заставила силу национального самостоянья проснуться, встряхнуться и породить – в недрах самоновейшей русской секулярной культуры – гений, которому оказалось по плечу подхватить и удержать ускользающую в океан прошлого национальную духовную традицию, почувствовать в ней источник энергии – живой, творческой, устремленной из времени в вечность, возобновить и обновить эту традицию и с помощью орудий, выкованных, так сказать, европейским молотом из русского материала, устранить опасность уподобления. Это помогло нации сохранить, удержать себя «над самой бездной», связать «концы» своей духовной истории, разрубленной петровской революцией, и воссоединить эту историю в целое – теперь уже тысячелетнее» [1:482-483].
И – «То, что Петр пытался сделать «внизу», на уровне цивилизации, Пушкин совершил «вверху», в области культуры, – на тех высотах европейского культурного опыта как опыта прежде всего христианского, которые самою Европой во время оно стали утрачиваться, и чем дальше, тем стремительнее. В русском опыте, воплощенном в светском художестве Пушкина, была явлена возможность истинно европейской культуры как подлинно светской и подлинно христианской, притом христианской не в силу идеологического или морального намерения, а в меру готовности внять «содроганью неба». С этим напоминанием о том, чем должна бы быть для Европы ее культура, с этим «важным уроком» (Чаадаев), дорогою ценой купленным, русская литература вошла в семью европейских на правах не только равной, но и, как говорится, власть имеющей». И – «к нам, – по мнению Л. Шестова, – еще так недавно робко учившимся у европейцев, пришли… эти самые европейцы за словом утешения и надежды» [1:483].
«Таким образом, – утверждает В. Непомнящий, – в феномене Пушкина телеологически осуществляется связь общечеловеческих судеб с судьбой России и тем самым – своеобразие ее исторического жребия: быть не только «буфером» между Западом и Востоком, этими глубоко различными, но и глубоко связанными между собой сущностями (в Пушкине же и демонстрирующими необыкновенно ярко творческий потенциал своих сложных отношений), быть не только полем между двумя половинами ядерного заряда, предотвращающим взрыв, но – резервуаром жизненной, творческой, духовной энергии, заключенной в «старой» пасхальной системе ценностей» [1:483-484].
О, как же именно сегодня, в середине второго десятилетия XXI века, поистине – грозного! – стоит не просто понять, а на высоком духовном уровне проникнуться осознанием мысли уникального пушкиниста нашего времени!..
* * *
Приведу немного из трех последних главок статьи «Удерживающий теперь…», – ради сердечного, духовного освоения, и… предупреждения:
«Миссия и ее носитель не одно и то же, как не одно и то же гений и его обладатель. И гений, и историческая миссия – не заслуга, а бремя и работа; не достоинство, а задание; не «судьба», а крест. И гений и миссия не заслуживаются и не навязываются – они даются по силе, по «возможности» вместить…»;
«…крест России как христианской страны и христианской культуры, я думаю, в том, что самим своим существованием назначена она опровергать «рождественский» идеал благополучного устроения в падшем, во зле лежащем мире – идею сооружения (на путях ли научно-технических свершений, или социального прогресса, или революционного переустройства) безблагодатного эдема, рая без покаяния, без преображения, без спасения; назначена, храня веру в Христову правду, в образ Божий в человеке, томясь по Небесному Граду, удерживать мир, пока он еще не растерял все человеческое, от ожидающей на утопических путях позорной катастрофы» [1:485].
Убедительно и образно пишет В. Непомнящий о «перекрытии» революцией Петра I «артерии», обеспечивающей «духовное здоровье и внутреннее равновесие национального организма», что «в значительной мере удалось (конечно, не без опоры на многие и давние недуги Церкви как человеческого института)». Но «жизнетворный ток разделился, и часть его хлынула по путям светской культуры, давая ей дух, уже незнакомый новоевропейскому сознанию и в дальнейшем получивший определение «русской духовности»: возникла великая русская культура (литература), которая стяжала название святой потому, что волею истории взяла на себя, в стремительно секуляризующемся мире, крест своего рода миссионерства, труд напоминать о том, что человек создан как образ и подобие Бога, что не устраиваться он должен в падшем во грех мире, не приспосабливаться к нему, не «оборудовать» его всеми силами «для веселия», словно ничего не случилось, – а «мыслить и страдать», преображаясь духовно «по Христову евангельскому закону» (Достоевский, Пушкинская речь), и что без твердой веры в это у человечества нет будущего».
«Процесс был столь же велик и свят, сколь опасен. Главная артерия была прижата так, что другие сосуды чем дальше, тем меньше выдерживали напор духовных сил, призванный уравновешивать нарастание физических сил Империи. В тот краткий момент, когда ток духовных сил уже разделился, а равновесие еще не успело нарушиться, явился Пушкин, – в его личном пути духовная миссия светской культуры воплотилась во всей прозрачности противоречий, иерархически безупречно и потому гармонически совершенно. Этот драматизм пути, его распахнутая, исповедальная явленность во всех этапах и тонкостях, внятная всякому, кто хочет внять, говорит о том, что гармония пушкинская – не итог и не акт, что она осуществляется в процессе…» Подчеркивает автор: «дорого ему это стоило». «Читатель услышал одно только благоухание; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать», – цитирует слова Н.В. Гоголя [1:486].
Необходима, считает В.С. Непомнящий «духовная история русской литературы, которая может составить основу для целостной концепции русской культуры как мирового феномена и тем самым – осмысления нашего духовного пути». Замечает:
«Духовный путь Пушкина, трагедия Гоголя, богоборчество и «демонизм» самого, может быть, религиозного, самого верующего русского поэта Лермонтова; ересь Льва Толстого как ересь воспитанного в православии человека по отношению к православию; тяжкая драма Блока, его отношений поэта, соблазнившегося сверхчеловеческим, с идеалом Богочеловеческого; «Разговор с товарищем Лениным» другого необычайно религиозного поэта, Маяковского, как подмена вечерней молитвы; коммунистические идеалы, пропагандировавшиеся советской культурой, как оборотень православной соборности; «пролетарский интернационализм» и «социалистический реализм» как «превращенные формы» христианских ценностей, «оторвавшиеся от неба», и проч., и проч. – в любом из этих и многих иных подобных явлений, везде бьется, корчится и изнывает «русская духовность», с кровью отрываемая от своих вероисповедных корней и отчаянно сопротивляющаяся» [1:488].
«Трагизм русской литературы, – пишет В. Непомнящий, – печать ее миссии <…> Его острота – оттого, что миссия не снята и, несмотря на отступничество, продолжает исполняться и поневоле, ибо миссия – не личное имущество, не заслуга, не достоинство, а крест по силе, дело вечности, исполняемое «у времени в плену». Россия отступала от тех идеалов, которые была призвана воплощать и проповедовать…» «Но Промысл лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам», – снова вспоминает слова Н.В. Гоголя.
А главное – «задание продолжало исполняться – коли не примером следования христианской вере и правде, так очевидно устрашающими, постыдными и неслыханно кровавыми результатами отступничества…» Они, разразившимися в XX-м столетии (и нарастающими – в XXI-м – Л.В.) «должны бы были показать человечеству, куда ведет путь, вымощенный «заботами века сего», а нам самим послужить, хотя бы отчасти, к искуплению, к Вальсингамову прозрению – если бы заставили «падший дух» содрогнуться» [1:489]. Увы…
Обращаю внимание на, по крайней мере, дважды, в скобках, упоминание о роли иных церковнослужителей. Увы, увы, пришлось неоднократно столкнуться с незнанием ими – нежеланием знать! – и верно оценить роль и значение А.С. Пушкина – «недугами Церкви как человеческого института»…
* * *
В.С. Непомнящий чётко резюмирует: «Второй раз в истории России ей предлагается бросить свой крест и начать жить «как люди»; второй раз совершается покушение на ее внутреннее, на духовный и душевный строй и систему ценностей, продолжающие, невзирая на наше отступничество, определять наше самостоянье; второй раз предпринимается попытка заставить Россию освоиться в общем беге к пропасти, научить ее не «созерцать и судить» мир и себя самое, не озираться вокруг, не сомневаться в необходимости наживать «палаты каменные», не погружаться в раздумье, не жить, не мыслить, не страдать – а перейти на другие обороты, чтобы в их бешеном мелькании как-нибудь расплылась, растворилась, сгинула и не мешала прогрессу «русская духовность»».
«»Цивилизованный мир» продолжает строить свою потребительскую «империю добра«, уже очевидно чреватую – об этом внятно свидетельствует западная культура – пресыщением, смертной тоской и страхом, – продолжает, словно не подозревая о том, что «хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу» (Пушкин), и что не мечтать надо о том, чтобы «разодрать» и перекроить наш духовный строй по общепринятым меркам, причесать Россию по-иному и приспособить к интересам «цивилизованного мира», а Бога молить о том, чтобы она оставалась такою же странной, такою же неудобной для этого мира страной, ибо –
«Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь…» (2 Фес.2:7)» [1:491].
* * *
И снова, вернувшись к необходимости осмысления «центральной роли Пушкина» в Русской культуре, В.С. Непомнящий завершает:
«Чудо состоит в том, что русская культура, русская литература в XX веке не выродилась окончательно и во многом подтвердила свой всемирный нравственный авторитет, оставаясь в лучших своих явлениях человечнейшей культурой мира, продолжая в меру сил наследовать ту совестную, духовную традицию, преемником которой два века назад стал Пушкин. Соответственно и он, невзирая ни на что, в том числе на нынешние обстоятельства и моды, на все наше непонимание, продолжает – в силу своего призвания и в очередной раз переборов, по своему обыкновению, течение истории – еще оставаться нашим центром. Это значит, что Пушкин и судьба России связаны между собой связью особой, обоюдной и нерушимой – что называется, насмерть; что сквозь пародии то и дело проглядывает подлинник; что духовная закваска, подвергнутая и подвергаемая испытаниям почти невыносимым, еще не истощилась, «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоан. 1: 5), что нить нашей духовной преемственности – эту ленточку, преграждающую вход в тот самый рай, что ведет в ад, – не так-то легко перерезать еще раз».
«Жаловаться на нашу судьбу нам грех», – пишет Непомнящий, призывая вспомнить. сотворенное «на Руси отцами, дедами и нами самими». И – есди бы «все у нас пошло хорошо, словно ничего не случилось, – пошло по костям и крови, по лжи и безверию, по всходам нераскаянного отступничества, по погибели Русской земли, и мы, чья «русская духовность» призвана, по Чаадаеву, быть для мира «совестным судом», вовсе, стало быть, не должны были бы сами, первыми перед этим судом предстать, – то ведь это значило бы, что не существует ни совести, ни суда, что все это условности, что правды нет – ни «на земле», ни «выше».
Но все складывается так, чтобы мы могли убедиться – если захотим, – что правда есть. Это значит, нам дается и возможность осмыслить задание, которое мы исполняем – исполняем если не свободным подвигом, то «бедой, злом и болезнью»: Промысл действует не мытьем, так катаньем.
С этим заданием – при всем ужасе и позоре, подлости и пошлости заслуженной нами «действительности» – положение, в котором находимся мы, – лучше, чем «в других местах» (Чаадаев), где живут «как люди», платя за это утратой памяти о том, «для чего люди живут»; без такой памяти – по слову Валерия Гаврилина – мучения жизни потеряли бы смысл» [1:493-494].
* * *
Заключая, хочу вспомнить слова, завершающие статью Валентина Непомнящего «С веселым призраком свободы», которой исполнилось 25 лет: «Вот только детей жалко», почему-то выпускаемые из интернетовских публикаций [12].
А предваряет эти слова мысль о том, что культура есть «система табу», и – «именно благодаря этому культура и есть то, что помогает человеку в этом мире, который во зле лежит, не до конца забыть о своем высоком происхождении, а иногда – приблизиться к возможности постигнуть и свое предназначение.
Иначе культура превращается в цивилизацию, а свобода – в рабство у нее, ведущее к разрушению человека.
Появились учителя, они учат нас этой свободе разрушения. Но я думаю, что в России это не пройдет. Однажды настанет момент, когда Бог, по милосердию Своему, даст нам с вами увидеть ясно, в какую бездну позора и унижения уставились мы зачарованным взглядом, – и мы с вами задохнемся и взревем от ужаса и стыда, и все уродливое и мерзкое извергнем и изблюем, все вспомним и все поймем и снова станем самими собою. Не могу не верить, что в России так будет, рано или поздно. Слишком уж многое в судьбах мира от этого зависит.
Вот только детей жалко.» [7:411].
Много позднее, приветствуя книгу А.С. Панарина «Реванш Истории», В.С. Непомнящий напишет: «Речь в этой книге идет о том, как вести себя нам, России, чтобы помочь Истории – говоря евангельскими словами – «исправить путь», обрести, если возможно и ещё не поздно, дорогу более достойную, более человечную, чем сокрушительный и безнадежный прогресс современного мира» [10:247]. Вместе с автором Валентин Непомнящий верит, надеется, что Россия, сегодня «развращаемая и уродуемая силами, стремящимися насильно вписать её в цивилизацию погибели», отыщет пути, на которых она «способна, встав на ноги, помочь совести человечества в её эсхатологическом поединке с корыстью» [10:250].
О, как хочется верить, что победа в поединке – возможна, что ещё не поздно!..
– Камо грядеши, народ мой?..
Людмила Владимирова
Примечания:
-
Непомнящий В. Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России. К проблеме целостной концепции русской культуры. // В. Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. – М.: «Наследие», 1999. – С. 443-494. И – http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/5/nepomn.html
-
Кузнецов Ю. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. // Юрий Кузнецов. Русский зигзаг. – М.: Московская организция Союза писателей РФ, 1999. – С. 95-123.
-
Непомнящий В. Предполагаем жить. // В. Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. – М.: «Наследие», 1999. – С. 8-20.
-
Владимирова Л. Цивилизация или культура? (абсолютно несвоевременные заметки). // Людмила Владимирова. Прими мое слово. – Одесса: «Астропринт», 2001. – С. 22-35.
-
Владимирова Людмила. Цивилизация или культура? (абсолютно несвоевременные заметки). // Одесский вестник, № 035, 27 мая 1995 года.
-
Глущенко А. // Диакон Андрей Глущенко. Называл ли Збигнев Бжезинский Русскую Церковь главным врагом США? // http://arhiv.orthodoxy.org.ua/ru/pravoslavniy_poglyad/2008/03/28/15181.html
-
Непомнящий В. С веселым призраком свободы. // В. Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. – М.: «Наследие», 1999. – С. 384-411.
-
Непомнящий В.С. Всегда быть с Пушкиным. // Ж. «Золотой Лев», 5.06.08. // http://www.zlev.ru/157/157_7.htm
-
Цветаева Марина. Тетрадь 1. // Марина Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. – М.: Эллис Лак, 1997. – С. 11-240.
-
Непомнящий Валентин. «Реванш истории» как явление русской культуры. // Наш современник, 2004, № 9. – С. 247-250.
-
Владимирова Людмила. Простите, Александр Сергеевич!.. // http://www.rospisatel.ru/vladimirova-pushkin1.htm
-
Непомнящий В. С веселым призраком свободы. Из дневника пушкиниста. Заметки между делом. // http://magazines.russ.ru/continent/2011/150/n3.html











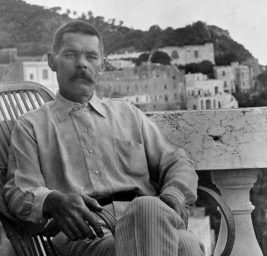


















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ