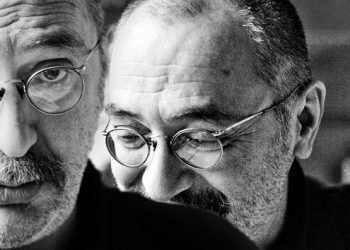
Энергия новичка смешна у старика, но что делать – интересно… Может, заражу кого – и тому будет тоже интересно…
Я наткнулся на цитирование Кибирова, понятое, будто он сочинил то цитируемое, «иронически переосмысливая постмодернистскую практику» (Источник), и подумал: «переосмысливая» не значит разве, что тот отказался от постмодернизма? А постмодернизм я понимаю просто – нет ничего, достойного быть идеалом и потому всё достойно насмешки. Так, если я прав, то в принципе не может постмодернист от постмодернизма отказаться. И потому невозможно у него того переосмысление. Ведь так? Если по логике…
Я стал искать подтверждение своей логичности и нашёл:
«…цитаты из советских песен и произведений писателей-соцреалистов, составлявшие большой массив в раннем творчестве Т. Кибирова, впоследствии сменились ссылками на писателей-постмодернистов и тексты современной массовой культуры, из чего можно заключить, что Т. Кибиров склонен к пародийной интерпретации не только советской, но и любой доминирующей культурной парадигмы»
Вот только вопрос: возможно ли через какое-то время после внедрения постмодернизма (внедрение было во второй половине ХХ века) следовать ему так, будто он находится у автора в ранге подсознательного идеала? То есть возможно ли автору оставаться художником (если подходить экстремистски к определению, что художественное – это общение подсознаний автора и восприемников по сокровенному поводу)?
Может, видеть «ностальгическую модальность поэта по отношению к советским временам» (Там же) – это видеть ту странность, которая и есть след подсознательного идеала? То есть это таки переосмысленный постмодернизм? Не насмешнический, а грустный… Что настолько ново, что аж не осознаётся…
На слова, по-моему, Кирсанова
песня композитора Тухманова
«Летние дожди».
Помнишь? – Мне от них как будто лучше…
та-та-та-та… радуги и тучи
будто та-та-та-та впереди.
—
Я припомнил это, наблюдая,
как вода струится молодая.
Дождик-дождик, не переставай!
Лейся на лысеющее темя,
утверждай, что мне еще не время,
пот и похоть начисто смывай!
—
Ведь не только мне как будто лучше,
а, к примеру, ивушке плакучей
и цветной капусте, например.
Вот он дождь – быть может, и кислотный.
Радуясь, на блещущие сотки
смотрит из окна пенсионер.
—
Вот и солнце между туч красивых,
вот буксует в луже чья-то «Нива»,
вот и все, ты только погоди!
Покури спокойно на крылечке,
посмотри – замри, мое сердечко,
вдруг и впрямь та-та-та впереди!
—
Вот и все, что я хотел напомнить.
Вот и все, что я хотел исполнить.
Радуга над Шиферной висит!
Развернулась радуга Завета,
преломилось горестное лето.
Дальний гром с душою говорит.
1995
Шиферная – это такой населённый пункт в Московской области, — говорит гуглокарта. С большой буквы Завет – это Ветхий завет. Это про то, как Бог, сперва решивший было потопом истребить человечество и всё живое заодно за то, что люди одною плотской жизнью заняты (злом)… Истребить за исключением праведника Ноя и тех, кого тот спасёт на ковчеге… А потом, наслав потоп, остыл… И со спасшимися заключил Завет (радугой): «только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9:4), не то кровью же поплатитесь (от нападения другого человека или зверя). И в остальном плотской жизни (злу) уступил: ешьте (в том числе и зверей) и плодитесь. – Фабула такая у Бога: порыв одухотворения – разочарование в осуществлении порыва – разочарование в разочаровании и – умерил новый порыв одухотворения. За серость, мол. Но это – в тексте Завета. А он сочинён порывистой душой. И потому серость её подсознательным идеалом отвергаема. Что и расшифровывается сомнительностью серости как идеала для ТАКОГО автора, каковым он выставляется – для Моисея, которому Бог продиктовал текст. Сомнительность подтверждается фабулой дальнейшего в Пятикнижии. Люди продолжили и продолжили нарушать Завет. Что страстно Богом отвергается. И через наоборот Абсолют торжествует. Но не в тексте, а в подсознательном душ восприемников текста. – Тот редкий случай в истории неприкладного искусства, когда оно прорывается сквозь требования жизни быть прикладным. Тут – прикладным к религии.
(Характер сочинителя Пятикнижия я не выдумал, а модифицировал из такой цитаты из «Западного канона» Блума:
«Один из признаков самобытности, благодаря которой литературное произведение может снискать канонический статус, — странность… Нагляднейший пример… [автор] Танаха, фигура, которую библеисты XIX века назвали Яхвистом, или J (от немецкого написания ивритского слова Yahweh, по-английски — Jehovah, вследствие сделанной некогда орфографической ошибки). J… похоже, жил в Иерусалиме или поблизости от него примерно три тысячи лет назад… Кто был «исходным» J, мы едва ли когда-нибудь узнаем. Я предполагаю, основываясь на своих сугубо внутренних и субъективных доводах литературоведческого характера, что J вполне могла быть некая женщина при дворе царя Соломона — среде высокой культуры, изрядного религиозного скептицизма и внушительной психологической изощренности… Вирсавия, мать Соломона — превосходная кандидатура. Тогда легко объяснить [такое качество Пятикнижия, как]… ирония… иронические вольности, которые Вирсавия позволила себе в изображении Яхве. В Яхве J много человеческого — слишком человеческого: он ест и пьет, часто выходит из себя, радуется, причиняя вред, он ревнив и мстителен, декларирует беспристрастность, при этом постоянно оказывая кому-то предпочтение, и обнаруживает изрядную невротическую тревожность, решившись распространить свое благословение с элиты на весь народ Израилев. Когда он ведет эту обезумевшую и измученную толпу через Синайскую пустыню, он уже так маловменяем, так опасен для себя и для других, что J следует признать первейшим богохульником среди писателей всех времен и народов… Амбивалентность во взаимоотношениях божественного и человеческого — одно из величайших изобретений J, еще один признак самобытности»
Блум просто не вооружён понятием «подсознательный идеал автора», который нецитируем. И здесь есть Абсолют. Поэтому Блуму и приходится придумать Вирсавию, которая была не израильтянка, а хеттка, позволяющая себе текстовую иронию по отношению к Богу израильтян. А на самом деле ирония есть та странность, через которую выводится содержание подсознательного идеала автора Пятикнижия – Абсолют.)
Я вообще полагаю, что вся история искусства есть прорывание неприкладного сквозь толщу прикладного, которого гораздо больше, чем неприкладного.
И это обстоятельство отразилось и в разбираемом стихотворении. – Зачем оно начинается с упоминания Кирсанова?
Это был единомышленник футуриста Маяковского. Который начал в поэзии с непереносимого крика (неожиданной ломкой стихотворных строк:
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.)
Это был вопль неприятия интеллигенции, отвратившейся от революции из-за её поражения в 1905 году. Он хотел бы, чтоб те, кто однажды революцию полюбил, не изменял бы ей. А к революции у него была претензия, что она потерпела поражение. Он был недоволен революцией: она недостаточно революционна. – В этом заключался истинный авангардизм: бежать впереди паровоза революции. Ломка строк была образом этого. Можно ещё допустить, что такая неожиданность была рождена всё-таки подсознательным идеалом (поэты умеют как бы приходить в изменённое психическое состояние {в котором сознанию уже не дано, что его хозяин в нормальном состоянии был за революцию}, на первые разы представляется мыслимым такое допущение).
Иное дело – другие разы.
Революция не считается с желаниями Маяковского: то проигрывает, то еле выдерживает натиск (в гражданскую войну), и требует от поэта прекратить общаться подсознаниями и говорить с революционным народом прямо. И Маяковский поддаётся жизни и создаёт «Окна РОСТА», плакаты сатирические. Он и дальше поддавался и дошёл до осознания, что он предал настоящую поэзию (неприкладное искусство, движимое подсознательным идеалом) и – застрелился. Тем паче, что строить стали какой-то… явно не социализм, тогда как он в душе присягнул социализму и коммунизму.
У Кирсанова изъяны относительно неприкладного искусства были более явными. Вот он весь клокочет от нестерпимого в конце своего правления Хрущёва и пишет «Сказание про царя Макса-Емельяна» (1962–1964). – Поверьте на слово: прочесть может только особо терпеливый. Я прочёл. Вскакивая несколько раз и бегая по комнате, ибо вроде мышечные боли начинались от нетерпения. Потому что, как капли на голову прикованному, долбят неожиданные и непрерывные рифмы.
Например:
«Начинаю сей сказ, грешный аз.
В некотором царстве, нектаром текущем государстве, на самом краю света, в лето не то в это, не то в то, в некогда сущем Онтоне-граде, при свите, при полном параде жил царь».
И в таком духе чтение на час.
Ну ясно ж, что это – от сознания невозможности прекратить маразм, до которого докатился социализм.
Зная такое про Кирсанова, как мог относиться Кибиров к нему, даже и сдавшемуся обстоятельствам, требовавшим опроститься? Мог он простить такое:
Эти летние дожди,
эти радуги и тучи —
мне от них как будто лучше,
будто что-то впереди.
—
Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах — росы подвески,
вечно свежая трава.
—
Будто будет жизнь, как та,
где давно уже я не был,
на душе, как в синем небе
после ливня — чистота…
—
Но опомнись — рассуди,
как непрочны, как летучи
эти радуги и тучи,
эти летние дожди.
1966
И не говорите мне, что насмешливы эти односложность: «Кирсанова – Тухманова», мол-официальность: «На слова Кирсанова песня композитора», ошибка (композитор не Тухманов, а Минков), привлечение «продавшегося режиму» композитора, обслуживающего официальную потребность в оптимистических песнях, Тухманова, ассоциация с пошло усложнённым звучанием этой песни в исполнении Аллы Пугачёвой (можем, мол, и проблемные песни петь {интересно, есть ли кто из читателей, кому под 60, кто помнит эту песню или может её мелодию напеть}). Нет, конечно, и насмехается Кибиров.
Но.
В самом выборе Кирсанова, этого несчастного, вечно подозреваемого советской властью в формализме бегуна впереди революции, — нет ли в этом выборе ноты ностальгии? Кирсанов же был искренне идейный. Разве тянет у Кибирова на идейность обывательщина 1995-го, уже без тоталитаризма, года? Этот «пенсионер»? Не насмешка ли над идеалом обывателя приведение того к «ивушке плакучей и цветной капусте»? К растительной жизни?
Можно сказать, что это безыдеальный постмодернист Кибиров сочинил. Надо всем смеётся, мол, и никакой идеал для него не идеал.
Но, опять же.
Кончает-то он ого чем: радугой Завета и дальним громом по поводу горестного лета. Серьёзно. О радуге над заскорузлой Шиферной забыто.
То есть тут таки странность – ностальгия по страстно идейному не лживо советскому времени. У которого был свой Абсолют – коммунизм. Равносильный христианскому раю, только на земле.
Получается, что, по крайней мере, Кибиров второго периода творчества имеет – неведомо своему сознанию – подсознательный идеал типа благого для всех сверхбудущего.
Случилась та редкость в истории искусства, когда неприкладное искусство ещё раз прорвалось сквозь требование жизни – реставрированного капитализма – приложить искусство к идеалу мещанства, Личной Пользы, столь естественных этому капитализму.
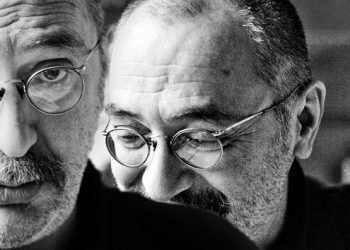





























НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ