Новое
- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения
- Положение не обязывает
- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»
- Блеск жизни Жульет Бинош
- Рыцарь второго плана
- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ
Комическая интерпретация мистического в новеллистике Вашингтона Ирвинга
02.01.2021
В современном информационном пространстве немалую роль играют мотивы мистики и религии, основанные на иррациональном истолковании многими людьми событий личной и социальной жизни. На этих темах специализируются телевизионные каналы ТВ-3 и Рен -Тв, многие журнальные публикации типа «Таинственных историй». Выпускаются многообразные издания оккультного содержания. Авторы текстов и телепередач мистического направления активно обсуждают реальные и вымышленные происшествия, стремясь интерпретировать их в сверхчувственном духе, внушить своей аудитории мысль о существовании непостижимых колдовских сил, управляющих жизнью. На этом фоне, к сожалению, слабо звучат голоса мыслителей-рационалистов, пытающихся оппонировать мистическому контенту с позиций науки и здравого смысла. В результате множится число людей, обращающихся к услугам экстрасенсов и разнообразных астрологов и оккультистов, чтобы решить свои насущные проблемы. Как правило, безуспешно. Налицо кризис духовности в современном российском обществе, и у этого кризиса есть свои экономические и социальные корни.
Разумеется, в прошлом мировая культура знала длительные периоды засилья мистики и суеверия, которые определяли мировоззрение многих поколений. В частности, такое направление литературы, как романтизм было пронизано иррациональными мотивами, основанными на растерянности художников, сталкивающихся с непостижимыми процессами в жизни общества, в котором царили неравенство и несправедливость. Один из основных принципов романтизма — противоречие между мечтой и действительностью. Этот драматический разлад у большинства романтиков типа Э. Т. Гофмана и его последователей в разных странах решается так, что фантастика превалирует над реальностью, люди часто находятся под властью сверхъестественных сил.
В связи с этим особый интерес представляет противоположная тенденция, нашедшая яркое выражение в творчестве одного из основателей литературы США — Вашингтона Ирвинга. Его новеллистика, составляющая основную часть творческого наследия, даёт богатый материал для осмысления жизни тем, кто не поддаётся влиянию мистики. Последователь идей эпохи Просвещения, В. Ирвинг создал образцы рационалистической трактовки фантастики, занимающей важное место в сюжетах его новелл. Отдавая дань романтическому направлению литературы, американский писатель в то же время смог подчинить ироническому переосмыслению фантастическую составляющую как характерную особенность романтизма. Это обусловлено особым содержанием раннего американского романтизма, которому были свойственны оптимизм, уверенность в торжестве разума в условиях общественного подъёма, наступившего после обретения страной независимости в последней четверти 18 века. При этом отношение к социальной жизни у В. Ирвинга было довольно сложным. Он видел ограниченность патриархального быта первопоселенцев и их потомков, иронически показывал мещанский образ мыслей многих своих земляков. И при этом сохранял веру в прогрессивный путь развития американского общества.
Столкновение фантастики и реальности лежит в основе многих новелл В. Ирвинга. С особой силой это показано в двух из них – «Жених-призрак» и «Легенда о Сонной Лощине». Последняя наиболее известна российским читателям по публикациям ещё советского времени. Характерное для романтиков название первой названной новеллы, её эпиграф, играющий роль таинственной завязки, демонстрируют вторжение в реальность фантастического элемента:
— Тот, кому собран этот ужин,
Хладный лежит, и ему он не нужен.
Перины я взбила, чтоб он почивал,
Но горе! Булат ему ложе постлал.
В новелле, действие которой происходит в Германии (родине романтизма), постепенно нагнетается атмосфера таинственности. В замке барона, где готовится свадебный пир, хозяева и гости нетерпеливо ожидают жениха дочери барона, который появляется лишь ночью. Он бледен и молчалив, не прикасается к еде. Наконец, он признаётся, что является духом, призраком рыцаря, погибшего в схватке с преступниками по пути к месту свадьбы, и ему теперь надо вернуться к покинутому телу, погребённому на кладбище у церкви. Реальная подоплёка этого фантастического события выясняется только в финале, когда читатель внезапно узнаёт, что под видом призрака действовал юный кавалер Герман фон Штаркенфауст, разыгравший этот спектакль, чтобы заполучить невесту своего погибшего друга. Фамилия героя, «сильный кулак» (в переводе с немецкого), придает ироническую окраску романтическим обстоятельствам его появления. Примечательно, что таинственные описания в новелле перемежаются рассуждениями автора по поводу нрава и суеверных понятий старого барона, воспитавшего дочь под присмотром «бдительных стражей и суровых цензоров» — её тётушек, которые в дни молодости слыли кокетками и ветреницами. Это тоже настраивает читателя на иронический лад, позволяет усомниться в реальности призрачного персонажа. В. Ирвинг, по существу, даёт комическое переосмысление новеллы немецкого романтика Готфрида Бюргера «Ленора», упоминаемой в тексте, и тем самым развенчивает обстановку мрачной фантастики этого произведения (оно, кстати, послужило образцом и для баллады Василия Жуковского «Светлана»). Американский писатель бросает свет мягкой усмешки на страшную фабулу Бюргера.
В основе новеллы «Легенда о Сонной лощине» лежит приключение школьного учителя Икабода Крейна, изображённое в псевдоромантическом стиле традиционных легенд о призраках. Местом действия выбрана живописная Сонная лощина, расположенная в местах поселения голландских колонистов на востоке Северной Америки, вскоре после окончания войны за независимость. В центре сюжета соперничество между Крейном и буйным по натуре фермером Бонсом из-за красавицы Катрины, дочери состоятельного фермера. Духовная жизнь первопоселенцев неразрывно связана с легендами о призраках, якобы обитающих в этой местности. Среди них особенный ужас у суеверных жителей вызывает призрак Всадника без головы — солдата английской армии, потерявшего голову в бою и теперь разыскивающего её по ночам и нагоняющего страх на местное население. Именно этот призрак страшно напугал Крейна во время его возвращения с сельского праздника, на котором он получил отказ от гордой Катрины. Сцена погони Всадника без головы за трусоватым учителем, выдержанная в романтическом духе, воссоздаёт атмосферу немецких баллад и в какой-то мере завораживает читателей мрачным колоритом. Тем более, действие происходит в Сонной лощине, с которой связано так много суеверных легенд. Но и в этой новелле автор искусно даёт эффектную развязку: призрак оказался бравым молодцем Бонсом, намеренно напугавшим соперника, чтобы выгнать его за пределы Сонной лощины и завоевать руку и сердце красотки Катрины. А его «мёртвая» голова на поверку оказалась тыквой, метко брошенной в голову перепуганного Крейна. Незадачливый ухажёр-учитель остался цел, скрылся в дальних краях, где, в конечном итоге, неплохо устроился. В. Ирвинг в этой новелле снова иронизирует над суевериями земляков и поклонников мистики, развенчивая сказки о призраках.
Те же тенденции можно обнаружить и в новелле В. Ирвинга «Дольф Хейлигер». Действие разворачивается в городе Манхэттен в начале 18 века, в среде первых голландских переселенцев на восточном побережье Северной Америки. Заглавный герой— бедный юноша с репутацией озорника и бездельника – поступает в ученики к доктору Книпперхаузену, скупому и корыстному дельцу. Тот приобретает имение, в котором происходят странные события. Арендаторы уверяют, что в господском доме поселились призраки. По этой причине в нём никто не может поселиться. Все жители округи верят в существование нечистой силы и рассказывают о ней страшные истории. Владелец имения не осмеливается приехать туда и сожалеет о его приобретении. О суеверии Книпперхаузена автор пишет с иронией:
«Втайне он верил в призраки и привидения, ибо начало своей жизни провёл в стране, где их особенно много: передавали, что, будучи мальчиком, он будто бы видел однажды в горах Гарца, в Германии, самого дьявола».











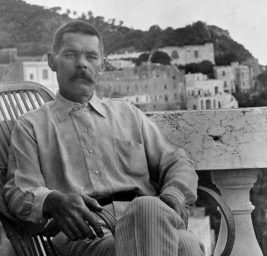








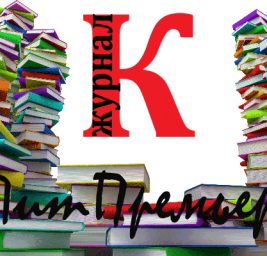







комментария 2
Наталия
03.01.2021Статья Аркадия Цоглина — весомый аргумент в пользу разума и здравого смысла в нынешнем засилье мракобесия, насаждаемым современным телеэфиром. На этот раз он доказывает свою правоту на примере творчества В. Ирвинга, первого американского романтика, одновременно пародирующего в своём творчестве атрибуты европейского романтизма, чьи жутковатые новеллы освещены улыбкой иронического сомнения. Не было никого призрачного Всадника без головы, а голова на луке седла Брома Бонса оказалась простой тыквой. И призрак жениха оказался попросту предприимчивым другом убитого, пожелавшим обманом заполучить себе его невесту. В наше время здравомыслие не в чести, ведь столько шарлатанов и ведущих сомнительных телешоу лишились бы своего заработка. Тем ценнее такие статьи, напоминающие людям об истине, на свету которой все тёмные мистические построения доморощенных экстрасенсов и астрологов рассыпаются как карточный домик.
евгения майзенберг
03.01.2021Очень интересная и своевременная статья Аркадия Цоглина — сейчас, в очередной период «смутного времени» в нашей стране,в эпоху неоправданного возвращения к мистике и иррациональности, крайне важно напоминать людям и приоритете рационального, материалистического начала в жизни и литературе, о логическом объяснении всех «необъяснимых» явлений.