Елена Крюкова. «Раскол. Книга огня». Фрагменты произведения
22.09.2022
(Аввакум и Детство)
Три Лика над временами висят. Смещаются времена многажды и стократ, переслаиваются, жарятся на чёрной сковороде, аки блины… а я всё вижу, вижу самоцветные сны… А я всё зрю да зрю, яко робенком, безпросветные сны — как, грудью противу ветра, в санях скольжу поперёк да восточной стороны; как Солнце, навстречь сам себе по ободу земляному качусь — а шею ко звездам выгнул, инда безсловессный сребряный гусь! Рыба да птица… спицы в колеснице… колёса иных, занебесных телег… мне моё детство все снится да снится, я ведь лишь человек, а землетряс повозку мою колыхает, трясётся октябрь и январь, гудит-дрожит в застенке седая столешница, без пищи, пуста, нагая… жена, хоть к вечере воли изжарь… Хоть немереной, кровавой, вкусной свободы, — с пылу-жару схвачу, обожгусь… зубы волчьи в жизнёшку вонжу… на краю лавки в темнице молчу… с изнанки, свиной кожи, испода… возожгу себя, аки свечу… Три Лика, всево лишь Три Лика, а и кто они, да знамо, кто: один — батька, другая — матка, поперёд родильново крика я, брадатый, битый-распятый, молочный мороз хватаю голодным ртом… А кто ж третий-то Лик? не различу… старик… колыхается мрачным златом линь-щека, скула чешуйчато-морщена, струятся власы-серебрянка… Он глядит на меня краткий миг, всево лишь миг… и мне страшно: взрыхлили небесную пашню, вместо храмины Божьей — гомон, гул, гулянка… А вы!.. Родину нашу надвое раскололи. Разрубили, яко огнём да мечом, надвое — луг, надвое — поле, надвое — сердце: гляди, што почём… Раскол! а и кто там снова жжёт себя в срубе?.. сожигает, Господу Богу во славу, катятся перлами глаза, бормочут вешней водою, поют заполярным ветром губы, вот он, лютый огнь, небесная — на полмiра — держава! Там-то, в небесех, наше Царство!.. наш хлебный кус!.. музыка наша!.. на кимвалах, систрах, тимпанах сыграйте!.. а и што сыграть-то вам?.. полную крови чашу?.. да, Граалеву чашу, испейте вволюшку крови Господней, не умирайте…
Я качусь в санях. Это детство моё катит малюткой-болярином из погибшей в полях, срубовой чёрной бани. Это детство моё везёт меня прочь от себя, уцепившись мохнатым когтистым котом за бечёвку. Это детство, детство моё я все ловлю, ловлю сухими губами, а чрез миг — солёными: плачу морями полынных слёзынек, насыщаюсь великими стонами, ведь нынче лишь во смерти ночёвка… Лишь дорога, дорога, — она одна чрез всю земельку, дорога-дорога! Лишь судьба-судьба, — ведь она одна, моя судьба, другой уж не будет. Лишь Раскол мой, Раскол, всё расколото, от Ада до Бога, — увези мя, Боже, на себя непохожево, во огненной дрожи, снова в детство… увезите меня туда, люди, люди, о люди…
Ох ты, детство моё… на морозе бельё… неба синий котел… уха облаков… плыл осётр, да и был таков… плыла стерлядка, да была такова… на морозе гаснет трёхрядка, скоморошья иней-трава… на морозе гибнут безумные Божьи слова… а я жив… и вера моя жива… власть моя умрёт… а вера моя живёт… синий огнь под полозом, звёздный лёд… сколь страданий ищо, родная моя попадья, претерпеть… ищо жизни треть… ищо вечности треть… бичеваний плеть… погост и поветь… кандальная клеть… окладная медь… люди, я просто в санках козявка, малёк… снег алмазно слепит… путь ночной далёк… путь ночной широк… лёт ночной высок… надо мной, робёнком, во всю глотку хохочет мой Бог…
Закину башку в бараньей ушанке: Три Лика… в зените Три Лика… острее зрак вонзи, прищурься, молись, эх, гляди-ка… Непостижимы… неприступны… присносущны… трисиянны… То Детство моё, то Любовь моя, то Смерть моя: неведомы, мимохожи, без шерсти-кожи, любовью больны, чужестранны… Вчера явлены, нынче сновиденны… в Новолетие вечны, сей же час бренны… То златом иконным горят, то лисьей кистью писаны, будьто парчовой гордыни парсуны… то мерцают, ровно глаголица гнева, ровно заречные молнии-руны… рокочут, ливня лунные струны… А я всё в санках качусь, да санки те уж сами с усами, самобранно, чюдесно по снегу свищут, и я в них сижу, ввечеру — Царь, а поутру — Золотарь, оборванный Нищий, и я, зри, народ, заутра воссяду на Судилище Грозное со всеми избранниками твоими, и я, безпородный щенок, вою жизнь напролёт, из гончих, звонкого лая Царских пород, лишь робячье, заячье повторяю имя — лаской мамки… за звёздной печкой… за треском дров, тепло насыщает кров, ищо ништо не свершилось… ищо никто не казнён, не убит… ищо нигде не болит… вот так, посидим у огня, обними крепче меня, пусть великое небо во срубе горит… немного ищо, во сне, в ночи, в тишине… сделай милость…
(девочка у ночного костра)
О кровь война превыше слов Погибнуть не хочу в мя не стреляй Наш Раскол наш навечный кров Кровь перельётся опять через край Я стала ребёнком я сижу у костра Вернулась древность больна и остра Люди пищу готовят на дне котла Варятся сегодня завтра и вчера Малютка тихо близ огня сидит В отрепьях одели спасибо народ Малютка тихо в огонь глядит Сердечком сложен ея скорбный рот Огонь отражает ея в ночи Златым зерцалом красным стеклом Девчонка скажи что-нибудь не молчи Нам крики и слёзы всё поделом Старуха зачерпывает из котла Старинным половником в миску льёт Жизнь кровь смерть дым пулю из-за угла Живая цель недолёт перелёт И девочка тихо миску берёт Из рук старухи и тихо ест Ночной мороз и созвездий ход Грохочут разрывы окрест окрест Война про тебя и сказать нельзя такая ты страшная никому Огонь отражает мои глаза Текут мои слёзы кровью во тьму
(Аввакум и я: речи наши)
Она мне денно и нощно баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матерьи, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чюдовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и беспрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разевает, штобы к Богу Господу воззвати.
Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее. Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеши зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем — нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древняной лодьи подземной восстанеши лишь на Страшном Суде!
А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога — не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.
Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самово Времени нет как нет?
А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Аттике гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился — да там и пропал… И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин…
А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановитися ему, не прерватися: он нас всех побороть хочет.
А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеши под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувыркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею… Ежели кровь наша с нами — не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!
А она внезаапу предо мной на колена встаёт. На мя взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будьто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывёт Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея — не признал… Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Всю жизнь она зрит — вашу и мою.
…Мiръ медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мiръ, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и миръ. И война будет постоянной, а миръ будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у мя за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мiръ станет лют. Мiръ станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.
…и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чево уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, покаяньем?..
А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.
Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и Солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, што время течёт рекой. А там — сумасшедший покой.
Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь — к себе, а хочешь — к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается, играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится… беспечные пляски, румяные лица! На рукаве — птица-синица жизнию прежнею снится… И вдруг — раз!.. — и канет… розой увянет… перловицей манит… плясать не престанет…
Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт — копьём навылет летит. Он един. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копьё летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слёз. То Время тяжёлое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовь. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодари за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Чрез Триоди и Святцы и землянику могил.
А вот и четвёртый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака — тайна. А мне — любим и свят. Для нево одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.
А пятый Времени слой… о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времячко движется вспять. Вспять — для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд — то назад. А потушенные свечи горят. А убитые — воскресли. А порицаемый — свят. Ежели жить заново… ежели… коли родиться вдругорядь… споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать…
Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд — всё захлёстывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает омофором. Всё заключает в объятья. Все — родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём — сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас — двунадесятью языками — говорящее. Нами — языками огня — в предвечной ночи — горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течём, притекаем, в нево реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своею радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы — потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым… для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало…
Оборвала речь бессвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из утлово тела. Я молчал; а што было говорити? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнутися, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будьто я бессмертен меж смертными всеми, будьто я не протопоп жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене… да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желаешь, да будет то больно, а не забоишься? не захолонет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо… я пошутила, отче… я ж твоей пятки не стою…
Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сей час. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ищо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.
(Аввакум и кровь)
Людие, людие. На ково вы делитеся? Вот и я хотел бы узнати. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистощим, а Господь нетрепетной руцею Своею бросает в Мiръ, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывают, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля — авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племён, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка — признак живово. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоея любви; ты не снесёшь моея смерти.
Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче — об ихней смерти. Смертушка. Я во мнозих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонушке — везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё — говорил.
Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самою душою — думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю. Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!
Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.
Хотя находилися округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черёд, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашёптывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.
А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошеяя, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнём горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленах предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон целитель. А под дровёшками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моево Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажати рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзити — а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица моево, лик вьюныша святаго! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во всея жизни единственное! Я застыл. Яко изо льда фигура на бреге холоднова озера. Гляжу на святаго Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожили люди ищо на земле, — а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, урода, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божием храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!
И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготавливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице моё было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая… Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ищо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ищо будет! Так зачем поперёд веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?
Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда… а на порог взошёл болярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детями на сенокосе была: как раз тою косой, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло всё стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она — на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.
И ссилился тут я, и приподнялси тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што — не срок мне нынче. Ищо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале итти. Дале! Ступай с миромъ! Отыди с миромъ!
И она отошла.
А на другой день явилися в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице — Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взахлёб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня… кровь… лилась… во снег и грязь… и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь…
Наша беда — мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы — поздно — везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем всё в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!
Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы… на краю бытия…
Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она — теперь у тебя, человече, одна. Когда, о, когда же, когда пробьёт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнём вспучатся все материки… а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки…
Когда, о когда, в самом деле, по-настоящему мы умрём, от лютой ли хвори, Господи, моляся пред Твоим алтарём, разобьёмся ли, кони вдруг понесут, али нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем… ни годов, ни часов, ни минут… Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти — мгновенье твоё последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб… Ты мнишь себя безсмертным, ты, ветка краснотала, безконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зерцала, твоё мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она… а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна… Смерти никогда нету в настоящем; она явилась — а тя уже нет! О радость! огнь молящий, палящий… на тыщу живых вопросов — один погибший ответ… Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, посмертно Господь подтвердит ея правду — Крестом… Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; голоса их в небо идут; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела: ищо час, ищо пять минут… Ты воззри на себя из будущего, человече! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак… Так человек осознаёт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь… Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе… таков убийства чёрный огонь… Ты убил котёнка, чижа, жука… утку на первой охоте… ты убил человека, чужово, родново… слыхал ево дикий стон… ты не Бог, а жизнь отнял… смерть, непостижная! ты над нами в полёте. Ты наше завтра, но тя даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут сбиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то всё равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённы поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человече смертный, кровавый такой, а кровь, она же бессмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас — у нас, у крови весёлого гона, у родильного стона, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея — заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза… Умирает старая кровь, ежели новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, эоны, книги в старой телячьей коже… древлие грозные льды… Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она — живая! И, живую, ея попросить… ей взмолиться… штобы мимо — ея следы… Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым… за тебя принимаем чужие страшные лица… лица, лица, лица людские… улыбки, морщины и кровь… красново снега тяжелый ком… Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит… может, в небо красной хоругвью взмывает… надо всеми, над Мiромъ моим… кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе… не кручиньтесь… ведь смерти нет… глядите, лишь кровь и дым…
Только дым и кровь, только древлее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до безсмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить новаго Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся безсовестно грешная, жаркая, бешаная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся — потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.
(ещё немного)
ещё немного потерпите ещё немного сражайтесь веруйте любите молитесь Богу последней вашей смертной битвы уж срок назначен читайте мальчики молитву душой горячей мужчины тоже плакать могут когда смерть близко сынки молитесь ночью Богу ведь ворон низко летает вьётся чёрный ворон и ждёт добычи Бог вот Он тесно рядом возле душой синичьей молитесь мальчики креститесь свет возымейте собою крепко Мiра нити Раскол прошейте прольётся кровь о как вас много на поле ляжет да люди после вам и Богу спасибо скажут поймут судьбу кровопролитья все знаки Бога ещё немного потерпите ещё немного
(протопоп и боярыня Морозова)
Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратилси. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я чрез головы всех воззрился!
…да и понял живёхонько, што к чему.
Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.
Куда? На суд? Опосля суда — приговор исполняти?
Каково я здеся-то оказалси? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе… Ничево не понимал, однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею — мимо мя, грешново, неслися.
Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси — и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчушке безымянном — рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь — с голоду помрёт, а воскреснет она.
Везут! Везут, Господи… Укрепи ея, поддержи ея… Любимицу мою, ученицу смиренну… Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищалым — кров давала; безверных — верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих — надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!
Мимо, мимо розвальни… На снегу сидит, скрючившися, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугунных цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будьто услыхал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дщерь Твоя за Тебя нынче — на смерть идёт!
И глядел я ясно вперёд себя, и нашёл глазами в санях — лице ея.
…И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами — к перстам… Гудит жерло толпы. А в горле — хрипнет: “Исуса — не предам”. Как зимний щит, над нею снег вознёсся — и дышит, и валит. Телега впереди — страшны колеса. В санях — лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней — болярыня, двуперстье воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, — сгниют в земле, умрут… Так, звери, што ж тропою ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенщиков, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, — гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!
Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес — отвес — на руку, исхудавшую убого — с перстнями?!.. без?!.. — так льётся синью, мглой, молочной сластью в солому на санях… Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на соломе, ржавой да вонючей, в чугунных кандалах, — и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова — в Мiру в палачьих розвальнях — пребудешь вечно гостья у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Ево читала всей кровью — до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдя обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своево любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два пьяных ломают воблу — в пол-руки!.. — вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз — ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою — Христос.
И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом — в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольново огня, от вставшево из трещины кострища — ввысь! до Чагирь-Звезды!.. — из сердца бабы — эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.
Горит, ревёт, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огнь — он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег — в яму и тюрьму, на розвальни… на рыбу в мешковине… на попика в парче… Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица — на плече… Как поцелуй… как нежный, неутешный степной волчицы вой… Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распятье над бугром…
…И — катят розвальни. И — лица, лица, лица засыпаны сребром.
…и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули засвистят… Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинище старый, годами трёпанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовию. А я стою, в раздумье тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь — вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститися! А што взамен тово?!
Везут… везут мою дитятку духовную… везут мою цариценьку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку… в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она… она не покачнётся… руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея… и — вижу — двуперстие из пальцев исхудалых складывает… и ищо выше, выше тянет… вот же оно, вот — Исусово крестное знамение! Исусов знаменный роспев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья — брёвна стоеросовые, тя везут — ах, знаешь ли, куда?! на што?..
…и тут болярыня моя на мя — свои широкие, будьто лопатою выкопанные на метельном лице тёмныя очи — перевела.
…узнала. Она — мя — узнала!
Споведала!
Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови собольи на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины — глядела, и со светом Божиим — прощаласи.
А длань с воздетым двуперстием — не опустила.
Так и сидела с подъятой рукою, толпу плачущую, ропщущую крестя.
Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночною вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилося, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своея хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!
— Аввакуме!.. отченька…
Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провождала, тот возглас сирый, тот стон прощальный услыхала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущево человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обымаетесь на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженново. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающею с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал — всем.
Всем сущим.
…не сознавал, што же такое со мною.
…чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.
…и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрачками вдаль провождающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашево Исуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, огромадные Три Креста, и на одном, в самой средине, в средоточии Мiра видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздями приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево — два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!
Да што там: сам Господь на Кресте — их, татей, простил!
И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший — Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слышу я напоследок, прежде чем розвальням во клубящейся метелице навек исчезнуть, этот ея пронзительный, высоко летящий крик:
— Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём!..
И тогда я не знал, не ведал, што со мною сотворилося. Вскинулся весь, будьто птицею я стал, тварью пернатой, и все перья на теле моём хладно, могуче и празднично подъялися, и окутался я облаком то ли вьюги, то ли дыма, то ль воскурений снежных, небесных. Ангелом на миг я стал. Преисподню на мгновенье стал зрети. Весь Мiръ, инда яблоко, стал держати на ладони. И сам — в тот весь Мiръ разом обратилси.
И я, сиречь весь Мiръ, так болярыне моей возлюбленной крикнул, глотку надрывая, изо всех последних силёнок:
— Нынче же будеши со Мною в Раю!..
И это раздалось, раскатилося по всей белой снежной земле, надо всей колышущейся толпою:
— Ю-у-у-у-у-у!.. ю-у-у-у-у-у…
И не устыдился я, не засмущался, што я на глас Господа Бога нашево свой глас положил; я ведал-знал, што именно так и надобно крикнуть.
Другово прощанья нам с возлюбленной дщерью моей было не дано.
А вот таковое — назначено.
Имеющий уши — да слышит. Имеющий душу — да простит.
Прости, спаси и сохрани мя, Господи.
…так бормотал я, уходя со снежной, тысячью ног притоптанной площади, с когтя-загогулины птичьей улицы, уходящей во смерть и в никуда, от следа дико визжащево санново полоза, а из розвальней у болярыни свешивалась медвежья полсть, тепла была, да вытерта до дыр, насквозь, старая медвежья шкура, да я согласен был, штобы с мя шкуру содрали и болярыне моей на дно розвальней — бросили-положили: штоб тепло ей было, любимице моей, штоб закрыласи она мною от ветра и острой снеговой крупки, што посекает голые руки и лицо, оставляя на них ямки, выбоины, оспины; так шептал я, и шёпот мой заглушали мои шаги, я тяжело ступал по снегу, скрип-скрип, хруп-хруп, уходил от прощенья, прощанья, от ненастново виденья, от метельново колыханья, от памяти и забвенья, от рода, племени и званья, от всево и вся по именам называнья, и я старался, идя, всё забыть, всё простить, што было и чево не было; я шёл и молился, штобы болярыне моей в ямину каждый день горбушку хлеба бросали и тем жизнь ея продлевали; а потом стал молиться так: Господи, не дай ей мучиться черезчур длинно, возьми у нея ея жизнь поскорей, ибо пришла она к Тебе с повинной! И люди текли, бежали, катились, летели, ковыляли округ мя, за мной, впереди и рядом; и не было сил провожати их взглядом; я их только душою чуял, только телом тела их жаркие, тёплые, старые, юные видел, шёл вслепую, напропалую, ко себе самому в могучей толпе наконец приидя, шёл один, а как будьто все разом, шёл один, али тьмой тем, уж не ведал, а на мя косил некто Молчаливый, Безымянный волчьим глазом, ступал за мною по следу, а метель вихрилась, била ладонями мя в лицо завируха, и шептал я безсвязно, Господи, помоги, сделай милость, и улыбался, и плакал тихо и глухо.
(Аввакум и Смерть. Предчувствие)
Я бы хотел умереть не как святой, но я хотел бы узнати, когда ко мне будет приближатися моя смерть. Я не отважен, мя объемлет страх. Я боюсь, Господи Боже, помози мне, ибо я вижу и знаю, пришёл мой конец, так бы я желал сказати пред уходом моим царственным али нищенским да ничтожным. Каково оно, сие царство, там, на смиренном кладбище, во вечной теремной горнице усопших праотцев? Тебя увозят во гробе сосновом: последний твой путь по земле. Кто чует приближение часа своево, егда жалостливо просит: отступися, смерть, али покорно: встречаю тя, смертушка моя; она привычна нам, откупиться бы, да не отсыплем мы ей во костлявую горсть никаких грошей, ни меди, ни злата, штобы выпустила она нас из ея когтей. Совершаем обряды, поём исправно, людие, и служим панихиды да литии над опочившими, над мертвецами. При всём честном народе возрыдаем о них. Бабы воют; ахти, плакальщицы, плач ваш велик есть, смерть, быть может, то свадьба, то одр брачный, тайнозримый брачный чертог и всю жизнюшку жданная Брачная Вечеря; ты обнимаешься с Богом самим; а телеса, што ж, они спят в земле да спят. Плывут в песчаное да глинистое подземье во дощатых лодьях. Час приидет — восстанут на Страшном Суде. Верую… Во што я верую? в Ад и Рай? Да, я верую во Господа моево, в Ад и Рай. Я хотел бы, штобы от Ада земново до Рая небесново провёл мя Тот, Кто безсмертен воистину; объяснить Он лишь всё мог нам без истления мысли Своей, во древлих книгах киноварными знаками записанной; а нынче што? Теперь все святые дома Господа нашево Исуса, все храмы Господни осквернены. И война! Война! Никонияне нам вопят: вы еретики! еретики! ересь! ересь! Мы им в ответ кричим: еретики-то вы, еретики и нечестивцы! погубители земли Русской и веры Русской! Ересь ваша, ересь!
И вот война началась. И вот война идёт.
Огнём, дымом, пламенами неистовыми бежит война, катится по родной земле.
Богородице Дево Марие, пусть война! я покорен. Я опускаю главу пред неведомыми временами, а вижу, всё вижу огонь. Я хочу огонь мой, красново волка, приручить. Я хочу приручить, яко диково зверя, мою смерть. Я о безсмертии людям хрипло глаголаю во храме. Недаром же я протопоп; я под защитой у всех моих святых, у всех святых моево рода, ибо люди рода моево святые. Молитися святым мертвецам, вот подлинное поминание! Сколь погостов разрушено, сколь гробниц разграблено! Мёртвые лежат, окутанные молчанием. Внутри ограды возводят новые кресты, кладут гранитные плиты, усыпальницы Царей не похожи на могилки бедняков; а иду по лесу, сбираю грибы в корзинку и вижу: крест-голубец высится в одиночестве, никто к нему не подойдёт, никто колена не преклонит, нет; никто пред ним не помолится. Как быть живому, живущему? Какие захоронения, какие погребения ждут павших в бою? Их белые святые кости так и истлевают во поле под недрёманым оком вечного бездонного неба. Вокруг любой храмины кладбище имеется; там каждый лежит во своём гробе, яко в своём доме; недаром гроб наш зовётся домовина. А как быти тем, кто погребён во братской могиле? Жизнь и смерть, тако тесно, неразъёмно связаны они. И вот неровён час, чую, она явится ко мне в гости. Я должен говорить с ней; какая она на вид? Череп голый, костяная клеть, накинутая на плечи костлявые дырявая холстина? А может статься, она девица красная, закрыла ввечеру оченьки свои, а ночью тихо ко Господу отошла, и не поняла, што умерла во сне. Како быти во посмертии, што тамо делати? Вижу огонь. Вижу мою смерть. Слышу, бьёт мой час. До последнево вздоха жизни моей сохраню память о жизни. Память оборвётся, и свечою нагорелой сгаснет бытие. Каждово ждёт конец. Каждый помнит: будет Второе Пришествие, и Страшный Суд в конце времён, когда все народы, все люди, вся земля, все до единово прочтут Книгу жизни, разберут по слогам Всемiрную Псалтырь, где сияют и рыдают всемiрные песни; там начертано киноварью-кровию всё, што мы пели, о чём плакали, ково любили, с кем сражалися, сие суть Псалтырь войны и любви, смерти и возрождения. Одиночество есть искусство умирать. Я знаю. Читал то между строк Псалтыри великово певца, безсмертново Царя Давыда, богоравново песнопевца; в иные сферы, Царю Давыде, ты свободно, лехко возносился, да о смерти, яко все мы, в тишине помышлял. Я видел однажды образа чюдные: далёко в Сибири стоит старая церковка на бреге Байкала, сработана топором без единово гвоздя; вошёл я туда и увидал на иконе Иуду Маккавея, и намалёвано было на златом горнем свете неведомым богомазом: ТО ИУДА МАККАВЕЙ МОЛИТСА ЗА УСОПШИХЪ; а другая икона изображала Око Недрёманое, Вселенское Око, острый Глаз Божий, коий зрит насквозь весь Мiръ, Вселенную всю, радостную и страшную; а на третией иконе, близ самово олтаря, близ Царских Врат, на северной стене, я увидал Страшный Суд: внизу иконы Христос спускался во Ад и шествовал по Аду в нарядном хитоне, половина хитона красная, половина хитона синяя, а обочь Ево грешники коленопреклоненные тянули к Нему руки, а выше, над главою Ево, сидел Он сам, молодой вьюныш, отрок прекрасный, а рядом с Ним, ошую, юная Мария, а одесную Ево пророк Илия, и спокойно и печально взирали они, Предвечные, на праведников и грешников.
Все умирают, безсмертных нет. Страх пред Адом сильнее страха пред самою смертью. А страх пред болезнью, пред страшной заразой? вот идёт чёрная чума, вот идёт Великий мор, и люди, вдыхая отравленный воздух, уже приговорены. Мы заклинанием хворь: уйди обратно! Иди туда, откудова пришла! Мы хотим праздника! Мы смерти не хотим, потому и похороны мы обставляем яко праздник: мы празднуем уход человека, мы угощаем всех, на поминки притекших, вкусной едой, мы пьём хмельное питьё, мы даже обнимаем и, яко во Пасху Господню, при погребении целуем друг друга, утешая. А слёзы всё льются и льются. Есть ли вера в вечную жизнь, когда рядом смерть? Пред тобой длится в веках только смерть, а жизнь не продолжается никогда. Да, но я, грешный Аввакум, боле жизни люблю жизнь. Я люблю ея тако же, како люблю смерть. Не раз я глядел в безумный и безглазый лик смерти моей, простирал к ней руки и рек: здравствуй, возлюбленная моя, вот я к тебе пришёл! Прими мя таково, каков я есть! Нет греха на тебе, ежели ты таково сильно любишь Бога, ведь смерть это не враг жизни, и может статься, то не враг Бога, может быти, то другой лик Бога, тако же, како Луна во ночных небесех висит сребряным льдяным яблоком, и смотрим мы в сияющий светлый лик ея, што там, за ея затылком: новое воплощение Духа Божиево, собрание неизречённых ужасов, общее благословение, всякому отрада? Оборотная сторона, всё так же, како и при Христе, мы не видим ея, и она не видит нас; яко Луна в ночи, приходит смерть. И жизнь всё та же; человек уходит в землю, а та жизнь, коею жил он рядом со ево близкими, роднёю ево быстренько забывается; семья ево старится, и пред нею уж разверзается вечная пропасть; а не желает человек старости покоряться; старухи бабёнки щёки себе свекольным соком мажут, губы морковью красят али пылью битово кирпича, всё стремятся вдругорядь девицами глянуть; трудно духу смириться со словом, а со временем сдружитися ищо труднее; тяжко сказати самому себе: когда-нибудь тебя не станет. Люди, умирая, просят: положите мне с собою во гроб любимую безделушку; ожерелье, што мать дарила, крестик нательный бабкин, охотничий нож отца моево, наливку, кою дед мой готовил, в погребице запрятана она, в погребице, выньте ея оттудова, налейте в бутыль да мне во гроб и засуньте. Да помолитесь, помолитесь за мя как следует! Да на поминках моих вы кутью с изюмом, блины с грибами, кашу гречневую, щи кислые ешьте, за обе щёки уписывайте, да молитесь, молитесь Господу и друг друга боле не проклинайте. Пред лицем смерти все равны; все пред смертию народ Божий. Вот храм; сей дом Бога для тово выстроен, штобы мы, внидя туда, почуяли себя в гостях у смерти, тут она хозяйка, во храме, и мы, живые иереи, глас возвышаем над хором живых и наполняем радостью восклицание наше, литургисая: СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМЪ СВЕТЪ! Разве, смерть, ты свет? ты всегда была тьмой, во все века ты была тьмой, и никаким сокровищем от твоея тьмы нельзя было откупиться, а люди всё шли и шли паломниками во святые места, вымолить у Бога ищо кусочек жизни, отодвинути тьму молитвой бедной, насущной, инда ржаново горбушка. Кто и завещание загодя писал, а я бы хотел, штобы могила моя была безымянна, и завещания никаково не зачну строчити; то, што я пишу, есть моя жизнь, то, што я пою, есть моё бытие, а там, куда я скоро уйду, нет ни гласа возвышенново, ни гусиново пера, ни чернила густово, ни слёзынек среди ночи: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Думал я: ах, смертушка моя! Долго думал я о святых. Почему простой человек вдруг становился святым? Да потому, што он есть возлюбленный смерти. Он обручился с ней, он шёл с ней бок о бок, все они, и столпники, и преподобные, и святые мученики, и страстотерпцы, и равноапостольные, все они жили словно бы в семействе многолюдном, огромном, но уж не здесь, а за гробом; и вот нынче за гробом существует сия огромадная семья, семья святых, их тысяща тысящ, их тьмы тем, и я стал священником не только потому, што отец мой Пётр батюшкой пребыл в сельском храме, а и потому, што хоть служкой маленьким, рабом неприметным к тому семейству безсчётному святых, в земле Русской и в иных землях просиявших, чаял прилепиться. Вот пою я псалом, будьто бы из теста жаворонка Пасхального леплю; жёнка моя Настасья из замеса тово детишкам разные забавки лепит, и жаворонков, и ёжиков, и белочек, и рыбок. А я взираю мальчишкой малым на то семейство святое, што за необъятным Всемiрным столом, усыпанным звёздной мукой, восседает, и меж собою они радостно перекликиваются, и меня, иерея, псалом поющево, мальца, под столешницею, навроде кота, сидящево, никто не видит.
Смерть, она сей же час войдёт, готов ли я встретить ея, готов ли я сказать себе: я во сей миг умру, уйду навсегда, навеки, и гусьим пером моим поставлю во книжище точку: то конец. В моём конце моё начало. Капает на бумагу не чернило, кровь. Я пою о смерти, не знаю ея. Имею ли я на песню ту право? Смерть, она моё утешение, и она моё устрашение; она моя молитва, и она мой вызов небесам, моё с ними единоборство. Я вступаю со смертию в борьбу лишь для тово, штобы прижати ея к моея груди, крепко обнять и сказать ей: смерть, я твой! На лице моём грядущая смерть вырезает новые морщины, то мои святые письмена. Она изрекает мне: я приближаюсь, я тут, я уже рядом; но я всё медлю. Я перейду черту, когда огонь ко мне вплоть подползёт, когда цвета крови станет моё нищее жидкое чернило. Я не узрю, как сверкает грань бытия. Когда-то матушка и батюшка породили мя на свет Божий, и каждую малую минуту я медленно, медленно, по капле отдавал кровь жизни моей Мiру, в коем жил. Я медленно преставал жить, я и сей же час престану, когда совершится окончательное превращение, обращение моё в чистый Дух, посвящение моё небесное, рукоположение моё звёздное. Часто чую: плыву в лодке. Хочу спеть смерть, да глотка моя слаба. А лодка моя крепка. Это не тот дощеник, што посреди сибирской реки жалко утонул; крепок я телом, крепок духом, закрываю глаза и пробую представить себе пустоту; я охотник, вот заяц прячется за моею спиной. Я оборачиваюсь, заяц прыгает вбок. Я хочу скинуть со плеча лук со стрелой, а заяц земной стремглав убегает от мя, зато сбоку подходит, неслышно скользя по тропе меж травы, страшный зверь небесный, цветом мрачнее тучи; егда небесный волк прыгнет, тогда я перейду границу, острее лезвия, между Мiромъ и Мiромъ. Мысль моя остановится, и замрёт всё сущее без движения. А душа зачнёт из тела на волю выходити, и, возможно, она выйдет прямо в память небес, возлетит, радуясь Великой Свободе. Смерть яко любовь. Нельзя объяснить любовь. А любил ли я? Любил ли я мою жёнушку Настасью? Может быть, я во всю мою жизнь любил единую мою духовную дочерь, мою Федосью Прокопьевну болярыню. Ах, болярыня, болярыня, што ж ты со мной содеяла? ты первая ушла туда, во тьму надмiрную; ты первая породнилася со смертию; она тебе крикнула: войди! — и ты вошла. И теперь ты там, по смерти, стала маленькой девочкой, и играешь с великой Царицей Смертью, ровно с робёнком. Нет, это матерь Смерть играет с тобою, яко с дитятей, яко с милой, любезной доченькой своей. Желанная ты для смерти игрушка, Феодосия Прокопьевна! Како же нам быть? Я вижу мою смерть, я зрю огонь, но я не знаю, егда сгорю; аль мя на казнь повлекут и ко столбу цепями привяжут, дров горою навалят под натруженными ногами моими; аль изба воспылает, свеча упадёт на пол, и затлеет кружевной подзор, и огонь обнимет наше с Настасьей супружеское ложе, и закричат благим матом детки, да поздно будет выбегати на волю и спасаться; гореть до конца, до презренново пепла станет моя изба. А может, из мглы времён восстанет сруб, в коем не предавшие веру отцов подожгут себя, штобы в огне ко Господу Богу уйти! Подожгут сруб тот скорбный, лодью погребальну, с четырёх сторон, штобы ярче, громче, быстрее сгорел! а вдруг, людие, я сам есмь огонь, и сам на себя смерть мою навлекаю, такое тоже бывает! Тебя родили на свет и уже приговорили к жизни, и родимое пятно твоё на спине али груди, это смерть твоя, на тебе неотвратимым знаком проступает! Я частенько думаю, как человек убивает человека. Да можно ведь убить не токмо копьём али мечом, огнём и пулею, но и словом можно убить; даже песнею убить, с коей воины идут на смерть. Война! Она началась. Она идёт. Люди опять убивают людей. Во имя жизни? Во имя смерти? Смерть пытается обнять дитя, похитить девушку, забрать с собою в чёрный мешок немощново старца. Я вижу голый череп и разумею: то мои кости. Я вижу их из неведомово времени, в коем никогда мне не жить. У мя нет глотки, штобы спеть иному времени песню. У мя нет памяти, штобы ея запомнить и отдать незнамым людям. Я растерзан, сердце моё разорвано, Бог мой во тьме кромешной, скрылся от мя, севодня, именно севодня Он спустился во Ад, а смерть, она поднимется ко мне из Ада. Я должен обнять и смерть, и жизнь. Я слышу, как мне кричат: не умирай, Аввакум! Останься с нами! На земле таково прекрасно, здесь светит Солнце. А ты сам закатишься, яко Солнце, и на Мiръ опустится мрак. Не умирай, значится, Солнце! То я, я, так выходит, подлинный свет, я есмь и подлинная скорбь. Сие тоже я, я; я улыбаюсь, я смеюсь над собой; я знаю: вот сей час раздастся стук.
(свет перламутровый)
Раковина, перламутровы створки. Жемчугом скатным вспыхнет душа ли, тело. Жить порою невыносимо, скорбно; а порою отчаянно, счастливо без предела. Раковина. Нынче вновь открылась. Распахнулась… а там, вот бы в тиши помолиться… эти руки, обнимающие пустоту и милость, эти тонкие пальцы, на полмiра очи, ясные лица. Эти девушки. Юницы… кожа да кости… бестелесны лилеи… ещё чуть, серафимы… Эти души живые, в сём Мiре гости: как мы все, сонмы любимых и нелюбимых. Одна девушка, как там тебя, Жизнью зовут тебя, что ли… я забыла… ну правда, забыла напрочь… а другая Смерть, без вопля, без боли, лишь улыбки нежной, хрупкой речная наледь. Слышишь, Пасха?.. движутся в тумане красные кони… и пекут опресноки, нет, куличи… кагор разливают по стаканам-рюмкам… кто там вдали стонет… эта девушка… не бейте… она ещё живая… Ты ещё живая, Жизнь!.. тебя убить не посмеют… ты жемчужина Царская в Раковине столетий… я от боли немею, от слёз косею, я гляжу, как глядят мёртвые дети… Раскололось?.. срослось?.. Господи, я не знаю… две нагие девицы, жемчужины в перламутре Мiра стального… вы возьмитесь хоть за руки… а вдруг пуля шальная… и тогда не начать нам наш праздник снова… Наш Двунадесятый. Наш колокольный. Тихо Раковина поёт. На ветру. В метели. Мне давненько не было так чисто, так больно. Светит жемчуг. Мы так победить хотели.
Раскололи нас — а мы съединились. Разрубили нас — обнялись смертно, голо. Светит Раковина, Царская радость и милость, на исходе заката, на бреге Раскола. Я стою пред ней в снегу, на коленях, плачу. Нету голоса. Нет звериного следа. Только сердце осталось, и слёзы впридачу. Люди, радуйтесь, люди. Наша Победа.
(детство, время и Байкал: ино ищо побредём)
Всякий из нас, живущих, робёнок. Детству конца нет и краю, и я дитя тож, дитя малое, неразумное… матушку вот вижу яко чрез туман, батюшку. Да разве это так важно, мне их сей же час увидать… их нет давно на свете. А я всё робёнок, хоть возрослым себя чту; хоть мудрым змием, волком матёрым у людей числюся. Много, несчётно людей, толпа бескрайняя глазами на телеса мои глядела, зраками буравящими в душу мою заглядывала, а робёнка, дитятю тамо не узрела. То, што дитя я-то, грешный, видит только Бог; и, значится, Он мой истинный родитель, Он мой отец, и я Ево сын… ересь говорю, тако еле слышно сам себе шепчу. А возвернулси бы я в детство моё, отмотал бы жизнь назад? Да нет, разве ж позволено человеку время вспять бабкиным клубком размотать… мы все идём по лезвию времени, мы живём вне времени, мы понимаем, не умишком жалким, нет, а чем-то иным, неизречённым, што нет времени, мы застываем на краю времени, мы беседуем с болью времени, мы лечим, обвязываем снеговою ветошью страдания времени… подносим времени ко рту нашу ягодную наливку, сладчайшее вино: отпробуй, времячко, глотни нашево вина… жалок кровавово вина в бутыли, в чаше ищущий, а кровушка наша, кровушка моя, кровь дикая, неприручённая помнит всё, она течёт временем, время это кровь… кровь это безвременье, то время, што давно опочило во широких, во глубоких небесах, и спит тамо уж целую вечность. Изыди, сатано, восклицал я в молитвах моих, в мiрах чужедальних, и повисал тот жалкий возглас мой между временем и безвременьем… во времени кто ево услышит? А в безконечности он и так в Божьем зерцале, синем небе, отразится весь, сполна, крик мой, вопль твой, человечек. А во весь рост восставший человек есть время. Наизусть помню Откровение Иоанна Богослова: и небеса совьются в свиток, и времени не будет. Вот пишу, говорю, кричу, шепчу. А кому нужны будут сии письмена за горами времён, за долами годов и веков, за тьмою тем боли? Призрак времени проходит мимо нас, грешных, и уходит в такой неподобный мрак, што не пронзить никаким человечьим взором. Ни дух наш, ни зренье наше, ни воля наша, ни смерть наша те грядущие времена рыболовною сетью не измерит, не зачерпнёт. Неважнецкие мы рыбари; не ловим мы золотую, сребряную рыбу времени; и я тож такой неумеха, и не ведаю, каким смертным путём прохожу во времени и по какому ево краю, по какому острию ево, по лезвию какого ножа ево, ево топора огромадново голыми стопами медленно, како в тягостном сновидении, двигаюсь я. Ищо шаг, ищо маленький шажочек… ступни мои изранены в кровь, кровь течёт, это мои стигматы, это мой ход. Я во времени иду и ноги все изранил, будьто босый по льду Байкала шествую, ветром култуком до пепла сожжён. Жёнка моя за мною ковыляет, еле поспевает, спешит-спотыкается, чуть не кувыркается. Да вопит, вопит на весь мир Сибирский, кедровый-подлунный: погоди-погоди, эй, протопоп!.. оборачиваюсь к ней, да изроняю слово из брадатых-мохнатых уст моих: што, Марковна?.. пошто останавливаешь мя?.. зачем останавливаешь время моё?.. Она мне в спину, укрытую толстым овечьим тулупом, снежки криков своих, воплей своих бабьих бросает, швыряет: долго ли?!.. долго ли!.. долго ли, протопоп, ту страшную муку принимать нам с детьми нашими малыми?! извелась я вся, измучилася!.. сей же час на лёд животом лягу, замру, да так и замёрзну! А вы все идите, бредите, ступайте!.. ваше время ищо не настало, час ваш ищо не пробил! А меня, грешную, на льду озера тово клятово оставьте умирать! Киньте-бросьте мя туточки!.. Долго ли протопоп, мучение сие принимать?! И тогда остановился я, и престал идти по озёрному толстому льду; слышал душою и видел воспалёнными очами, как подо льдом, в смертельной глубине, в холодной воде ходили медленно, шевелились, тягуче перебирали зимними плавниками могучие страшные рыбы, и подошёл я к Марковне, а она уж на льду валялась, рыдания сотрясали ея исхудалое тело, подняла она лице своё ко мне, и увидал я, што щёки ея ввалились земляными яминами под череп, ох, оголодала бедняжка, последний кусок дитяткам отдавала, истомилася, измучилась в край, и протянул я жёнке моей руку и помог ей встать со льда синево, лазоревово, порошею мелкой присыпанново, исчёрканново полозьями и подбитыми железом сапогами воинскими… шаталась моя Марковна, обнял я ея за плечи и прижал к себе, крепко прижал, будьто вжати ея внутрь себя восхотел, и прижалась она ко мне не како к человеку, к мужу ея живому, а како всё живое, обречённое на смерть, прижимается ко мгновенной жизни и убегающему прочь времени, и прошептал я на ухо жене моей, крепко, железно обняв ея на страшном морозе: до самыя смерти мука та нам, жёнка моя, и воздохнула она, как опосля плача бурново, безумново, захлёбново, таково прерывисто, яко дитя малое, жалкое, на морозе дрожащее, и вымолвила, лице своё близко, яко горячий медный потир с Причастием Святым, поднеся к моему лицу: ну што ж, протопоп, ино ищо побредём.
(военные колядки)
Я иду по дороге войны. Сбиваю ноги в кровь. Ход, ведь это и есть любовь. Не останавливайся! И я иду. Мальчик держит мя за руку на ночном холоду. Обочь руины. Расстреляно всё. Святки. Катится звёздное Колесо. Знаешь, мне уже всё равно, быть или не быть; но мальчик ведёт мя, просит есть и пить, на моём родном, на чужом языке, моя рука в его руке, его малая жизнь дрожит в сожжённой жизни моей, он мне песню поёт, святочный соловей, так мы колядуем походя, по пути, я не спрашиваю, далеко ли идти, соловьиные звёзды, алмазный придел, люди Мiръ расстреляли, никто уйти не успел, а мы идём, под ногами снег, запомни мя, мальчик, прежде всех век, я твоя матерь Жизнь, нам матерь Смерть не нужна, постелем белую скатерть, и кончится война, споём у калитки колядки, нам вынесут красные пироги, идём с тобой без оглядки, рисуют звёзды круги, так пахнет кровью ли, дымом, горелой доской бытия, идём, мой мальчик любимый, колядка живая моя.
(Аввакум и Бог. Разговор с Богом)
Господи Боже мой! Господи Сил! Редко вот таково беседовал я с Тобою. Говорил я с Тобой каждый день, разгонял именем Твоим лютую боль, а вот скоро, чую, пробьёт мой час. Никто не знает часа своево, когда наступит Твоё торжество. И я нынче готов раскрыть Тебе сердце. Граблями мыслей, воспоминаний пройдуся по судьбине. Нет, Боже мой Господи, не надо мне в час сей ничево воспоминать. Тебе исполать, Тебе душу пред концом открывать. Дай мне знак, што Ты слышишь мя! Дай мне знак вспышкой огня. Дай мне знак Твоею тонкой свечой, вот плачет она, и я гляжу горячо, и я гляжу на Твою свечу тяжело, Господи Боже мой, моё время ушло. Настаёт время иное, время Твоё, открывается мне иное бытиё. Иная радость распахнулась вратами. Што там, за порогом, станется с нами? Вот, Бог, Твой порог; перешагну ево, не надобно больше дорог, не надо мне земново ничево, хочу голубем ввысь возлетети, Твоё торжество. Так я говорил, шептал, слушал, што ответит Господь мой, но Он молчал… таково молчит лодочный причал… А я-то, ну, я дощеник на сибирской реке. Я хочу отсюдова уйти налехке. А ты, Бог, молчи; поперёк зажжённой свечи не стою, ничево не знаю у судьбы на краю, сердце бьётся, копьём колет под рёбрами, Мiръ недобрый…
Господи, а Ты добрый? Ежели Ты добр ко мне, не вели мя наказать! Тебе не спалось, како и мне! Не крикни надо мною Последний Приговор! Не тать я, не преступник, я лишь жалкий на земле протопоп, Тебе в поклонах разбивал лоб, Тебе в поклонах жизнь дарил, лишь о Тебе одном людям говорил! Лишь о Тебе народу пел!.. допеть до конца не успел… Это не молитва, Господи, это песня, моя последняя песня… на краю пропасти, на краю бытия, скажи, слышишь мя? видишь мя? язык огня зришь? огонь тоже народ! огонь бьётся и бьётся, огонь умирает, яко человек, огонь воскресает навек. Огонь это я, я это огонь, возьми мя, Господи, во Твою ладонь, крепко в кулаке Твоем сожми, для тово родились в Мiре людьми, штобы под конец во Твои руки попасть, ощутить Твоево дыхания сласть, почуять Твоих очей ожог, Ты еси Бог! Я распластался на полу избы… зрел пред собою гробы… могилы, могилы… война… сколь людей погибло… сколь народилося вновь на белый свет… зима, за окном волчий вой… новые воины идут в новый бой… люди сгорают на огромных кострах… поле битвы, тяжёлый страх… сеча лютая… жить осталось минуту… ножи, копья, секиры на облако положи… врага убил?.. да только, мужик, пред смертию не дрожи…
Исповедь, грешный протопоп, Богу шепни… и над тобой возгорятся огни. Вечно, вечно… жить вечно, вечно, Господь… што же будет с ним? што будет с Мiромъ нашим, он же округ нас? и ему пробьёт отверженный час! и ево расколет Звёздный Меч! и не хватит на похороны Ево тонких свеч… Тёмный воск мёдом пахнет, землёй… Господи, не знаю, што на небе станет со мной… Господи, на руки мя, яко робёнка, прими… Господи, вот я умираю меж людьми… а люди родятся, а люди уйдут, земля им бедный, мгновенный приют, земля им, Господи, святая юдоль, грешники все, и для всех быль и боль, а Ты нашу всеобщую боль испытал, когда на Кресте висел в окружении скал, когда расколола молния надвое небосвод, когда Ты кричал: пить! и не слышал народ… когда копьеносец Лонгин тебе вонзил пику под ребро, а Ты шептал: где же ты, добро… а Ты бормотал: где же ты, любовь… а Ты молился: Господу не прекословь… Отец мой! Отец мой! Не оставь мя, не покинь! Я нынче умру, обращусь в лёд и во стынь! И мя, похоронят, и не воскресну я! А может, воскресну, то доля моя! И я ея людям всем покажу! И я пройду по острому ножу! С одной стороны пропасть, с другой небеса… в мучении жить осталось полчаса! Распятие, Господи… было у Тебя… у мя будет огонь… такая судьба…
Господи, слышишь ли мя… дай мне знак полыханьем огня… Дай мне знак тяжёлой рукой… Я ухожу от ужаса в покой. Я ухожу от бури в тишь. Господи, да отчево же Ты молчишь. Господи, осени мя Крестом Твоим. Я лишь человек, я разойдусь в сизый дым, я дымом с земли в небеса улечу, задуй мя, Господи, Твою свечу, накрой мя, Господи, мой огонь ладонью Твоей, малово, сирово средь многих людей; бедново, грешново протопопа Твоево… да возникнет, Господи, Твоё торжество.
И так Господь мой мне отвечал: Аввакуме, сын мой, начало всех начал! Успокой душу твою миром, утешь песнями людей, пробьёшь во скорби брешь смертию твоей, слезою твоей искупишь грехи, мерцают углями в кострище стихи, над тобою мальчонка прочитает стихи из Евангелия… валенки ему велики… Я от нево на расстоянии руки… Я тебя прощаю, Аввакуме, сын мой. Ты ко Мне вернёшься, ко Мне домой. Ты возвращаешься. Окончен твой путь. Положи голову ко Мне на грудь. Я тебя крепко-крепко обниму. Сниму с плеч твоих скитальную суму. Дам в руки тебе свечу, ея зажгу: молись другу, молись врагу. Молись ты Мне и смерти твоей. Смерть это жизнь иных людей. Смерть это радость, собой ея согрей. Смерть это полог, откинь ево скорей.
Узри ея Царство. Узри ея чертог. Там Я царю, твой предвечный Бог. Я всем Отец, вы дети мои. Я лью на вас огонь великой любви. Я лью на вас огонь из широко распахнутых глаз. Я знаю каждый день, Я вижу каждый час. Люблю всякую смерть, благословляю всякую жизнь, ты, сын Мой, крепче за руку Отца держись. Ты мне молись. Един Я для всех. Я твой плач, Я твой тихий смех. Я твоя слеза, скачусь по щеке. Я твоя звезда, горю вдалеке. Я есмь всё. Слушай! так было всегда. Я есмь всё, што лишь придёт; всё, чево не будет никогда. Я есмь густота, Я есмь полнота. Я есмь последняя красота. Я голод и холод, иди по Мне босиком. Я снег твой, твоя метель, сарай твой под замком; сундук самоцветов, руки в Мя запусти, зажми Мя, драгоценново, в жалкой замёрзшей горсти. Подари Мя любимому, любимой в дар отдай. Выпей, иначе перельюсь через край! Вкуси тело Моё во оставление грехов… Мiръ умирает, уходит, жил-жил, да и был таков. А был-то каков, сын Мой? помнишь ево? Помни всё в Мiре, помни дух и естество! Помни глаза детей, помни вопли вдов, помни, как Мiръ военный суров. Помни: кровь льётся, застывает на холоду. Помни Праздник Мой великий раз в году. Мiръ огромен, как Я! Мiръ это Я. Значит, Я и есмь твоя семья. Ты вернулся в семью. Ты вернулся домой. Што стоишь, Аввакуме, протопоп Мой немой?! Разомкнул уста. Вымолвил: слава Богу моему. Ведь глаза закроешь, ныне уйдеши во тьму. Да не во тьму, Аввакуме, нет, а в ярый огонь! Огонь сей Моя ладонь. Огонь сей рыбацкий костёр. Огонь сей, как секира, остёр. Огонь сей корона Царя. Огонь сей зажжён не зря. Огонь сей неугасим; ты вовек не узнаешь, што делать с ним. Он выше тебя. К разрушенью привык. Он безконечен. Яростен ево лик. У огня есть языки. Они взлетают ввысь. Войди в огонь. Помолись. Оглянись.
Мiръ это ты. Пускай Мiръ сгорит. По тебе бабы заплачут навзрыд. А ты, горе руки подъяв, ты знаешь, што Мiръ и прав и неправ. Ты знаешь, Аввакуме, вот Я над тобой. Ты слышишь, Ангел судною трубит трубой. Мiръ твой песня. Широкие крыла. Мiръ твой горит в Моём огне дотла. Летит Мiръ твой, летит между звёзд, горит в черноте кометный хвост. Горит Златая Корона, Я Царь, Я Царь, Космос твой, Господь твой, твой Государь. Всяк падёт ниц у Моих ног. Сколько лиц, сто лиц, и всякий одинок. И всех обнимаю, и всех люблю, и зрю в каждом душу Мою, и зрю в каждом частицу Мою, и зрю: родится там, на краю пропасти младенец… это Я опять… а вы всё будете Бога своего искать. Мой сыне, Аввакуме, Мя не ищи никогда. Я здесь, твой Господь, я счастье твоё и беда. Твои объятья, твой Крест, твой костёр. Твой Звёздный Нож, тяжёл и остёр. Твоя молитва, упование твоё; твоё на ветру метельное бельё. Твой последний, из огня казнящево, крик! а люди бормочут: горит старик… а люди плачут: как страшно человека казнят… ведь жизнь никогда не вернётся назад, вернётся лишь Бог, вернусь лишь Я, восплачь, Аввакуме, на обрыве бытия, помяни Мя, Аввакуме, в молитве твоей, Бога Господа, одиноково средь людей. Ведь Я человек, ведь Я твой Бог, ведь Я, как ты, сирота, одинок; одиноко, в небе раскинув руки, лечу, подобный костру, подобный лучу. Я знаю всё, Я не знаю ничево. Терпи, Мой сын; твоё торжество.
(пепел Аввакума сбираю в ладанку и вешаю на грудь. Мой крестный сон)
Собираю пепел. Здесь сгорел человек.
Собираю то, что осталось от человека.
Господи! Ты сотворил еси человека на земле для тово лишь, штобы он убил, изничтожил другово человека — брата своево, друга своево! Сродника своево… единокровника…
Война. Она опять идёт. И отдышаться не успели.
Война! Братья убивают друг друга. Взрывают. Сжигают.
Все мы друг другу родня. Во всех едина кровь замешана; и струится по жилам, и хлещет, коли нас разрежут-разрубят, мечом расколют, раскромсают. Диавол злохитрый, диавол любодейный, диавол поганый: ево вера — ненависть, ево клятва — меч да секира.
Ты сгорел здесь, мой отче, брате мой Аввакум. Жизнь моя, старец мой, вечный юноша мой; сыне мой; праотец мой; брада твоя по ветру вилася, яко огнь палящий, небеса собою поджигала. Небеса, небеса. Хожу по пепелищу; северная холодная ночь спустилася; выпь страшно кричит; останки твои, мой родной человече, в ладанку собираю.
Пепел ищо горячий. Обжигает мне пальцы.
Да што я! Сердце обжигает.
Мы-то на земли живём-живём, хлеб едим да воду пьём; шти то с мясом, то без мяса; то на праздник пляс, то во горе нету пляса; кто мы на земли таковы?.. тише воды… ниже травы…
Здесь человек сгорел. Человек! Ведь не Бог же!
…а ведь и Бога Господа нашево взяли и распяли. Гвоздями толстыми, длинными, корявыми ко Кресту приколотили. Разве то по-человечески? Разве то не диаволово деяние? Што тогда с людьми сделалось, што они, многогрешные, такую Богу казнь удумали? К чему тако сильно, безумно, неудержно дали вырваться из груди вон немыслимой злобе своей? Вот все бают: зверино, зверино. Да зверь лучче человека иной раз! Чище! Милостивее! Хищный — да, человека загрызёт; жрать ему всяко-разно потребно, да и мстит он охотнику, ежели охотника встретит во густой чащобе без ружья. Человек наисамый страшный зверь. Сие давно подмечено, да не мною; Временем самим. Людие, людие! Зачем вы, нечестивые, в пепел сожгли отца моево, наставника моево, великово Учителя моево? И не смогу, яко Магдалыня в ту достопамятную ноченьку, я кинуться на колена пред Учителем, протянуть к нему ручонки мои сирые, жалкие и воскликнуть во всю хриплую от счастия глотку: Равви! Ты ли!
И отец мой, сродник мой, великий Учитель мой не шагнёт с кострища навстречь мне, не улыбнётся светло, горько и чисто, не вытянет руку предо мною ладонью вперёд, себя — от меня — защищая, меня — от себя — охраняя: милая, родненькая, да ты ж не прикасайся ко мне, ибо не улетел я ищо на небеса желанные, не вознёсся горе, не восшёл по золотой горящей лествице к родимому Богу, предвечному Отцу моему…
Пепел. Он жжёт мне ладони.
Пепел протопопа. Он жжёт мне сердце.
Я сей час в ладанку пепел-то соберу да за гайтанчик на груди повешу; вот так, так; хорошо, мешочек холщовый, малютка, ты у меня на тёплой груди угнездился; пепел тёплый, живой, ищо костер не остыл, ищо угли тихо шевелятся, нежным синим светом горят, красным Адовым огнем мигают. Живые, будьто зверьи глаза в буреломе. Всё живое. Всё. Камни живые. Бают, камни движутся, тихо ползут, и через тыщу лет с места на место могут переползти. Звёзды живые; они то вспыхивают, то гаснут; время их жизни не измеряется земным временем, не колышется земной кружевной занавесью. Мы не можем исчислить их путь, зреть их судьбу. Однако вот вспыхнут они в полночи, и зачнут падать, и густо таково валятся, бешано, люто — и ты понимаешь: тебе, тебе, жалкий, крохотный человечек, жить осталось минуту, а звёзды — вот они, вечность целуют-милуют, украшают хрустальными бусами спящую землю нагую. Звёзды, небес украшенье! Дальнего гиблого огня вдалеке движенье. Дальних казней пыланье. Костры и сожженье. Желанье и расстоянье. Между мной и тобой — кто задрожит солёной губой?.. Кто прошепчет молитву седую, святую?.. Кто шепнёт еле слышно: не плачь, дай я тебя… поцелую…
Пепел. Вот и ладанка уж почти полна. А будьто мешок без дна. Словно бы в чёрный мешок небеса, пепел твой, отче Аввакуме, сыплю, кладу, кладу — воззрю на звезду — от усталости-боли едва наземь не упаду — во снеговую, во грузную ступлю борозду — а смерть, смерть моя, сколько ж ты раз приходишь в году…
На веку… вон висишь на суку… улыбается твой голый безумный рот… зажмурюсь, и тако, слепая, перехожу твою реку вброд…
И всовываю я башку мою бедовую, лихую в петлю гайтана, а на нём ладанка с пеплом Аввакумушки моево качается-раскачивается, будьто колокол, да только беззвучный, безгласный, безмолвный… гордый колокол-то, молчит… али вырвали у нево язык, язычище… и вместо звонка-крика — внутри, в медной чаше ево, лишь ветер гуляет-свищет… лишь Небесный Волк, горя красными зраками-звёздами, неутолимо рыщет… а я тут, на земле, во снегов хрустале… то ли трезвенька, то ль навеселе… ступаю босыми ногами во мгле… ступаю по снегу, по разъятому веку, по рытвинам-ухабам, по мужикам-бабам, по царям-господам, никово не предам, а всем лишь горбушку хлебца подам… от сердечка, хоть сама-то не вечна… хоть сама-то — тощая свечка… во небесном храме, продутом всеми ветрами… во небесной чёрной яме, заваленной звездами-снегами… Аввакумушка… я же тут стою одна… ни простору, ни косогору, ни ветру жена… ни Царёва держава… ни смердова кошма… ни прозреть велелепно, ни сойти с ума… ни водой струиться, ни святым Уставом в ночи светиться, ни кровию течь… а слезами лишь литься да литься, лишь лить вдовию речь — над кострищем-пепелищем… над рудою огня… а вокруг время ветром свищет… норовит в грудь, в лик солёный ударить меня… Ах, ударь мя, ударь, господин мой ветер… наземь бродяжку повали… я и за тебя, брат мой ветер, в ответе… и за все полоумные ветры земли… и за каждово оглашенново младенца… за мышонка каждово, паучка… ветер, мы же с тобой единоверцы… вон она, зри, вера моя — пламя златое на дне зрачка…
(солнечный луч)
Девочка, ты чья? Ох, да не моя! Охти мне, из небылья вынырнула рыбкою-уклейкой, выкатилась медною копейкой… Девочка, ты чья? Имени твоево не знаю я! Назови себя богато, назови себя нище… ветер в ушах моих воет и свищет… Девочка, ты чья? Луч солнечный летит быстрей копья! Златой нимб округ Нерукотворнаго Спаса, ясные очи превыше смертново часа… За руку мя взяла да за собою повела! И увела, и увела… и лишь шептала: сгоришь, сгоришь дотла… А я в ответ: сгорю, лишь рядом будь… А она мне: пустимся в путь… А я ей: на краю бытия… Дитя моё!.. девочка, ты чья?..
(мною спасённый)
…Огонь выл-завывал, не хотел утихать во срубе. Батюшка стоял на снегу. Я на снегу стояла. Молчал апрель. Солью горели мои обожжённые губы. Далеко, на краю света, нежно пел свиристель. И пред нашими широко раскрытыми слепыми очами проплывали картины Иной Жизни, Бытия Иново. Дни сменялись огненными ночами. Богомаз малевал морозные фрески светло и сурово. Старость и Смерть были равны Детству. Кровь, текущая вольно, была равна Богу. Прошлое, Настоящее и Грядущее варились в едином котле, по соседству, в одном котелке рыбацком: стерлядь, белужина и сорога. Аввакум, а может, ты пророк, ты и есть Нострадамий! Пошто с маслом розы не ходишь средь чумных, бесноватых! Пошто ты снежною тенью мечешься, дымом летишь меж нами… над нами… Преодолей страданье веков, годов, дней проклятых! Зри, война опять, война навалилась! Шкурой волчьею обхватила… не сбросишь… не вспорешь… Помолися за нас всех, отченька, сделай милость! За народ твой, восставший на зло, гудящий лютым огнём на великом просторе!
А может, отче, Время-то само есть пророк?! оно одушевлено, оно заливается Божией птицей в ветвях! Парит в облаках! Да, отче, воистину так! Время — Пророк, Кровь и Бог, и мы вытираем Время-слёзы с лица, отрясаем с ног Время-прах! Оно меняется, исчезает оно на ходу, внезапно является, рождается из пустоты… оно бормочет в чужом сне, мёрзнет родными ладонями на холоду, оно стреляет в чюдовищ, идёт босиком по снегу от версты до версты! Оно многолико, многослойно, многочюдно… многокровно, многострадально, многогласо, оно Осмоглас… оно плачет в яме казнимой болярыней, умирать так трудно, умирать так земно, то солёное, тёмное действо не для небесных нас!
Задери башку! Застывают во облацех, на громадной фреске в огне, облитой суриком-кровью, Богородица-Матушка в синем небесном хитоне, и батюшка Аввакум, мученик, со звездою Чагирь во изголовье, а красный конь пасётся у ног ево, и там, вдали, идут ищо кони, кони… И слышно конское ржанье! А за конями идут люди, люди… Идёт великий Крестный Ход, движется воинство силы, идёт на войну со Злом великий родной народ, и, руки раскинув, летит над людьми в зените Господь Бог, от рождения до могилы! Летит наш Господь, наш душистый ржаной ломоть, наш сладчайший кагор, от Рожества до Пасхи, и молится весь народ: напоследок дай Тебе помолиться хоть, вкусить Твоей, Господи, пожизненной и посмертной ласки! Народ, век и год, глаголет пророчий рот, идёт, возвращается, неистовыми, вихрясь, утекает кругами, идёт по весенней Реке Мiровъ расколотый человечий лёд, последний наш Царский народ, безумен, счастлив и строг, единым ликом своим яко Бог, расколот на Тьму и на Свет над нами.
Елена КРЮКОВА
фото автора












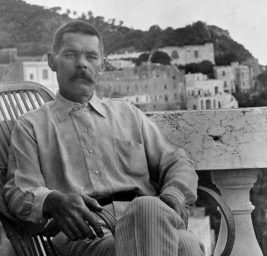


















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ