Новое
Создатель стихов – создатель жанра?
28.09.2022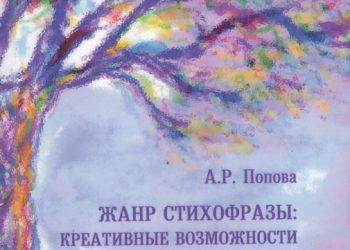
Рецензия на монографию А.Р. Поповой «Жанр стихофразы: креативные возможности русской фразеологии» (Орел: ООО «Горизонт», 2022. 256 с.)
Я знаю эту семью на протяжении многих лет. Отец, Ростислав Николаевич Попов – доктор наук, крупнейший специалист в области фразеологии, мать, Бахвалова Татьяна Васильевна, доктор наук (с ней я училась в аспирантские годы) занимается исследованием орловских говоров, две дочери, одна из них Анна – автор рецензируемой книги. Она и музыкант, и композитор, и поэтесса, и руководитель поэтического клуба – не только доктор филологических наук. Кстати, и рисунок на обложке монографии принадлежит Анне Поповой. Но сегодня, сейчас мы поведем речь о ее книге, и вот почему. Написать серию стихов – это одно дело, но оформить их как новый жанр? Здесь надо постараться обозначить особенности этого жанра, его функции, его структуру, содержательные ключи и многое другое.
Итак, стихофраза – что это? Стихофраза представляет собой поэтический текст, имеющий заглавием фразеологическую единицу, то есть это синтез лингвистики и поэзии, поэтическое использование ресурсов русской фразеологии. Это не вариант того же фразеологизма, а особое произведение, обладающее набором признаков. На странице 103-104 перечислены семь важнейших признаков нового жанра. Можно сказать, что это стихи, написанные на тему того или иного устойчивого выражения. Фразеологизм вынесен в название стиха, а сам стих содержит принципиально новую мысль, многократно расширяющую наше понимание фразеологического единства. Новую мысль! Приведем примеры фрагментов стихофраз.
Босые ноги – в прохладной заводи. И солнце – в полуседой копне.
Осока гладит лохматым кончиком. Поет девчонка, скользит весло. И не печально мне. Вот нисколечко. А нежно, памятно и тепло… («В одну реку не войти дважды»).
Хорошо, что на белесом не видна седая прядка.
Посмотрел мои отчеты? – и на место положи.
Потому что покусаю. Не со зла, а для порядка.
Крыса, загнанная в угол: стол, компьютер, стеллажи… («Архивная крыса»).
Но солнце все-таки за горами.
И только отсветы – на песке… («Не за горами»).
Верить – даже когда без шансов.
Не рыдать – ни одной, ни с кем.
Остается только держаться.
Даже если на волоске («Держаться…»).
И, впиваясь в ладонь ногтями,
Тупо держишься, не скуля.
Не победа, а бой. Хотя бы
Ты не в трюме, а у руля… («Держаться…»)
Они твои – до капли крови, ты ощущаешь их родство, ты крепко веришь им.
Но вровень –
С тобою рядом –
никого («Быть на высоте»).
Пронзительно звучит эта стихофраза. Вспоминаются слова президента Государственного музея искусств имени А.С. Пушкина. Ирина Александровна Антонова в свои 99 лет признавалась: «Я должна сказать: руководитель обязательно одинок, это непременное условие, никуда от этого не денешься! Это не от него зависит, это его положение!» (фильм «Одиночество на вершине»).
…Та нить обмотала запястье. И мне, живой,
Тепло оттого, что кончик ее – в руке («Нить жизни»).
Ты что-то ловишь – или
Спасаешься от чего-то? («Меж двух огней»).
Мне не грозит призыв к богам из штольни, лихой азарт, космический прыжок, а также слава – Герострата, что ли? Ну чувака, который храм поджег… («Золотая середина»).
Даруй им новое дыхание – не надышавшимся еще. … Второе, новое дыхание – нельзя, но все-таки даруй… («Второе дыхание»).
Ты столько всего им исполнил…
Ты дал им дорогу и цель…
Но, глупые, что они вспомнят?
Как ты оступился в конце («Делу венец»).
…И машинка весело стрекотала, шила – не тужила, на всю родню. И простая ткань расстилалась шелком с жилистой и твердой ее руки. Простыни, пеленки и распашонки. Платья, сарафаны и рушники («Легкая рука. Бабушкина…»).
Мой потомок – далекий правнук, встал, размялся, лицо умыл…
Чертит дерево, голограмму: встречи-стрелки, и листья-мы
(«На роду написано»).
Мы привели здесь отрывки из стихофраз, чтобы показать их особенность: содержание «до» и содержание «после» прочтения заставляют нас переосмысливать само фразеологическое единство, сам фразеологизм, опрокидывать его. Это первое, что бросается в глаза. Анна Попова не просто расширяет границы фразеологизма, она буквально взрывает его. И перед нами предстает космос смыслов в будто бы примелькавшемся обороте.
Интересна и чрезвычайно важна таблица на стр. 111-113, раскрывающая, как связаны название стихофразы и фрагменты текста: «нить жизни» и …и нитка луча из-за тополя чуть видна… И строем по ниточке = тянутся журавли… ; «В одно реку не войти дважды» и И речка тоже… впоне знакомая. На речке лодка: парнишка с девочкой… Так показано на примере почти сорока стихофраз, что придает цельность стихофразе, важнейшее качество для ее понимания.
Это монография. В ней, конечно же, есть цитаты из трудов лингвистов, в ней есть теория, и работает это все на материале поэзии, причем авторской, собственной поэзии. У нас обычно (всегда!) монографию пишет один человек, а стихи сочинены другим, а тут не так: стихи перемежаются с их анализом, причем весьма серьезным: автору надо доказать право на новый жанр, и это право доказывается через выявление функций и признаков стихофраз. Автор стихов и он же рецензент – так получается совмещение функций! Но и это не все. Придумать новый жанр – дорогого стоит! И кто из лингвистов способен так отметиться в теории лингвистики? Влияние отца? И да, и нет. Да, из-за любви к фразеологии, дивной любви на многие годы. А нет потому, что здесь в книге все свое, вынесенное из творчества, выстраданное, продуманное до последней запятой. Это непросто – совмещать свои наработки и свои стихи, свою прозу… Перед нами урок такого совмещения, удачный урок!
Язык мой, свет мой. Ты разрастаешься от малых трав до победных крон. Проходит зрелость… А нету старости – забвенья, немощи, похорон! Язык мой, боль моя многолюдная. Не сноб для избранных – ты с толпой. Я неуклюже, всерьез люблю тебя. И я учусь говорить с тобой («Язык мой, брат мой»).
Так кончается книга. Действительно, Анна Попова все время учится языку, а язык, русский язык велик и бесконечен.
Это, повторим, монография. В ней доказывается, что стихофраза обладает своими уникальными свойствами. Во-первых, композиционно, мы это показали. Во-вторых, содержательно. В-третьих, интонационно. В-четвертых, в-пятых, в-шестых… Читаешь и веришь автору, поскольку в книге это все показано и доказано на материале стихофраз и подведено под современные теории стихосложения и теории языка в целом. Например, такое высказывание К. Юнга о символизме: «Природе символа свойственно соединять противоположное; так он соединяет противоположность реально-ирреального, будучи, с одной стороны, психологической реальностью… он, с другой стороны, не соответствует физической реальности. Символ есть факт и все-таки видимость». Как хорошо ложится это на материал стихофраз! А вот высказывание Г. Горина: «Историей должны заниматься историки, а писатель всегда занимается современностью, даже если пишет про Адама и Еву». О, мы чувствуем эту современность, точнее, открываем ее. В стихофразе «После дождичка в четверг» есть такие строки:
Вот грязная кудлатая дворняга разбрызгивает солнце в никуда…
Вон – прибывает!.. Навострив зонты, все ринулись под дождь, искрящий, теплый…
Вот проводница поручни протерла, и в тамбуре, за головами, ты…
Потрясающая точность в передаче всем нам знакомой ситуации, когда мы кого-то ждем, и он появляется «в тамбуре, за головами».
Каждый ли фразеологизм может служить основанием для перифразы? Нет, согласно традиционной классификации только фразеологические единства попадают в эту стихию, но не сращения, не фразеологические сочетания, да и фразеологические единства тоже, бывает, не годятся для перифраз. В конце монографии представлен список заглавий стихофраз: Архивная крыса, Бразды правления, Бросать свет…, Быть на высоте, В одну реку не войти дважды, Впадать в детство – всего, если прибавить и тексты перифраз 2021 года – насчитывается 67 единиц.
Бесконечность, безбрежность языка… В стихофразах находится много онимов, имен собственных: Алеша, дед Витя, Алиска, Никитка, говорится о приближении к акмеизму, и мы это чувствуем по точности передачи. Народно-поэтические слова (младой, девица, силушка, несчастья-хворобы) сочетаются с явно новыми словами: дресс-код, квест, хайтек, принт, борсетка, виртуал… То есть, открывая сущность стихофразы, А.Р. Попова исследует весь язык.
И выйдут – на защиту. И взрастут, сплоченные одним священным кличем… И грозное величье обретут, не думая гоняться за величьем… («Еще раз о маленьком человеке (вместо сочинения)»).
Говорит: «Вам куда вообще поступать и учиться?
Если что случиться –
Вам рожать, подсуетитесь, времечка мало» («Капли точат камень»).
Здесь есть и пример высокого стиля, и стиля банального, разговорного.
Следуя интертекстуальности, которая сейчас у всех на устах, автор обращается и к литературе. В стихофразе «Еще раз о маленьком человеке (вместо сочинения)» есть неявные отсылки к А.Н. Радищеву и к А.С. Пушкину, к А.П. Чехову, Н.В. Гоголю, А.И. Куприну. И, что еще значимо: говорится о перспективах жанра, нет, не только о том, что дальше можно исследовать и создавать, а о реальных перспективах, о поэтических опытах О.И. Трофимкиной, Марии Маховой и более подробно Ольги Аристариной. Новый жанр живет, и этому есть живые свидетельства.
Подытожим? Чему учит нас новая монография Анны Поповой? Учит многому.
Тому, что можно совмещать серьезное исследование и собственный поэтический опыт, причем делать это под одной обложкой.
Можно выходить на создание нового жанра и доказывать это и подтверждать на международных и всероссийских конференциях (об этом на стр. 255).
Наконец, можно даже к самым банальным сочетаниям в русском языке подходить с неожиданных позиций, то есть относиться к языку как к неизведанному и великому творческому полю.
Вера Харченко
фото автора























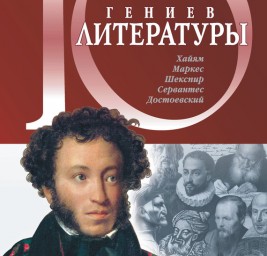








НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ