- –®–∞–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ—à–∞–≤–∞
- –î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ê–Ω–∏–∫–∏–Ω
- –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –Ý–∞–ª–æ—Ç. ¬´¬´–Ø–Ω–∫–∏-–ø–∏—Ä–∞—Ǭª –∏–ª–∏ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–欪. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –∑–∞–≥–∞–¥–∫–∞
- –ö–æ–≥–¥–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ¬´–ù–µ—Ç —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–∏—è –ë–æ–∂–∏—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ¬ª…
- –ü–∞—Å—Ö–∞ –º–æ–µ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞
Вячеслав Вьюнов. «Блики». Миниатюры
01.09.2022
–û–¢¬Ý¬Ý –ê–í–¢–û–Ý–ê
–¢–æ,¬Ý —á—Ç–æ¬Ý¬Ý –≤—ã¬Ý¬Ý –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç–µ¬Ý —Å–µ–π—á–∞—Å,¬Ý –Ω–µ¬Ý —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è¬Ý —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–º–∏.¬Ý –≠—Ç–æ¬Ý –∏¬Ý –Ω–µ¬Ý –∑–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∫–∏.¬Ý –ò¬Ý –Ω–µ¬Ý –ø—Ä–∏—Ç—á–∏,¬Ý –ø–æ—Ç–æ–º—É¬Ý —á—Ç–æ¬Ý –≤—Å–µ¬Ý –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏¬Ý¬Ý —Å–ª—É—á–∏–ª–∏—Å—å¬Ý¬Ý¬Ý —Å–æ¬Ý –º–Ω–æ–π, –º–æ–∏–º–∏¬Ý –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏,¬Ý –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º–∏.¬Ý –ß–∞—â–µ¬Ý –≤—Å–µ–≥–æ¬Ý –ª—é–¥–∏¬Ý –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã¬Ý –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞–ª–∞–º–∏¬Ý –∏–ª–∏¬Ý –Ω–µ¬Ý –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã¬Ý –≤–æ–≤—Å–µ,¬Ý –Ω–æ¬Ý –æ–Ω–∏¬Ý –ª–µ–≥–∫–æ¬Ý —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è,¬Ý –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ¬Ý –≤¬Ý –ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å–µ,¬Ý –Ω–∞¬Ý –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π¬Ý —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏,¬Ý –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–µ—Ç¬Ý –Ω–µ¬Ý —Ç–∞–∫¬Ý —É–∂¬Ý –º–Ω–æ–≥–æ¬Ý –ª—é–¥–µ–π¬Ý¬Ý —¬Ý¬Ý –≤—Å–µ¬Ý –º—ã,¬Ý —á–µ—Ä–µ–∑¬Ý¬Ý –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ- —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ¬Ý —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞,¬Ý –∑–Ω–∞–µ–º¬Ý –¥—Ä—É–≥¬Ý –¥—Ä—É–≥–∞.¬Ý¬Ý
–ö¬Ý –∫–∞–∫–æ–º—É¬Ý –∂–∞–Ω—Ä—É¬Ý –æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏¬Ý¬Ý —ç—Ç–∏¬Ý —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∏,¬Ý —è¬Ý –Ω–µ¬Ý –∑–Ω–∞—é.¬Ý –ë—É–¥—É¬Ý –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å¬Ý –∏—Ö¬Ý –º–∏–Ω–∏–∞—Ç—é—Ä–∞–º–∏,¬Ý –∞¬Ý –æ–±—â–µ–µ¬Ý –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ¬Ý —è¬Ý –¥–∞–ª¬Ý ¬´–ë–õ–ò–ö–ò¬ª.¬Ý –ö–∞–∫¬Ý –±–ª–∏–∫–∏¬Ý –Ω–∞¬Ý –≤–æ–¥–µ,¬Ý –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ¬Ý –µ—Å—Ç—å, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑¬Ý —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É¬Ý –∏—Ö¬Ý —É–∂–µ¬Ý –Ω–µ—Ç.¬Ý
–¢–ï–ê–¢–Ý–ê–õ–¨–ù–ê–Ø¬Ý¬Ý –ò–°–¢–û–Ý–ò–Ø
–ì–æ–¥—É –≤ 1978-80 —Å–ª—É–∂–∏–ª–∏ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º —Ç–µ–∞—Ç—Ä–µ –º–æ–ª–æ–¥–∞—è —Å–µ–º–µ–π–Ω–∞—è –ø–∞—Ä–∞ –∏–∑ –¢–∞—à–∫–µ–Ω—Ç–∞ –°—É—Å–∞–Ω–Ω–∞ –°–∏–¥–æ—Ä–æ–≤–∞ –∏ –ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–π –ö–∏—Å–µ–ª—ë–≤. –û–Ω –ø–∏—Å–∞–ª –Ω–µ–ø–ª–æ—Ö–∏–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏, –∏–≥—Ä–∞–ª –Ω–∞ –≥–∏—Ç–∞—Ä–µ, —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø–µ–ª. –Ø –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã ¬´–ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –Ý–∞–±–æ—á–∏–π. –° –ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–µ–º –º—ã –∫—Ä–µ–ø–∫–æ –ø–æ–¥—Ä—É–∂–∏–ª–∏—Å—å. –û—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–Ω—è–º–∏ –∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –≤ —Ç–µ–∞—Ç—Ä–µ, –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å—Ä–µ–¥–∏ –∞—Ä—Ç–∏—Å—Ç–æ–≤ —è —Å—Ç–∞–ª —Å–≤–æ–∏–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º.
–°–∞–º–æ —Å–æ–±–æ—é, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —è —É–∑–Ω–∞–ª –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Ç–∞–π–Ω—ã —á–∏—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä–∞. –£ –∫–æ–≥–æ –≤ –≥—Ä–∏–º—ë—Ä–∫–µ –∑–∞ —Ç—Ä–µ–ª—å—è–∂–µ–º —Å—Ç–æ–∏—Ç –∫–æ–Ω—å—è—á–æ–∫, —É –∫–æ–≥–æ ‚Äì –≤–æ–¥–æ—á–∫–∞, –∞ —É –∫–æ–≥–æ ‚Äì –ø–æ—Ä—Ç–≤–µ—à–æ–∫ ‚Äì —ç—Ç–∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç—ã –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ —Å–∞–º—ã—Ö –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω—ã—Ö. –ë—ã–ª–∏ –º–Ω–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Å–∫–∞–Ω–¥–∞–ª—å–Ω—ã–µ, –¥—é–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω—ã–µ, –Ω–µ–ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–ª—É—á–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Ç—Ä—É–ø–ø–µ. –ò —Ç–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏: ¬´–ö–æ–≥–¥–∞ –± –≤—ã –∑–Ω–∞–ª–∏, –∏–∑ –∫–∞–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ä–∞\ –Ý–∞—Å—Ç—É—Ç —Å—Ç–∏—Ö–∏, –Ω–µ –≤–µ–¥–∞—è —Å—Ç—ã–¥–∞‚Ķ¬ª –°–ø–µ–∫—Ç–∞–∫–ª–∏ –Ω–∞—à–µ–π —Ç—Ä—É–ø–ø—ã —è —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å: –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã–µ, –±—ã—Ç–æ–≤—ã–µ –º–µ–ª–æ—á–∏ –ø—Ä–∏–∑–µ–º–ª—ë–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –Ω–∞ –ø—É—Ç–∏ –∫ —Å–≤–µ—Ç–ª–æ–º—É –æ–±—Ä–∞–∑—É –∫–Ω—è–≥–∏–Ω–∏ –í–æ–ª–∫–æ–Ω—Å–∫–æ–π.–ò–∑ —ç—Ç–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —è –ø–æ–Ω—è–ª –æ–¥–Ω–æ: –Ω–µ –≤—Å—è–∫–æ–µ –∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç —Ç–µ–±—è —É–º–Ω–µ–µ –∏ –º—É–¥—Ä–µ–µ. –ù–µ –≤—Å—è–∫–∏–π –æ–ø—ã—Ç –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –≤ —Å–≤–æ—é –∫–æ–ø–∏–ª–∫—É. –ù–µ –≤—Å—ë –Ω–∞–¥–æ –∑–Ω–∞—Ç—å. –ò –µ—Å–ª–∏ —É —Ç–µ–±—è –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –≤–∏—Å–∏—Ç –∫–æ–≤—ë—Ä, –ª—é–±—É–π—Å—è –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–º –æ—Ä–Ω–∞–º–µ–Ω—Ç–æ–º, –∞ –Ω–µ –≤—ã–∏—Å–∫–∏–≤–∞–π —É–∑–µ–ª–∫–∏ –Ω–∞ —Ç—ã–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –∫–æ–≤—Ä–∞.
–ï—Å—Ç—å –∑–Ω–∞–Ω–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–±–µ–¥–Ω—è—é—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞.
–ü–∞–º—è—Ç—å
Перед отъездом в город жена по обыкновению помыла полы в избе. Выстиранный половик сох на заборе. Жена возьми, да и постели у порога первое, что попало под руку – мой старый, уже негодный, светло-коричневый свитер с длинным горлом. От времени и частых стирок свитер порядком сел, но сел как-то странно – вытянулся в длину и сузился в ширину. Когда жена постелила его у порога, я даже внутренне ахнул: c раскинутыми в стороны рукавами он походил на христианский крест. Светлый крест на тёмном полу. Всякий входящий должен был, переступив порог, наступить ногами на крест. Появилась какая-то душевная неуютность. Я ещё толком не успел в себе разобраться, как дверь распахнулась, и в проёме возник Александр Долбиев – друг, с которым знаком много лет.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –≤ –Ω–µ–±–µ. –®—Ç—É—Ä–º–∞–Ω. –£–±–µ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π –∞—Ç–µ–∏—Å—Ç –∏ —Ä–µ–∞–ª–∏—Å—Ç. –ù–µ –≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ë–æ–≥–∞, –∞–Ω–≥–µ–ª–æ–≤, –Ω–æ –¥–∞–∂–µ –ù–õ–û –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª. –í–µ—Ä–∏—Ç –ª–∏—à—å –≤ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–≥–æ —Å–≥–æ—Ä–∞–Ω–∏—è. –ú–Ω–µ –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –µ–≥–æ –∑–∞–º–µ—à–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ. –û–Ω –∑–∞–Ω—ë—Å –Ω–æ–≥—É —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ—Ä–æ–≥ –∏ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —É–ø—ë—Ä—Å—è –≤ –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º—É—é –ø—Ä–µ–≥—Ä–∞–¥—É. –ü–æ—Ç–æ–º –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∏ –Ω–µ–ª–æ–≤–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª—Å—è –∏ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª —Å–∞–ø–æ–≥ —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–º.
–ò –≤–µ–¥—å –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª—Å—è –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ!¬Ý –°—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≥–µ–Ω–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–∞–º—è—Ç—å.
–í–µ—Ä–∞ –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç—ã—Å—è—á—É –ª–µ—Ç —Å–ª—É–∂–∏–ª–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É –ø—É—Ç–µ–≤–æ–¥–Ω–æ–π –Ω–∏—Ç—å—é, –Ω–∞ –≥–µ–Ω–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ, –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–∞ –µ–º—É —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å —Å–≤—è—Ç–æ—Ç–∞—Ç—Å—Ç–≤–æ.
–ö–∞–∫–æ–π –≤–Ω–µ—à–Ω–∏–π —Ç–æ–ª—á–æ–∫ –Ω—É–∂–µ–Ω, —á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–∞—Å—å —É —Ü–µ–ª–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞?
–û–±—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤ –ª—é–±–≤–∏
Первые числа января. Стоят лютые морозы. Утро. Автобус «Чита-Беклемишево» подошёл к привокзальной площади. Часы на башне показывают 9.30. Температура -47С. Мне надо в библиотеку Пушкина, там я веду поэтический семинар. В запасе ещё часа три, успею сделать кое-какие поднакопившиеся дела – в городе бываю редко.
–ü—Ä–æ—Ö–æ–∂—É –º–∏–º–æ —Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏. –û—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–∞—è –≤—ã—Å–æ—Ç–∫–∞. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –ø–ª–∏—Ç–∞–º–∏, –Ω–æ –æ–¥–Ω–∞ —É–ø–∞–ª–∞. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è. –ü–æ —Ä–µ–ª—å—Å–∞–º –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ –ø–ª—ã–≤—ë—Ç –∫—Ä–∞–Ω, —Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ –º–æ—Ä–æ–∑–Ω—É—é –≤—ã—à–∏–Ω—É. –°–≤–µ—Ä—Ö—É —Å–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç—Å—è –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∫—Ä—é–∫ —Å —Ä–∞—Å—á–∞–ª–∫–∞–º–∏. –í–Ω–∏–∑—É, –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ø–∫–µ –ø–ª–∏—Ç, —Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –≤ —Å–ø–µ—Ü–æ–≤–∫–µ –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç —Ä—É–∫–æ–π: –º–∞–π–Ω–∞! –º–∞–π–Ω–∞!.. –ß–µ—Ç—ã—Ä–µ —Å—Ç—Ä–æ–ø–æ–≤–æ—á–Ω—ã—Ö —Ç—Ä–æ—Å–∞ —É–∂–µ –∫–∞—Å–∞—é—Ç—Å—è –ø–ª–∏—Ç, –Ω–æ –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç —Ä—É–∫–æ–π ‚Äì –µ—â—ë –Ω–∏–∂–µ, –Ω–∏–∂–µ! –û–Ω —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö. –£–ª—ã–±–∞–µ—Ç—Å—è. –ò–∑–æ —Ä—Ç–∞ –∫–ª—É–±–∞–º–∏ –∏–¥—ë—Ç –ø–∞—ĂĶ –õ–∏—Ü–∞ –¥–∞–ª—ë–∫–æ–π, –∫–∞–∫ –ø—Ç–∏—Ü–∞, –∫—Ä–∞–Ω–æ–≤—â–∏—Ü—ã –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ. –ù–æ –≤–∏–¥–Ω–æ, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∞ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ –∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–∏—Ç –ª–∞–¥–æ–Ω–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–æ –æ–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –∫—Ä—é–∫ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –µ–≥–æ –≥—Ä—É–¥–∏. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä—é–∫–∞ –¥—Ä–æ–∂–∏—Ç –∏ –ø–ª–∞–≤–∏—Ç—Å—è –æ—Ç –º–æ—Ä–æ–∑–∞ –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ü–∞—Ä–µ–Ω—å —Å–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–≤—ã–µ —Ä—É–∫–∞–≤–∏—Ü—ã –∏, –Ω–µ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞—è –ª–∏—Ü–∞ –æ—Ç –Ω–µ–±–∞, –Ω–µ–∂–Ω–æ –≥–ª–∞–¥–∏—Ç –≥–æ–ª–æ–π –ª–∞–¥–æ–Ω—å—é —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π, –ø—Ä–æ–º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–æ —Å–∞–º–æ–π —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ–≤–∏–Ω—ã, –∫—Ä—é–∫…
–ù–∞ —Å–µ–º–∏–Ω–∞—Ä —è –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –æ –ø–æ—ç–∑–∏–∏.
–ï—â—ë –Ω–µ –≤—Å–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–æ —É —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ª—é–¥–∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö.
–ò –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏ —Å–æ—Ä–æ–∫–æ–≥—Ä–∞–¥—É—Å–Ω—ã—Ö –º–æ—Ä–æ–∑–∞—Ö –º–µ—Ç–∞–ª–ª –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è —Ç—ë–ø–ª—ã–º.
–ê–≤—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ
–ö–æ–Ω–µ—Ü –≤–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã—Ö. –Ý–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–æ–≤. –Ý–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ, –Ω–æ –∏–∑ –£–≥–æ–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ö–æ–¥–µ–∫—Å–∞ –Ω–µ —É–±—Ä–∞–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ç—å–∏ –æ —Å–ø–µ–∫—É–ª—è—Ü–∏–∏, —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã—Ö –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è—Ö –∏ –ø—Ä. –ü—Ä–∏ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–∏ –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤—ã –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∞–∂–∞—Ç—å –ø–∞—á–∫–∞–º–∏. –ü–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—É.
–ü—Ä–∏–µ–∑–∂–∞—é –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–Ω—ã–π —Ü–µ–Ω—Ç—Ä –ê. –∫ –¥—Ä—É–≥—É –ø–æ—ç—Ç—É –ë. –ú. –ó–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–π —Ä—é–º–∫–æ–π —á–∞—è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é –µ–º—É –æ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞—Ö. –ù–∞–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –≤ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —Å–æ—Å–ª—É–∂–∏–≤—Ü—É –ö., –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–æ–º –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–º –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ:
– Вьюнов приехал.
– Да ты что! Вот здорово! У меня как раз сборник стихов вышел. Приходите вечером в гости, я ему его подпишу. А, кстати, зачем он приехал?
-–£ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã. –°–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏. –§–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã–µ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏. –°—Ç–∞—Ç—å—Å—è 93 –ø—Ä–∏–º. –ú–µ–∂–¥—É –ø—Ä–æ—á–∏–º, —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—å–Ω–∞—è…
–û—Ç—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç –Ω–∞ —à–∞–≥. –ú–µ–Ω—è–µ—Ç –ª–∏—Ü–æ. –î—É–º–∞–µ—Ç. –ò–¥—ë—Ç –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—è –±–æ—Ä—å–±–∞. –û–Ω –∫ –Ω–µ–π –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –ü–æ—Ç–æ–º —Ä–µ—à–∞–µ—Ç:
– Совсем забыл! Сегодня занят. А сборник я ему прямо сейчас подпишу. Передай.
–í—ã—Ç—è–≥–∏–≤–∞–µ—Ç —è—â–∏–∫ —Å—Ç–æ–ª–∞, —Å—Ç–∞–≤–∏—Ç –ø–æ—Å–ø–µ—à–Ω—É—é –∑–∞–∫–æ—Ä—é—á–∫—É.
–í—á–µ—Ä–∞ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª –≤ —à–∫–∞—Ñ—É –∫–Ω–∏–≥–∏. –ù–∞—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∞ –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –ö. –í —É–≥–ª—É –ø–æ –ø–µ—á–∞—Ç–Ω–æ–º—É —Ç–µ–∫—Å—Ç—É —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–∞—è —Ä–æ—Å–ø–∏—Å—å –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞. –°—Ä–∞–≤–Ω–∏–ª —Å –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–º –∞–≤—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–æ–º. –ü–æ—á–µ—Ä–∫ –∏–∑–º–µ–Ω—ë–Ω.
–ù–µ–±—ã–≤–∞–ª—ã–π —Å–ª—É—á–∞–π
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –≤–∏–¥–µ–ª —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ä–µ–¥–∫–æ –∫–æ–º—É –¥–æ–≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –≤–∏–¥–µ—Ç—å.
–õ–∞–≥–µ—Ä—å –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—ã—Ä—å—è. –Ý–∞–Ω–Ω–µ–µ —É—Ç—Ä–æ. –û—Ç–∫–∏–¥—ã–≤–∞—é –ø–æ–ª–æ–≥ –ø–∞–ª–∞—Ç–∫–∏. –ò–¥—É –Ω–∞ —Ä—É—á–µ–π —É–º—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –°—Ç–æ—é –Ω–∞ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–º –∏ —Ä–æ–≤–Ω–æ–º, –∫–∞–∫ —Å—Ç–æ–ª, –∫–∞–º–Ω–µ. –ß–∏—â—É –∑—É–±—ã. –í–∏–∂—É –∫–æ–º–∞—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ª–µ—Ç–∏—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –õ–µ—Ç–∏—Ç, —á—Ç–æ–±—ã —É–∫—É—Å–∏—Ç—å. –í–æ—Ç –≥–∞–¥! –Ý—É–∫–∏–º–æ–∏ –∑–∞–Ω—è—Ç—ã, –≤ –æ–¥–Ω–æ–π —â—ë—Ç–∫–∞, –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ç—é–±–∏–∫, –≤–æ —Ä—Ç—É –ø–∞—Å—Ç–∞. –î–∞–∂–µ –¥—É–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥—É. –û—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –µ–º—É –≤ –≥–ª–∞–∑–∞.
–ò –≤–¥—Ä—É–≥, –Ω–µ –¥–æ–ª–µ—Ç–∞—è –¥–æ –º–µ–Ω—è –Ω–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—É—é —Ä—É–∫—É, –∫–æ–º–∞—Ä –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å. –°–∫–ª–æ–Ω—è—é—Å—å. –°–º–æ—Ç—Ä—é. –ö–æ–º–∞—Ä –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞–µ—Ç—Å—è. –ó–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞—é —É–º—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—à—É –∫–æ–º–∞—Ä–∞ –≤ –ø–∞–ª–∞—Ç–∫—É. –û—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é –Ω–∞ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã—Ç–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∏. –£—Ö–æ–∂—É –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É.
Вечером – сразу к столу. Комар в такой же неподвижной позе: лежит на боку, лапки вытянуты. Комар умер. Умер на рабочем месте, умер своей смертью. Может, сердце отказало или что там у него. Может, болел чем-нибудь. Может, старый был, возраст. Этого я не знаю. Но – случай небывалый!
–ë—ã–ª–æ —ç—Ç–æ 27 –∏—é–Ω—è 1986 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ê–ª–µ–∫-–ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–º —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –±–ª–∏–∑ —Å–µ–ª–∞ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤—Å–∫–∏–π –•—É—Ç–æ—Ä.
–û–± –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏
1980 –≥–æ–¥. –ú–æ—Å–∫–≤–∞. –¢–≤–µ—Ä—Å–∫–æ–π –±—É–ª—å–≤–∞—Ä, 25. –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –∫–æ—Ä–ø—É—Å –õ–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ –∏–º. –ì–æ—Ä—å–∫–æ–≥–æ. –ê–±–∏—Ç—É—Ä–∏–µ–Ω—Ç—ã —Å—Ç–æ—è—Ç –∫—É—á–∫–∞–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ–º —Å –Ω–∏–∑–∫–∏–º–∏ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º–∏ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—è–º–∏. –°—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è. –Ý–∞–∑–±—Ä–µ–¥–∞—é—Ç—Å—è. –í—Å–µ –Ω–∞ –Ω–µ—Ä–≤–∞—Ö. –ñ–¥—É—Ç –ª–∏—Å—Ç–∫–æ–≤ —Å –∏—Ç–æ–≥–∞–º–∏ –ø—Ä–∏—ë–º–Ω—ã—Ö —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω–æ–≤.
Ночью прошёл дождь. На асфальтовых дорожках во дворе литинститута широкие мелкие лужи. Тихо. Ветви лип, клёнов склонились над дорожками и образовали арку. Большие зелёные резные листья отражаются в неподвижных лужах. Склоняюсь, а потом и присаживаюсь на корточки, рассматриваю их. Листья отражены до малейшей прожилки, до каждого зубчика, отражены так чётко, как не бывает. Поднимаю голову, всматриваюсь в оригинал – ничего подобного, обычные листья, неотличимые друг от друга, никакой резкости, чёткости. Опускаю взгляд – картина меняется волшебным образом. Отражение оказалось чётче самого предмета.
–û–∑–µ—Ä–æ, –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—é—â–µ–µ –≥–æ–ª—É–±–æ–µ –Ω–µ–±–æ, –Ω–∞—Å—ã—â–µ–Ω–Ω–µ–µ –∏ —è—Ä—á–µ —Å–∞–º–æ–≥–æ –Ω–µ–±–∞.
–ò—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞ –∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç–∑–∏—è, –≥–ª—É–±–∂–µ –∏ –ø—Ä–∞–≤–¥–∏–≤–µ–µ —Å–∞–º–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏.
–í—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –ø—ã—Ç–∞—é—Å—å —Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∞—Ç—å —ç—Ç—É —Ç–∞–π–Ω—É. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ —É–¥–∞—ë—Ç—Å—è, –µ—â—ë –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç, –∏ –æ–Ω–∞ –º–Ω–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–µ—Ç—Å—è. –ù–æ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–∏–≥ –æ–Ω–∞ —É—Å–∫–æ–ª—å–∑–∞–µ—Ç. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –µ—ë –ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è. –ò —Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∞—Ç—å –µ—ë –º–æ–∂–Ω–æ. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —É –º–µ–Ω—è –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è.
–ê –∏–Ω–∞—á–µ –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–æ—á–∏ –Ω–∞–ø—Ä–æ–ª—ë—Ç –º–∞—Ä–∞—Ç—å –±—É–º–∞–≥—É.
–ß—É–≤—Å—Ç–≤–æ –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã
–ö–æ–Ω–µ—Ü –∑–∏–º—ã. –ß—É–∫–æ—Ç–∫–∞. –ü–æ—Å—ë–ª–æ–∫ –≥–µ–æ–ª–æ–≥–æ–≤ –ü—ã—Ä–∫–∞–Ω–∞–π, –≤ –≤–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –±–µ—Ä–µ–≥ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –õ–µ–¥–æ–≤–∏—Ç–æ–≥–æ –æ–∫–µ–∞–Ω–∞. –ó–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ–ª—è—Ä–Ω–∞—è –Ω–æ—á—å. –í –ø–æ—Å–µ–ª–∫–æ–≤–æ–π —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É —Å–ª—É—á–∞—é –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫.
–í —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–∞—Ö —Å–ø–∏—Ä—Ç –∏ —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–µ, –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –º–æ–¥–Ω–æ. –ö —É—Ç—Ä—É –Ω–∞—à —Å—Ç–æ–ª–∏–∫, –≤—Å–µ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ –ø–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å. –°–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –¢–æ–≤–∞—Ä–∏—â –æ—Ç –∏–∑–±—ã—Ç–∫–∞ —á—É–≤—Å—Ç–≤, –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–∏, —Å—á–∞—Å—Ç—å—è, –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏—è —Å–∫–æ—Ä—ã—Ö –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç–æ–≤, –Ω–æ—á—ë–≤–æ–∫ —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Å–ø–∏—Ä—Ç–∞ —Å —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–º, —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –∫–æ–±—É—Ä—É –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –≤ —Å–µ—Ä–æ–µ, —Ü–≤–µ—Ç–∞ –ø–µ–ø–ª–∞, –Ω–µ–±–æ (–Ω–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–ª–µ–≤—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç –≥–µ–æ–ª–æ–≥–∞–º –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ—Å–µ–Ω—å—é –ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å —Å–¥–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–∫–ª–∞–¥. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–µ –Ω–∞ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ —Å–∫–≤–æ–∑—å –ø–∞–ª—å—Ü—ã, –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—å–≤–µ—Ä—ã –¥–æ–º–∞). –ù–∞—á–∞–ª–∏
прикуривать, на миг склонились над спичкой в ладонях. Стало тихо. И в это время мы услышали музыку: в ответ на выстрел небо ответило музыкой. Мы подняли головы. С мутной вышины летели на нас редкие большие льдистые снежинки размером с женскую ладонь или даже больше; иногда они соприкасались, обламывались и возникала музыка. Мы долго, пока не замёрзли, стояли на крыльце слушали симфонию Севера. Каждый думал о своём. Товарищ пристыжено застегнул кобуру и протянул: «Да-а-а…», и отщелкнул папиросу.
–û —Å–≤–æ—ë–º –¥—É–º–∞–ª –∏ —è. –î—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–µ—Å—å –∑–µ–º–Ω–æ–π —à–∞—Ä —É—Å—ã–ø–∞–Ω –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ–π. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ —Ç—Ä—É–¥–∞ —É—à–ª–æ, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –∑–∞ –ü–æ–ª—è—Ä–Ω—ã–º –∫—Ä—É–≥–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –≤—ã—Ä–µ–∑–∞—Ç—å –∫–∞–∂–¥—É—é —Å–Ω–µ–∂–∏–Ω–∫—É –∏ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –µ—ë –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º–æ–π; —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è –Ω–∞–¥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ –≤–µ—Å–Ω–µ –ø–æ –≤—Å–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –¥–ª—è –∫–∞–∂–¥–æ–π –±–µ—Ä—ë–∑—ã –≤—ã–ø–∏–ª–∏—Ç—å –ª–æ–±–∑–∏–∫–æ–º –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –∫–ª–µ–π–∫–∏–µ –ª–∏—Å—Ç–æ—á–∫–∏‚Ķ
Мастер, терпеливо вырезает из нефрита вазу, зодчий плетёт каменные кружева храма, поэт пишет стихотворение – не для себя, для людей, чтобы они увидели и восхитились. Тот астер, который сотворил весь этот мир, не для себя это делал, для восхищения. А восхититься и ценить такую красоту могут только люди…
–õ—é–¥–∏, –∂–∏–≤—É—â–∏–µ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–∞—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞, –æ—Å—Ç—Ä–µ–µ –∏ –±–æ–ª—å–Ω–µ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç –Ý–æ–¥–∏–Ω—É.
–û–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∞
–ö–∞–∫-—Ç–æ —Ä–∞–∑ –≤ —Ç–∞–π–≥–µ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ –≤–∞–ª–µ–∂–∏–Ω—É –ø–µ—Ä–µ–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å. –Ý—è–¥–æ–º –ª–µ–∂–∏—Ç —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –±–µ—Ä—ë–∑–∞.¬Ý –í–¥—Ä—É–≥ –±–æ–∫–æ–≤—ã–º –∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –≤–∏–∂—É –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ. –ü–µ—Ä–µ–≤–æ–∂—É –≤–∑–≥–ª—è–¥ –≤–ª–µ–≤–æ. –ë–æ–ª—å—à–æ–π —á—ë—Ä–Ω—ã–π –º—É—Ä–∞–≤–µ–π –≤—ã—Å—É–Ω—É–ª—Å—è –∏–∑ —Ä–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä—É–≥–ª–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏—è –≤ —Ç–æ—Ä—Ü–µ –ø–æ–ª—É–≥–Ω–∏–ª–æ–π –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤–æ–π –≤–µ—Ç–∫–∏, –∏ –≤—ã—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞—Ä—É–∂—É —Å–µ—Ä–æ-–∂—ë–ª—Ç—ã–µ –æ–ø–∏–ª–∫–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞ –º–∏–Ω—É—Ç—É –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç, –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è, —Ä–∞–∑–∂–∏–º–∞–µ—Ç —á–µ–ª—é—Å—Ç–∏, –≤—ã—Å—ã–ø–∞–µ—Ç –æ–ø–∏–ª–∫–∏, —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—ǂĶ
Удивительное дело, этот муравей! Муравьи – товарищи коллективные, не слыхал я что-то про муравья – одиночку. А то, что он одиночка и строит себе дом, было совершенно ясно. Видно, что-то пошло у него в жизни не так. Может, отношения с товарищами не сложились. Может, какой проступок сделал. Может, характер у него не сахар, а начальство таких не любит. Вот и ушёл он из муравейника или изгнали его.
–í–ø–µ—Ä–∏–ª—Å—è —è –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –≤ —Ç–æ –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π.
–ú—É—Ä–∞–≤–µ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä—ã–∑ —Ç—É–Ω–Ω–µ–ª—å –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –¥–µ–ª–∞–ª —Å–µ–±–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –≤—ã–≥—Ä—ã–∑–∞–ª, —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–≤–∞—è —Ä–∞–∑–º–µ—Ä—ã –∂–∏–ª–ø–ª–æ—â–∞–¥–∏. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ–Ω –±–µ–∑ –ø–µ—Ä–µ–∫—É—Ä–æ–≤. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –¥–∞–≤–Ω–æ —Å–µ–ª–æ, –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª–æ –Ω–æ—á–Ω—ã–º —Ö–æ–ª–æ–¥–∫–æ–º, –∞ –º—É—Ä–∞–≤–µ–π –≤—Å—ë —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª. –Ø –µ–≥–æ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –∑–∞—É–≤–∞–∂–∞–ª.
–°—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –ù–æ —è –µ—â—ë –¥–æ–ª–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ. –ó–∞–±—ã–ª –ø—Ä–æ –º—É—Ä–∞–≤—å—è. –î—É–º–∞–ª —É–∂–µ –æ –¥—Ä—É–≥–æ–º.
–ñ–∏–∑–Ω—å. –í—Å—è —ç—Ç–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å —Å—Ç–æ–∏—Ç –∏ –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∞—Ö. –ò –Ω–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–µ–µ –∏ —É—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤–µ–µ —Ö—Ä—É–ø–∫–∏—Ö –ø–ª–µ—á –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ–∫. –û–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∏ —Ç–≤–æ—Ä—è—Ç –∂–∏–∑–Ω—å. –û–Ω–∏ –µ—ë —É–±—ã—Å—Ç—Ä—è—é—Ç –∏ –∑–∞–º–µ–¥–ª—è—é—Ç, —É–≤–æ–¥—è—Ç –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏, –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ç—è–Ω—É—Ç –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π.
–î–∞–∂–µ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å, —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞—è —ç—Ç–æ—Ç –º–∏—Ä, –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–æ–π.
А девиз «Один в поле не воин» придумало трусливое большинство. И выставило этот лозунг над собой. Чтобы ничего не решать и ни за что не отвечать.
–ù–æ –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∞–º.
–û–Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç —Ç–µ–º, –Ω–∞–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –ª–æ–∑—É–Ω–≥.
–ò –º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç—å —ç—Ç–∞ –Ω–µ–ø–æ—Å—Ç–∏–∂–∏–º–∞.
–û—Ç–≤–ª–µ—á—ë–Ω–Ω–æ–µ
Если сложить все часы, дни, месяцы, прожитые мною у таёжного костра – костра летнего, зимнего, демисезонного, костра экспедиционного, рыбацкого, охотничьего – наберутся годы и годы. За эти годы я научился уважать огонь, как научился уважать всякую осмысленную и одухотворённую материю – воду, дерево, камень, небо. Они не умеют предавать.
–ê –µ—â—ë –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏–ª–∏ –∑–≤—ë–∑–¥–Ω–æ–µ –Ω–µ–±–æ –¥–∞—é—Ç –±–û–ª—å—à—É—é —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ã, —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞, —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–∞—è—Ç –≤ —Å–µ–±–µ –±–µ–∑—ã—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å.
–ê –µ—â—ë –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Å –æ–≥–Ω—ë–º, –≤–æ–¥–æ–π, –Ω–µ–±–æ–º, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –º—ã —Å–æ—Å—Ç–æ–∏–º –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –º–µ–∂–¥—É —Ç–æ–±–æ–π –∏ –Ω–µ–±–æ–º –Ω–µ—Ç –º–Ω–æ–≥–æ—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã—Ö –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–æ–≤: —Å—Ä–∞–∑—É –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ–±–æ. –ò —Ç—ã –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—à—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ –Ω–µ—Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è.
–ù–∞ –∫–æ—Ç—É—Ä–Ω–∞—Ö
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –¥–æ–º–æ–π, –∫ —Ç–µ–ª–µ—Ü–µ–Ω—Ç—Ä—É. –°–µ–ª –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–ª–ª–µ–π–±—É—Å. –¢—Ä–æ–ª–ª–µ–π–±—É—Å –ø–æ–ª—É–ø—É—Å—Ç–æ–π. –°—Ç–æ—é –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ. –Ý—è–¥–æ–º –ø—Ä–∏—Ç–æ—Ä–æ—á–µ–Ω –∫ –ø–æ–ª—É –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π —è—â–∏–∫, —É–∂ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ —Ç–∞–º –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –¥–µ—Ä–∂–∞–ª. –ú–æ–∂–µ—Ç –∂–µ–ª–µ–∑–æ –∫–∞–∫–æ–µ, –º–æ–∂–µ—Ç, —á—Ç–æ-—Ç–æ –¥–ª—è —É–±–æ—Ä–∫–∏.
–ö–æ–Ω–µ—Ü —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –¥–Ω—è. –ù–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ —Ç–æ–ª–ø–∞ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç —Ç—Ä–æ–ª–ª–µ–π–±—É—Å, –ø—Ä–∏–∂–∏–º–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—è –∫ —è—â–∏–∫—É, –∏ –º–Ω–µ, –≤–æ–ª–µ–π-–Ω–µ–≤–æ–ª–µ–π –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ.
–ü—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç —á—É–¥–æ! –í—Å–µ –ª—é–¥–∏ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –¥–∞–ª–µ–∫–æ –≤–Ω–∏–∑—É, —Å–∞–º—ã–µ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –µ–¥–≤–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞—é—Ç –º–Ω–µ –¥–æ –≥—Ä—É–¥–∏. –Ø –ª–æ–≤–ª—é –Ω–∞ —Å–µ–±–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞—é—â–∏–µ –∏ –≤–æ—Å—Ö–∏—â—ë–Ω–Ω—ã–µ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –∂–µ–Ω—â–∏–Ω, –∑–∞–≤–∏—Å—Ç–ª–∏–≤—ã–µ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –º—É–∂—á–∏–Ω. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞–¥–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–æ—Å—Ç –æ—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ –®–≤–∞—Ä—Ü–Ω–µ–≥–≥–µ—Ä. –ò –ª–∏—Ü–æ–º –Ω–µ –ê–ª–µ–Ω –î–µ–ª–æ–Ω. –¢—Ä–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã –≤—Å–µ—Ö –≤ —Ç—Ä–æ–ª–ª–µ–π–±—É—Å–µ –±—ã–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω—ã –∫–æ –º–Ω–µ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –º–∏–Ω—É—Ç–∞ —Å–ª–∞–≤—ã! –ù–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –∏–Ω–æ–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ù–æ —É–∂–µ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –ù–æ–≤–æ–±—É–ª—å–≤–∞—Ä–Ω–æ–π –Ω–µ—Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∏ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–¥—Å–∞—Å—ã–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥ –ª–æ–∂–µ—á–∫–æ–π. –•–æ—Ç—å –∏ –º–æ–ª–æ–¥ –±—ã–ª, –Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤—Å—ë —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è.
На остановке «Дом культуры машзавода» толпа как-то очень быстро схлынула. И остался я торчать на этом дурацком ящике. До сих пор не могу спокойно вспоминать, как менялось выражение на лицах. Словно я всех обманул. Обида. Насмешка. Презрение. Целый набор чувств.
Этого урока мне хватило на всю жизнь. Больше на котурны я не поднимался. Хотя знаю много людей, которые на них проводят всю жизнь. И я их не осуждаю. Это нормальное желание человека – выглядеть лучше, умнее, выше, красивее, талантливее, богаче, чем есть на самом деле. Вот только получается не у всех.
–£ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å.
–Ý–∂–∞–≤—ã–µ –≥–≤–æ–∑–¥–∏ –∏ –ø—Ä–æ–±–∫–∏ –æ—Ç –ø–∏–≤–Ω—ã—Ö –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫
–Ý–∞–Ω—å—à–µ —á–∏—Ç–∏–Ω—Å–∫–∞—è –±–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –≤–æ–∑–ª–µ –°—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–∞, —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ –∏–≥—Ä—É—à–µ—á–Ω—ã–º –∑–¥–∞–Ω–∏–µ–º –ö–∏–Ω–æ–ø—Ä–æ–∫–∞—Ç–∞, –Ω–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ–º –ª–µ–≤–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –ö–∞–π–¥–∞–ª–æ–≤–∫–∏. –ü—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º –Ω–µ–æ–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º, –¥–æ—â–∞—Ç—ã–µ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –∑–∞ –≤—Ö–æ–¥ —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å—É–º–º—É, –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –º–æ–≥—É –æ—à–∏–±–∞—Ç—å—Å—è.
–ë–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ —Å—É–±–±–æ—Ç—É –∏ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ.
Чем только не торговали на барахолке! На длинных деревянных столах можно было найти вещи разных эпох и стилей. Чугунные дореволюционные утюги прижимали к столам нафталиновые платья с воланами, играли патефоны, тут же продавали и пластинки… Народу всегда было много. Больше ходили, глазели, чем покупали. Об этой барахолке можно было написать целую поэму. Но торговля начиналась, не доходя до барахолки. Самодельные импровизированные лотки встречали людей на подходе к воротам. Товар здесь был поплоше, а публика попроще. Иногда торговали прямо с земли, товар раскладывали на холстине или газете.
–Ø –ª—é–±–∏–ª —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –±–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫—É. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ —Ä—è–¥–∞–º –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª. –í–æ—Ç –∑–∞ —ç—Ç–∏–º–∏ –±–µ–¥–Ω—ã–º–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç–Ω—ã–º–∏ –ª–æ—Ç–∫–∞–º–∏ –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –Ω–µ–±—Ä–∏—Ç–æ–≥–æ –º—É–∂—á–∏–Ω—É –ª–µ—Ç –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏. –ù–∞ –≥–∞–∑–µ—Ç–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä—à–Ω—è —Ä–∂–∞–≤—ã—Ö –≥–Ω—É—Ç—ã—Ö –≥–≤–æ–∑–¥–µ–π. –ì–≤–æ–∑–¥–∏ —ç—Ç–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–≥–Ω—É—Ç—ã —Ç–∞–∫–∏–º –≤–∞—Ä–≤–∞—Ä—Å–∫–∏–º –∏ –±–µ—Å–ø–æ—â–∞–¥–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —á—Ç–æ –≤—ã–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –∏—Ö –∏ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å –≤ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –∫—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Å—ë –∂–µ –∫—É–ø–∏–ª —É –Ω–µ–≥–æ —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π —Ç–æ–≤–∞—Ä.
–ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∞—Å—å —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–∞–ª–∞ –∏ –≤–æ–≤—Å–µ —É–∂ –¥–∏–∫–æ–≤–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–µ—â–∞–º–∏. –°—Ç–æ—è–ª–∞ –æ–Ω–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –ö–∏–Ω–æ–ø—Ä–æ–∫–∞—Ç–æ–º, –¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Å–∞–º–æ–π –±–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫–∏, –∫–∞–∫ –±—ã –ø–æ–Ω–∏–º–∞—è, —á—Ç–æ –µ–π —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º —Ç–æ–≤–∞—Ä–æ–º –≤ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω—ã—Ö —Ä—è–¥–∞—Ö –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ù–∞ –≥–∞–∑–µ—Ç–∫–µ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω—ã–º–∏ –∫—É—á–∫–∞–º–∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ, —Ä–∂–∞–≤—ã–µ, –≥–Ω—É—Ç—ã–µ-–ø–µ—Ä–µ–≥–Ω—É—Ç—ã–µ –ø—Ä–æ–±–∫–∏ –æ—Ç –ø–∏–≤–Ω—ã—Ö –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫. –ó–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä—à–Ω—é –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞ –ø—è—Ç—å –∫–æ–ø–µ–µ–∫. –î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –º–æ–≥—É –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∫–æ–º—É –º–æ–≥–ª–æ –ø–æ–Ω–∞–¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è —Ç–∞–∫–æ–µ —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ. –ù–æ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞ –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å, —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –≥–∞–∑–µ—Ç–∫—É –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞.
–ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ —Ç—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç —Ç—ã—Å—è—á —á–∏—Ç–∏–Ω—Ü–µ–≤ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω, –∫–æ–º—É –Ω—É–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–∏ —Ä–∂–∞–≤—ã–µ –≥–Ω—É—Ç—ã–µ –ø—Ä–æ–±–∫–∏.
–£ –≤—Å–µ—Ö —É –Ω–∞—Å —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã, —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏—è, —Å–≤–æ–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–ò–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–∏–º –º—ã –∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã
–°–≤–æ–π –ø–æ—á–µ—Ä–∫
После закрытия барахолки возле Старого кладбища над речкой Кайдаловкой торговцы разной мелочью переместились на рынок. В несколько рядов стояли столы из пятисантиметровых досок – длинные, во всю рыночную площадь. Столы высокие, лавок для сидения не было, продавцы весь день толкались на ногах. Барахолка работала лишь в субботу и воскресенье.
–Ø –ª—é–±–∏–ª —Ç–æ–ª–∫–∞—Ç—å—Å—è –≤ —ç—Ç–∏—Ö —Ä—è–¥–∞—Ö. –ò —á–µ–≥–æ —Ç–∞–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ!
–ù–æ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö —á–∞—Å–æ–≤ —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –∏ —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤—Å—è–∫–æ–π –≤—Å—è—á–∏–Ω—ã –∏ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –æ–¥–Ω–æ–º—É —Ü—ã–≥–∞–Ω—É. –°–≤–æ–π —Ç–æ–≤–∞—Ä –æ–Ω –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä–∞—Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –±–∞—Ä–∞—Ö–æ–ª–∫–∏. –¶—ã–≥–∞–Ω —ç—Ç–æ—Ç –±—ã–ª –∏–∑ –ö—É–∑–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö —Ä—è–¥–æ–≤. –ò –±—ã–ª –æ–Ω –∫—É–∑–Ω–µ—Ü. –ò —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–∞–ª —Å–≤–æ–µ–π –∫—É–∑–Ω–µ—á–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π.
–° –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞ –ª—é–±–ª—é –º–µ—Ç–∞–ª–ª. –ù–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ–µ —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–µ —à—Ç–∞–º–ø–æ–≤–∫–∞, –∞ –º–µ—Ç–∞–ª–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º—è–ª–∏, –∫–æ–≤–∞–ª–∏, –≥–Ω—É–ª–∏, –≤–∞—Ä–∏–ª–∏, –ø–∏–ª–∏–ª–∏, —à–ª–∏—Ñ–æ–≤–∞–ª–∏ –∏ –ø–æ–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –µ–º—É –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ä—É–∫–∏. –¶—ã–≥–∞–Ω —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–≥–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ—é —á—ë—Ä–Ω—É—é –≤ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä–µ –±–æ—Ä–æ–¥—É –∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–º–æ –Ω–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –ø–æ—á–µ–º—É —Ç–∞–∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ, –ø–æ—á–µ–º—É –≥—Ä–∞–±–ª–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç –¥–µ—Å—è—Ç—å —Ä—É–±–ª–µ–π, –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª, –º–æ–ª, —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏, —à—Ç—É—á–Ω–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞. –ò —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è —è –Ω–µ –º–æ–≥. –í—Å–µ–≥–¥–∞ —É –Ω–µ–≥–æ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –¥–∞ –ø–æ–∫—É–ø–∞–ª. –¢–æ –≥—Ä–∞–±–ª–∏, —Ç–æ –ª–æ–ø–∞—Ç—É, —Ç–æ –∫–∞—Ä–∞–±–∏–Ω—ã —Å –≤–µ—Ä—Ç–ª—é–≥–∞–º–∏, —Ç–æ —Ü–µ–ø–∏ –¥–ª—è —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–µ–≤—ã—Ö —Å–æ–±–∞–∫. –ò –≤–æ –≤—Å–µ—Ö –µ–≥–æ –ø–æ–¥–µ–ª–∫–∞—Ö –±—ã–ª —Å–≤–æ–π –ø–æ—á–µ—Ä–∫. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª —è –∑–∞ —Å–≤–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å –∂–µ–ª–µ–∑–∞ –∏–∑ –∫—É–∑–Ω–∏—Ü—ã, –æ–¥–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–∞–º —Å—Ç–æ—è–ª —É –≥–æ—Ä–Ω–∞ –∏ –Ω–∞–∫–æ–≤–∞–ª—å–Ω–∏, –Ω–æ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã —Ü—ã–≥–∞–Ω–∞ –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ —Å–ø—É—Ç–∞—Ç—å –Ω–∏ —Å –∫–∞–∫–∏–º–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏.
–î–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ—Ç —Ç–µ—Ö –º–æ–∏—Ö —Å–æ–±–∞–∫, –æ–¥–Ω–∏ —É–º–µ—Ä–ª–∏ –æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç–∏, –¥—Ä—É–≥–∏–µ –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏ –≤ —Ç–∞–π–≥–µ –Ω–∞ –æ—Ö–æ—Ç–µ, —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö –ø–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ –≤ –¥—Ä–∞–∫–∞—Ö –Ω–∞ —Å–æ–±–∞—á—å–∏—Ö —Å–≤–∞–¥—å–±–∞—Ö, —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç—ã–µ –ø–æ–ø–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ –∫–æ–ª—ë—Å–∞ –º–∞—à–∏–Ω. –î—Ä—É–≥–∏–µ —Å–æ–±–∞–∫–∏ —Å–∏–¥—è—Ç –Ω–∞ —Ç–µ—Ö —Ü–µ–ø—è—Ö, –Ω–æ—Å—è—Ç —Ç–µ –∂–µ –∫–∞—Ä–∞–±–∏–Ω—ã –∏ –≤–µ—Ä—Ç–ª—é–≥–∏. –î–∞–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤ –Ω–µ–≥–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –≤—ã–±—Ä–æ—à–µ–Ω—ã —à—Ç–∞–º–ø–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–Ω—ã–µ –≥—Ä–∞–±–ª–∏ –∏ –ª–æ–ø–∞—Ç—ã, –∞ –∂–µ–ª–µ–∑–æ, –∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ —Ç–µ–º –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω—ã–º —Ü—ã–≥–∞–Ω–æ–º –≤—Å—ë —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç.
Чем дольше я живу, тем всё больше сомневаюсь, что вернусь в этот мир снова. Значит, не надо из него уходить. Значит, надо в нём остаться тем неповторимым, что есть в тебе. Как остался цыган из Кузнечных рядов своими поковками. Как остались мои родители Александр Васильевич и Любовь Андреевна лепной работой на здании рядом с управлением железной дороги, где магазин «Ткани» – карнизами, фризами, рустами, пилястрами. Как остался своими стихами поэт Михаил Вишняков, стихами, которые не спутать ни с какими другими.
–û—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–≤–æ–π –ø–æ—á–µ—Ä–∫.
–û–±–º–∞–Ω
Заехал как-то ко мне в Читу московский поэт Владимир С. Стихов он уже не писал, поскольку занялся коммерцией. Вот по этим своим купеческим делам ездил в Китай. Возвращаясь, вспомнил про меня, нашёл адрес. А знакомы были мы ещё по Литературному институту. Встретились, угостились, как принято. И высказал он мне своё желание – иметь настоящий бурятский халат, национальный костюм. Терлик называется. Только не такой, какие продаются в магазинах – цветные, яркие, современные. А чтоб он был непременно из сундука старинной работы, чтоб на нём была пыль веков, или, на худой конец, моль десятилетий.
–°–∫–∞–∑–∞–Ω–æ ‚Äì —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ. –£—Ç—Ä–æ–º –º—ã –±—ã–ª–∏ —É–∂–µ –≤ –ø—É—Ç–∏. –°–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å —Å–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º –æ –º–∞—à–∏–Ω–µ ‚Äì –¥–µ–Ω—å–≥–∏ —É –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –±—ã–ª–∏. –ù–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ —É–ª–µ—Ç—É—á–∏–ª–∏—Å—å –∏–∑ –ø–∞–º—è—Ç–∏, –ø–æ–º–Ω—é, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ —ç—Ç–æ –≤ –ê–≥–∏–Ω—Å–∫–æ–º –æ–∫—Ä—É–≥–µ. –ù–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è —Ç–æ–ª–ø–∞ —É –ø–æ—á–µ—Ä–Ω–µ–≤—à–µ–≥–æ –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—Ä–µ–≤–µ–Ω—á–∞—Ç–æ–≥–æ –∞–º–±–∞—Ä–∞ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –∏–ª–∏ –¥–æ—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏. –í–æ–∑–±—É–∂–¥—ë–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è, –º–∞—à—É—Ç —Ä—É–∫–∞–º–∏, —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏—á–∞—Ç.–¢—É—Ç –∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ, –∏ –±—É—Ä—è—Ç—ã. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –∏–¥—ë—Ç –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ, –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø—Ä–æ—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞—é—Ç –±—É—Ä—è—Ç—Å–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞. –ß–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—é—Ç—Å—è —Å–ª–æ–≤–∞ ¬´–∫–∞–Ω–∞—ė㬪 –∏ ¬´—à–∏—ė㬪. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç–∏—Ö–Ω—É–≤—à–µ–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –≤–Ω–æ–≤—å –æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–æ–ª–ø—É.
Владимир реагирует на «Канары» правильно. Он говорит мне с удивлённым восхищением:
– Ну, вы тут даёте! Кстати, Канары – понятно, а Ширы – это где?
–ß—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —Ä–∞—Å—Ö–æ—Ö–æ—Ç–∞—Ç—å—Å—è, –æ—Ç–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—é—Å—å –∏ –æ—Ç–∫–∞—à–ª–∏–≤–∞—é—Å—å.
– Это курорт на Китайском море, у нас многие туда мотаются.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞ –Ω–∞—Å –æ–±—Ä–∞—â–∞—é—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥—É –¥–æ —Ö–æ–∑—è–π–∫–∏ —Ö–∞–ª–∞—Ç–∞.
Домой Владимир уехал довольный поездкой. Сделал свои купеческие дела, приобрёл экзотическую вещь – настоящий бурятский халат, терлик. Увёз рассказ о забайкальцах из забытой Богом дыры, для которых смотаться на Канары или Ширы – обычное дело.
Я позволил ему обмануться. Не стал говорить, что «канары» – огромные мешки для хранения и перевозки овечьей шерсти. Ночью местные алкаши забрались в амбар и утащили единственное ценное, что там было – канары. Они же ширы.
–°–≤–µ—Ç –±–µ–ª—ã–π
1980 –≥–æ–¥. –ú–æ—Å–∫–≤–∞. –û—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ —Å –∑–µ–º–ª—è–∫–æ–º –°–∞—à–µ–π –®–∏–ø–∏—Ü–∏–Ω—ã–º (—Å–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π –ø–æ—ç—Ç –≤ –ù–∞—Ö–æ–¥–∫–µ) —Å–≤–æ–∏ —Å—Ç–∏—Ö–∏ –Ω–∞ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ–Ω–∫—É—Ä –≤ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç. –°–∞–º–æ–Ω–∞–¥–µ—è–Ω–Ω–æ –Ω–µ—Å—Ç–∞–ª–∏ –∂–¥–∞—Ç—å –≤—ã–∑–æ–≤–∞, —Å—Ä–∞–∑—É –∏ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏. –ü–æ —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ü–∏–∏ –ø–æ—ç—Ç–∞ –ï–ª–µ–Ω—ã –°—Ç–µ—Ñ–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ø—Ä–∏—é—Ç–∏–ª–∏—Å—å —É –∑–µ–º–ª—è—á–∫–∏ –õ—é–¥–º–∏–ª—ã –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Ü–µ–≤–æ–π –Ω–∞ –ö–æ—Ä–Ω–µ–π—á—É–∫–∞-56. –õ—é–¥–º–∏–ª–∞ —É—á–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ª–∏—Ç–∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–µ –Ω–∞ –∑–∞–æ—á–Ω–æ–º, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–∫–æ–π –≤ –ë–∞–±—É—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ.
–î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∏—é–Ω—è –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –º—ã –Ω–∞ –ü—É—Ç—è–µ–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä—É–¥. –ü–æ–∑–∞–≥–æ—Ä–∞—Ç—å. –ò—Å–∫—É–ø–∞—Ç—å—Å—è. –ñ–∞—Ä–∫–∏–π –¥–µ–Ω—å. –¢–∏—Ö–æ. –ü—Ä—É–¥ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π, –∫—Ä—É–≥–ª—ã–π. –ü–ª—è–∂ –∂—ë–ª—Ç—ã–π, –º–µ–ª–∫–æ-–ø–µ—Å—á–∞–Ω—ã–π. –ù–∞—Ä–æ–¥—É ‚Äì –∫–∞–∫ –ø–µ—Å–∫–∞. –ü–ª–∞–≤–∞—Ç—å —è –Ω–µ —É–º–µ—é, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∑–∞–≤–µ—Ä–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –≤—Å—é–¥—É –ø–æ —à–µ—é. –Ý–µ—à–∏–ª–∏ —Å –°–∞–Ω–µ–π –®–∏–ø–∏—Ü—ã–Ω–æ–º –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã—Ç—å –ø—Ä—É–¥. –°–∞—à–∞ –ø–æ–ø–ª—ã–ª, –∞ —è –∑–∞ –Ω–∏–º –ø–æ—à—ë–ª. –®—ë–ª-—à—ë–ª –∏ –Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –ø—Ä—É–¥–∞ —É–≥–æ–¥–∏–ª –≤ —è–º–∫—É. –ò —É—à—ë–ª –ø–æ–¥ –≤–æ–¥—É. –ö–∞–∫ ¬´–¢–∏—Ç–∞–Ω–∏–∫¬ª. –ö–∞–∫ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä ¬´–í–∞—Ä—è–≥¬ª —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ –∫–∏–Ω–≥—Å—Ç–æ–Ω–∞–º–∏. –°—Ä–∞–∑—É –∏ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ. –ë–µ–∑ –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–æ–≤. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–º–Ω—é ‚Äì –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∏–ª —Å–µ–±–µ –¥—ã—à–∞—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –≤ –ª—ë–≥–∫–∏–µ. –ü–æ—Ç–µ—Ä—è–ª —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ.
–ü–æ–∫–∞ –°–∞—à–∞ –Ω–∞—à—ë–ª –º–µ–Ω—è –≤ –º—É—Ç–Ω–æ–π –≤–æ–¥–µ, –¥–æ–≤–æ–ª–æ–∫ –¥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞, –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è. –ö —Å—á–∞—Å—Ç—å—é, —Ç–∞–º –¥–µ–∂—É—Ä–∏–ª–∞ ¬´–°–∫–æ—Ä–∞—謪. –ö –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç—å—é, –µ—ë –≤—Ä–∞—á–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –±–µ—Å—Å–∏–ª—å–Ω—ã. –ö —Å—á–∞—Å—Ç—å—é, –õ—é–¥–∞ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Ü–µ–≤–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ –ë–∞–±—É—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –í–æ—Ç —Ç–∞–º-—Ç–æ –∏ –æ–∂–∏–≤–∏–ª–∏ –¥—É—Ä–∞–∫–∞. –î–µ—Ñ–∏–±—Ä–∏–ª–ª—è—Ç–æ—Ä–æ–º. –Ý–∞–∑—Ä—è–¥–∞–º–∏ —Ç–æ–∫–∞. –ö–∞–∫ –ª—è–≥—É—à–∫—É –∫–∞–∫—É—é.
До сего дня храню справку о клинической смерти. В графе «Причина смерти» на-писано «Утопление на Путяевском пруду. 21 июня в 13 часов 30 минут. 1980 год.» Это недалеко от Лосиноостровской.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–µ–Ω—è —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é—Ç, –≤–∏–¥–µ–ª –ª–∏ —è –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–∏–≥ —Ç–æ–Ω–Ω–µ–ª—å. –ò–ª–∏, –º–æ–∂–µ—Ç, –ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ —Ç–æ–Ω–Ω–µ–ª—é. –ù–µ—Ç, –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –ò –Ω–µ –ª–µ—Ç–µ–ª. –°—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –∏ –ø–∞–Ω–∏–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏ —Å—Ç—Ä–∞—Ö –±—ã–ª, –∏ –ø–∞–Ω–∏–∫–∞ –±—ã–ª–∞. –ê –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏–∑ –Ω–∏–æ—Ç–∫—É–¥–∞ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ —Ä–æ–≤–Ω—ã–π —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –∏ —Ç—É–≥–æ–π —Å–≤–µ—Ç, —Å—Ç—Ä–∞—Ö –ø—Ä–æ—à—ë–ª. –ë—ã–ª–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–µ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ.
–ú–æ—â–Ω—ã–π —Ä–∞–≤–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω—ã–π —Å–≤–µ—Ç. –ü–æ—á—Ç–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –Ω–∞–ø–æ—Ä. –ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —è –∂–∏–≤—É —É–∂–µ –º–Ω–æ–≥–æ –ª–µ—Ç. –°—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç—å –Ω–µ —Å —á–µ–º.
–ë–µ–ª—ã–π —Å–≤–µ—Ç.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤ –Ω–∏–∫—É–¥–∞
Иркутская область. Исправительная колония. Начало девяностых. В стране объявили свободу. Ельцин всем предлагает – берите, сколько унесёте. Все берут, но никто не знает, что с ней делать. Обитателям колонии свободу никто не предлагает. Обидно. Пятеро заключённых решают свободу взять сами. Соблюдая конспирацию, из барака начинают рыть подкоп на волю. Проход узкий, как червячный ход. Землю в карманах выносят на чердак. Тайная работа начинается после оттайки земли и продолжается несколько месяцев.
Колония, в народе называемая «зоной», – это территория метров триста на триста.Огорожена колония таким способом. Сначала столбы с колючей проволокой, приближаться нельзя, за этим следят охранники на угловых вышках. В нескольких шагах сплошной пятиметровый забор по периметру зоны. По верху забора проволока под напряжением. В четырёх метрах от первого проходит точно такой же второй забор. Между ними тропинка, по которой с собаками на поводке проходит охрана. Опять столбы с колючей проволокой. Потом следующий ряд столбов с колючкой, за которой – воля!
–¢—Ä—É–¥–Ω–æ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä—É–¥–∞, —Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞–¥–µ–∂–¥ –±—ã–ª–æ –≤–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫–∞–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã–π –ø–æ–¥–∫–æ–ø! –ù–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –ø—è—Ç–µ—Ä—ã—Ö –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–æ—Å—å –º–∞—Ä–∫—à–µ–π–¥–µ—Ä–∞. –ù–µ–∫–æ–º—É –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∏—Å—á–∏—Å–ª–∏—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ —Ö–æ–¥–∞. –Ý–µ—à–∏–≤, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º–∏ –≤–æ–ª—è, –æ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä—ã—Ç—å –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–π –ª–∞–∑, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—ã–≤–µ–ª –∏—Ö –ø—Ä—è–º—ë—Ö–æ–Ω—å–∫–æ –º–µ–∂–¥—É –ø—è—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –∑–∞–±–æ—Ä–∞–º–∏. –ì–æ–ª–æ–≤–∞ —Å –ø–µ—Å–∫–æ–º –Ω–∞ —É—à–∞—Ö –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –∏–∑ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏. –ë–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–æ–µ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–æ —Å –¥–≤—É—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω ‚Äì —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±—Ä–∏—Ç–æ–π –≥–æ–ª–æ–≤—ã –∏ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∏ –Ω–∞ –ø–æ–≤–æ–¥–∫–µ‚Ķ
Беда, когда слепые ведут слепых. В истории есть примеры, когда такое случалось с целыми народами…
–¢–∞–π–º–µ–Ω—å
Один читинский поэт, а затем и прозаик, с женой поехали отдохнуть на берег реки. Он захватил спиннинг с набором блесен, она раскладное алюминиевое кресло. Июль. Жаркий день. Он безуспешно кидает блесну. Она в купальнике загорает в кресле. Вдруг – рывок! Подсечка. Через несколько минут азартной борьбы он выволакивает на галечный берег большого тайменя. Оттаскивает его подальше от воды и
–æ—Ç—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –õ—é–±—É–µ—Ç—Å—è —Ä–µ–¥–∫–∏–º –∫—Ä–∞—Å–∞–≤—Ü–µ–º. –°–∏–ª—å–Ω–∞—è –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞—è —Ä—ã–±–∏–Ω–∞ –≤—ã–≥–∏–±–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –º–æ–∫—Ä–∏—Ç –≥–∞–ª—å–∫—É.
–í–¥—Ä—É–≥ –∂–µ–Ω–∞, –µ–≥–æ –º–∏–ª–∞—è –∂–µ–Ω–∞, –µ–≥–æ —Ö—Ä—É–ø–∫–∞—è –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞ –≤—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–µ—Ç —Å –∫—Ä–µ—Å–ª–∞, –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –±–æ–ª—å—à–æ–π –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π –æ–∫–∞—Ç—ã—à, –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç—Å—è –∫ —Ä—ã–±–∏–Ω–µ, —Å–∞–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ—ë –≤–µ—Ä—Ö–æ–º –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç —ç—Ç–∏–º –∫–∞–º–Ω–µ–º –±–∏—Ç—å –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ —Ä—ã–±–∏–Ω–µ. –ë—å—ë—Ç –∞–∑–∞—Ä—Ç–Ω–æ, –Ω–µ–∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ, –Ω–µ—É–º–µ–ª–æ, –±—å—ë—Ç –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ —Ä—ã–±–∞ —Å —Ä–∞–∑–º–æ–∑–∂—ë–Ω–Ω–æ–π –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –Ω–µ –∑–∞—Ç–∏—Ö–∞–µ—Ç.
–í—Å–∫–æ—Ä–µ –æ–Ω —Ä–∞–∑–≤—ë–ª—Å—è —Å –∂–µ–Ω–æ–π. –ù–µ –º–æ–≥ –∫ –Ω–µ–π –ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω—É—Ç—å—Å—è. –°—Ä–∞–∑—É –ø–µ—Ä–µ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥.
–£–±–∏–≤–∞—Ç—å –æ–±—è–∑–∞–Ω –º—É–∂—á–∏–Ω–∞. –≠—Ç–æ –µ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞.
–£ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –¥—Ä—É–≥–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ.
–ó–∞–º–µ–Ω–∞
Несколько лет назад в деревне пробурили скважину и поставили над ней водокачку. В этой водокачке проработал я два года на должности, которая аки гидра была о многих головах и вмещала в себя обязанности сторожа, слесаря, кочегара, электрика и пр. Спать приходилось урывками. Через два года стало ясно, что от чего – то надо избавляться. Собственное хозяйство – скот и лошади, писательство и водокачка – вытянуть три дела мне было не под силу. Выбор без особого сожаления пал на водокачку.
С месяц подбирали мне замену. Дело оказалось сложным. Найти сегодня в деревне непьющего мужика почти нереально. Свой выбор администрация остановила на Сергее. Сергею немного за тридцать. Грамоты он почти не знает, с горем пополам закончил четыре класса. По причине неграмотности в Армии не служил. Не знает таблицу умножения. Читает по слогам, пишет печатными буквами. Он ничем не интересуется. Курит сигареты «Прима», но спиртного не употребляет. Сергей знает, что была война, в которой русские воевали с немцами и американцами. Кто-то победил, но кто – не знает.
–ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞ –∏–∑ –Ω–µ–≥–æ —Ç–æ –ª—É—á—à–µ–µ, —á—Ç–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –±–µ–∑ –≤–º–µ—à–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–π, —É–º–Ω—ã—Ö –∫–Ω–∏–≥, —Ö–æ—Ä–æ—à–∏—Ö —Ñ–∏–ª—å–º–æ–≤, –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ–Ω–∏—è. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –æ–Ω –Ω–µ–ø–ª–æ—Ö–æ–π, –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—è—Ç.
–°–µ—Ä–≥–µ–π –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –≤–æ–¥–æ–∫–∞—á–∫–µ. –û–Ω –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –º–µ–Ω—è –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ –≤—ã –¥—É–º–∞–µ—Ç–µ, —á—Ç–æ –°–µ—Ä–≥–µ–π –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–µ–Ω—è, –≤—ã –æ—à–∏–±–∞–µ—Ç–µ—Å—å. –û–Ω –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –≤—Å–µ—Ö –Ω–∞—Å. –í—Å—ë –Ω–∞—à–µ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏–µ.
–¶–µ–ª–∏–∫–æ–º.
–ò –≤ —ç—Ç–æ–º –≥–æ—Ä—å–∫–∞—è –∏ –Ω–µ–æ–±—Ä–∞—Ç–∏–º–∞—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–µ–≥–æ –¥–Ω—è.
–≠—Ö–æ–ª–æ—Ç
–Ý—ã–±–∞—á–∏–ª–∏ –º—ã –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å –ø–æ—ç—Ç–æ–º –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–º –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤—ã–º –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–æ–∫–µ –û–Ω–æ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –ê–∫—à–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–µ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ. –° –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞ –Ω–∞–ª–∏–º–∞, –Ω–∞—Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –ø–ª–∞–≤–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä —Ä–∞–∑–≤–µ–ª–∏. –í—Å—é –Ω–æ—á—å —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏, —á–∏—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ç–∏—Ö–∏, –ø–æ—Ç–∏—Ö–æ–Ω—å–∫—É –ø–æ—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∏ –≤–æ–¥–æ—á–∫—É, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª–æ–≤—ã. –í —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –ø–ª–µ—Å–∫–∞–ª–∞—Å—å —Ä—ã–±–∞. –ò —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ë–æ—Ä–∏—Å –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á –æ–¥–∏–Ω —Å–ª—É—á–∞–π –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–π —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–æ–π —Å–ª—É–∂–±—ã.
Матрос на эхолоте предложил Борису надеть наушники и послушать море. В наушниках стоял равномерный сильный шум, напоминающий чавканье. И действительно, эхолот улавливал, усиливал и доносил до человеческого уха звук разрываемой и поедаемой плоти – рыбы ели друг друга. Этот звуковой фон стоял днём и ночью.
Жизнь моря была выражена в этом чавканье: слабый идёт на корм сильному…
–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑ —ç—Ç–æ—Ç –º–µ–Ω—è —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª. –ò –ø–æ—Ç–æ–º —è –Ω–µ—Ç-–Ω–µ—Ç –¥–∞ –∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –µ–≥–æ.
‚Ķ–ó–∞ —Å–≤–æ—é —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–Ω—é—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –Ý–æ—Å—Å–∏—è —Å–º–µ–Ω–∏–ª–∞ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏. –£—á—ë–Ω—ã–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –≤—Å—è–∫–∏–π –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç—Ä–æ–π –∑–∞–º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è –±–æ–ª–µ–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤—ã–º. –¢–∞–∫–æ–≤–∞ –¥–∏–∞–ª–µ–∫—Ç–∏–∫–∞. –ö –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É –≤–µ–∫—É –Ý–æ—Å—Å–∏—è, —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ –¥–∏–∞–ª–µ–∫—Ç–∏–∫–µ, –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ –ø–∏–∫–∞ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è ‚Äì –æ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π —Ä—ã–Ω–æ—á–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–æ–π. –°—Ç—Ä–∞–Ω–æ–π, –≥–¥–µ –≤—ã–∂–∏–≤–∞–µ—Ç —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π. –ì–¥–µ —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∞–≤. –ì–¥–µ —Å–ª–∞–±—ã–π –∏–¥—ë—Ç –Ω–∞ –∫–æ—Ä–º —Å–∏–ª—å–Ω–æ–º—É.
–ü–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—É –¥–∏–∞–ª–µ–∫—Ç–∏–∫–∏. –ú–Ω–µ –Ω–µ –Ω—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è –Ω–∏ —ç—Ç–∞ –¥–∏–∞–ª–µ–∫—Ç–∏–∫–∞. –ù–∏ —ç—Ç–æ—Ç –∑–∞–∫–æ–Ω.
–ó–æ–≤ –∫—Ä–æ–≤–∏
–ü–æ—Å–ª–µ –≤–æ–π–Ω—ã –æ—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ–∑–µ—Ä–∞ –ê—Ä–∞—Ö–ª–µ–π —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∞—è —Å–µ–º—å—è –Ý–æ–º–∏–Ω—ã—Ö. –¢–æ –ª–∏ –æ—Ç–±–∏–ª–∏—Å—å –æ—Ç —Ç–∞–±–æ—Ä–∞, —Ç–æ –ª–∏ —Ç–∞–±–æ—Ä –∏–∑–≥–Ω–∞–ª –∏—Ö ‚Äì –Ω–µ –∑–Ω–∞—é. –ù–∞—á–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ –Ω–æ–≤—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –û—Å—ë–¥–ª—É—é. –ù–∞—Ä—ã–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –∑–µ–º–ª—è–Ω–æ–∫. –ü—Ä–æ–º—ã—à–ª—è–ª–∏ —Ä—ã–±–∞–ª–∫–æ–π –¥–∞ –æ—Ö–æ—Ç–æ–π. –°–∞–º–æ —Å–æ–±–æ–π, –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –ª–æ—à–∞–¥–µ–π. –î–µ—Ç–∏—à–µ–∫ —É —Ü—ã–≥–∞–Ω –º–Ω–æ–≥–æ, —Å–∫–æ—Ä–æ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –∑–∞—Ü–≤—ë–ª –Ω–æ–≤—ã–π —Ç–∞–±–æ—Ä.
–í —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –º–∏—Ä–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å. –°—Ç–∞–ª–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –æ–∑–µ—Ä–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –±–∞–∑—ã –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞.¬Ý –í—Å—è–∫–æ–µ –º–∞–ª–æ-–º–∞–ª—å—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–µ –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏–ª–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –¥–æ–º –∏–ª–∏ –¥–≤–∞ –¥–ª—è –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏—Ö—Å—è. –ù–∞ —ç—Ç–∏ –±–∞–∑—ã —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∞. –ê —Ç—É—Ç —Ä—è–¥–æ–º —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∏–π —Ç–∞–±–æ—Ä. –í—ã–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –∏–º –ø–∞—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞, –≤—ã–ø–∏—Å–∞–ª–∏ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã–µ –∫–Ω–∏–∂–∫–∏, –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ü—ã–≥–∞–Ω–µ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–º —Ä–∞–±–æ—á–∏–º –∫–ª–∞—Å—Å–æ–º.
–ò –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∫—Ä–æ–≤—å. –ó–æ–≤ –µ—ë —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –∫–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å, —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∞—Å–∏–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –µ—Ö–∞—Ç—å. –ê, –Ω–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –æ–Ω–∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–µ, –¥–æ–±—Ä–æ—Å–æ-–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ, –≤–æ–¥–∫—É –∑–∞–ø–æ–µ–º –Ω–µ –ø–∏–ª–∏, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ–≥—É–ª—è—Ç—å –ª—é–±–∏–ª–∏ –∏ —É–º–µ–ª–∏. –ù–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –∫–∞–¥—Ä–∞–º–∏ –¥–æ—Ä–æ–∂–∏–ª–æ. –ù–æ –∑–æ–≤ –∫—Ä–æ–≤–∏ ‚Äì –∫—Ç–æ –∂–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–æ–≥–æ —É—Å—Ç–æ–∏—Ç? –ü–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ: –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –∏—Ö –Ω–µ–ª—å–∑—è ‚Äì –≥–¥–µ –ø–æ—Ç–æ–º —Ç–∞–∫–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞–π—Ç–∏? –ê –Ω–µ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å ‚Äì —Å–∞–º–∏ —É–π–¥—É—Ç. –ò –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç –∫–æ–º—É-—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è –º—ã—Å–ª—å ‚Äì —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–¥–∞—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è—Ç—å—Å—è —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∞–º–∏. –ú–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–≤–∞ –±—Ä–∞—Ç–∞ ‚Äì –ò–≤–∞–Ω –∏ –Ý–æ–º–∞–Ω ‚Äì –±–∞–∑–∞–º–∏ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞. –ê –±–∞–∑—ã –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ —Å—Ç–æ—è—Ç, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω—ã–µ –æ–¥–Ω–∏–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º, –∏ –±—Ä–∞—Ç—å—è –≤–∏–¥—è—Ç—Å—è –ø–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ä–∞–∑ –Ω–∞ –¥–Ω—é.¬Ý –ù–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç—Å—è —Å–±–æ—Ä—ã. –í—è–∂—É—Ç —É–∑–ª—ã. –ü–∞–∫—É—é—Ç –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∏. –£–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –Ω–∞ —Ç–µ–ª–µ–≥–∏ —Å–≤–æ–∏ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏.¬Ý –°–±–æ—Ä—ã. –®—É–º. –ö—Ä–∏–∫. –°–º–µ—Ö. –ö–æ—á—É—é—Ç. –ú–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è –¥–æ–º–∞–º–∏. –ì—É–ª—è–Ω—å–µ. –ü–µ—Å–Ω–∏. –ü–ª—è—Å–∫–∏. –ù–∞–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –Ý–æ–º–∞–Ω –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –¥–æ–º–µ –ò–≤–∞–Ω–∞, –∞ –ò–≤–∞–Ω ‚Äì –≤ –¥–æ–º–µ –Ý–æ–º–∞–Ω–∞. –ò –≤—Å—ë –∏–¥—ë—Ç –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É. –ù–æ ‚Äì –∫–æ—á–µ–≤—å–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ—Å—å. –ü—É—Å—Ç—å –∏ –∏–≥—Ä—É—à–µ—á–Ω–æ–µ, —Ç–µ–∞—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–µ. –ù–æ –æ–Ω–æ –±—ã–ª–æ. –ï—â—ë –Ω–∞ –≥–æ–¥ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –æ–±–º–∞–Ω—É—Ç—å –≥–æ–ª–æ—Å –∫—Ä–æ–≤–∏.
–Ø —á–∞—Å—Ç–æ –≤–∏–∂—É —ç—Ç–∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–æ—á—ë–≤–∫–∏. –ù–æ –¥—É–º–∞—é —É–∂–µ –Ω–µ –æ –Ω–∏—Ö. –ú—ã –∂–∏–≤—ë–º –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã—Ö –∑–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π.
–ö–æ–∂–∑–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ó–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤. –ó–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã. –ó–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –º–æ—Ä–∞–ª–∏.¬Ý –ó–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π. –ï—Å—Ç—å –∏–Ω—Ç–∏–º–Ω—ã–µ –∑–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏.
Даже воздух заменили – он стал другой на вкус и на ощупь. Удалось обмануть голос крови.
–ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∫–æ –≤—Å–µ–º—É –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–∞–µ—Ç.¬Ý –ê –¥–µ—Ç–∏ –Ω–∞—à–∏ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã. –û–Ω–∏ –Ω–µ –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –∂–∏–≤—É—Ç –≤ –∑–∞–º–µ–Ω—ë–Ω–Ω–æ–º –º–∏—Ä–µ.
–ò–º –Ω–µ —Å —á–µ–º —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞—Ç—å.
–û¬Ý –ø–æ–ª—å–∑–µ¬Ý —É–º–µ–Ω—å—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö¬Ý —Å—É—Ñ—Ñ–∏–∫—Å–æ–≤
Эта история произошла в начале восьмидесятых, в бытность литературного объединения «Надежда», руководимого Василием Григорьевичем Никоновым. Мы были молоды, азартны до жизни, свято верили в свою литературную звезду, которой, как со временем оказалось, у многих и не оказалось.
–°—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–æ—á–∏—Ö –±—ã–ª –∏ –ê.–¢., –ø–æ–º–µ—à–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ –¥–µ–∫–∞–±—Ä–∏—Å—Ç–∞—Ö –≤ –ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å–µ. –í—Å—è –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∞ —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Å–∞–º—ã–º –¥–∞–ª—å–Ω–∏–º –±–æ–∫–æ–º –Ω–µ —Å–æ–ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞–ª–∞—Å—å —Å –¥–µ–∫–∞–±—Ä–∏—Å—Ç–∞–º–∏, –µ–≥–æ –Ω–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞. –û –Ω–∏—Ö –æ–Ω –¥—É–º–∞–ª, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –ø–∏—Å–∞–ª, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—É, –≥–∞–∑–µ—Ç–Ω—ã–µ –≤—ã—Ä–µ–∑–∫–∏, –∏ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —Ç–∞–∫ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–æ—à—ë–ª –≤ —Ç–µ–º—É, —á—Ç–æ –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º. –î–ª—è —ç—Ç–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞–µ–≤ –∏ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—Ç —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏ –∏–∑ –ü–ù–î (–ø—Å–∏—Ö–æ–Ω–µ–≤—Ä–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–∏—Å–ø–∞–Ω—Å–µ—Ä–∞), —á—Ç–æ –≤ –ß–∏—Ç–µ –ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ –ê–º—É—Ä—Å–∫–æ–π.
Стоял май. Полнолуние. Время любовного обострения, обострения творческого, обострения душевных болезней. На правах приятеля и однокурсника по Иркутскому университету я посещал А.Т. в доме скорби, приносил какие-то скудные передачи и вести с «воли». Запомнился такой случай.
–ú—ã —Å—Ç–æ–∏–º –≤ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–µ, —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ–º. –î–≤–µ—Ä—å –≤ –ø–∞–ª–∞—Ç—É –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞, —Ç—É–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–∞—Ü–∏–µ–Ω—Ç–∞. –ë–µ–ª–∞—è –≥–æ—Ä—è—á–∫–∞. –ß–∞–±–∞–Ω. –° –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π —Å—Ç–æ—è–Ω–∫–∏ —Ç–æ –ª–∏ –ù–∏–∂–Ω–µ–≥–æ, —Ç–æ –ª–∏ –í–µ—Ä—Ö–Ω–µ–≥–æ (–Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é) –î—É—Ä—É–ª–≥—É—è. –ü–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∑–∞ –ø–µ—á–∫–æ–π –±–æ—á–æ–Ω–æ–∫ –±—Ä–∞–≥–∏. –í—ã–ø–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∑–∞ –Ω–µ–¥–µ–ª—é. –í–Ω—É—à–∏–ª —Å–µ–±–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω—ã—á, –∑–∞–≤–µ–¥—É—é—â–∏–π –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º —Å–æ–≤—Ö–æ–∑–∞. –ó–∞ –≤—Å—é —Å–≤–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å —á–∞–±–∞–Ω –¥–∞–ª—å—à–µ —Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞ –Ω–µ –≤—ã–µ–∑–∂–∞–ª. –ò–∑ –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –∑–Ω–∞–ª –ª–∏—à—å —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –ò–≤–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω—ã—á–∞ –∏ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ —Å–æ–≤—Ö–æ–∑–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤–∏–¥–µ–ª –¥–≤–∞–∂–¥—ã –Ω–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è—Ö. –î–∞–ª—å—à–µ –ø–æ –∏–µ—Ä–∞—Ä—Ö–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ —à—ë–ª –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –°–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—å –¶–ö –ö–ü–°–° –õ–µ–æ–Ω–∏–¥ –ò–ª—å–∏—á –ë—Ä–µ–∂–Ω–µ–≤ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ –Ω–∏–º –ë–æ–≥.
–ß–∞–±–∞–Ω –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª–µ–Ω –ø—Ä–µ–Ω–µ–±—Ä–µ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ–º –∫ —Å–µ–±–µ. –¢—Ä–µ–±—É–µ—Ç —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –µ–º—É —Ç–∞–∫ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å. –¢—Ä–∏ —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–∫–∏, –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã, –ø–æ–≤–∏–¥–∞–≤—à–∏–µ –≤ —ç—Ç–∏—Ö –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–∞—Ö –ù–∞–ø–æ–ª–µ–æ–Ω–æ–≤ –∏ –õ–µ–Ω–∏–Ω—ã—Ö, –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—â–µ –ø–µ—Ä–µ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç –ø–æ–¥—ã–≥—Ä—ã–≤–∞—Ç—å.
– А кто это к нам приехал!? – сладким голосом начинает петь одна.
– А это к нам Иван Иваныч приехал! – фальшиво подхватывает вторая.
– Сейчас Иван Иваныч в кроватку , – медово выводит третья и с ненавистью косится на дверь: где же санитары? Но санитары нарасхват – наплыв пациентов. Санитарки начинают тянуть время.
– Не хочу в кроватку! – уросит Иван Иваныч, – выпить хочу!
– А что будет пить Иван Иваныч? Водочку? Или винцо?
–° –º–∏–Ω—É—Ç—É —Ç–∏—à–∏–Ω–∞. –î—É–º–∞–µ—Ç. –ú–æ—Ä—â–∏—Ç –ª–æ–±.
– Спирт буду!
– Спиртик будет Иван Иваныч! А чем закусывать – грибочки или помидорчики?
–û–ø—è—Ç—å —Ç–∏—à–∏–Ω–∞.
– Огурец!
‚Äì –ú—ã —Å –ò–≤–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω—ã—á–∞ —Å–Ω–∏–º–µ–º —Å–∞–ø–æ–∂–∫–∏, —Å–Ω–∏–º–µ–º –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–æ—á–∫–∏… ‚Äì –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –ø–µ—Ä–≤–∞—è –∏ –æ—Å–µ–∫–∞–µ—Ç—Å—è, –≤–∏–¥—è, —Å –∫–∞–∫–∏–º —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–º –µ—ë –ø–æ–¥—Ä—É–≥–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç –Ω–∞ –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–µ —Å–∞–ø–æ–≥–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —á–∞–±–∞–Ω–∞ –∏ –≤–∑—è–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Å–æ —Å—Ç–æ—è–Ω–∫–∏. –°–∞–ø–æ–≥–∏ —ç—Ç–∏ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞, —á—Ç–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç—Å—è —á–µ–º–æ–¥–∞–Ω—ã. –¢—É—Ç –ø–æ –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä—É —Ä–∞–∑–¥–∞—é—Ç—Å—è —à–∞–≥–∏ –∏ –≤ –ø–∞–ª–∞—Ç—É –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞—Ö–æ–¥—è—Ç —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä—ã. –û–±—É–≤–Ω–æ–π —Ä–∞–∑–º–µ—Ä —É –Ω–∏—Ö –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ —á–∞–±–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ. –ö–∞–∫-—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Å–∫–æ—Ä–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Å–ø–∏—Ä—Ç–∏–∫, –≤–æ–¥–æ—á–∫–∞
–∏ –≤–∏–Ω—Ü–æ. –ò –∑–∞–∫—É—Å–æ—á–∫–∞ –µ—Å—Ç—å ‚Äì –ø–æ–º–∏–¥–æ—Ä—á–∏–∫–∏, –≥—Ä–∏–±–æ—á–∫–∏ –∏ –æ–≥—É—Ä—á–∏–∫–∏. –Ý–∞–∑—É–≤–∞–µ—Ç—Å—è —á–∞–±–∞–Ω —É–∂–µ –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ…
–ù–∏–∫–∞–∫–æ–π –ø–æ—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ —ç—Ç–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–µ—Ç. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –∫–æ –º–Ω–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è —É–º–µ–Ω—å—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Å—É—Ñ—Ñ–∏–∫—Å—ã –∏ —á–∏—Å–ª–æ –∏—Ö –∑–∞—à–∫–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç —Ä–∞–∑—É–º–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã, —è –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—é—Å—å –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º: –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –ø–æ—è–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä—ã.
–ò–∑ –ì–æ–≥–æ–ª—è
–í–æ—Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –≥–æ–¥. –°—Ç—Ä–∞–Ω–∞ —Ç—Ä–µ—â–∏—Ç –ø–æ —à–≤–∞–º. –¶–µ–Ω–∑—É—Ä—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –æ—Ç–º–µ–Ω—è–ª, –Ω–æ –∫ –Ω–µ–π –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–∏–ª–∏—Å—å. –≠–∑–æ–ø–æ–≤ —è–∑—ã–∫ –ø–æ–Ω—è—Ç–µ–Ω –≤—Å–µ–º. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞—é –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Å—É–ª—å—Ç–∞–Ω—Ç–æ–º –ø—Ä–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç–µ ¬´–ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª–µ—Ü –ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—謪. –ü–æ–ª—å–∑—É—è—Å—å —Å–ª—É–∂–µ–±–Ω—ã–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –∑–∞–≤–æ–∂—É –Ω–∞ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ ¬´–ì—É—Ä–∞–Ω¬ª —Ä—É–±—Ä–∏–∫—É ¬´–ò–∑ –∑–∞–ø–∏—Å–Ω—ã—Ö –∫–Ω–∏–∂–µ–∫¬ª, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—É–±–ª–∏–∫—É—é —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –∫—Ä–∞–º–æ–ª—å–Ω—ã–µ –º—ã—Å–ª–∏.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –≤–æ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ç–æ—Ä—É –≥–∞–∑–µ—Ç—ã –í.–ö. –ª–µ–ø—è—Ç –≤—ã–≥–æ–≤–æ—Ä. –ú–µ–Ω—è –≤—ã–∑—ã–≤–∞—é—Ç –≤ –æ–±–∫–æ–º –ö–ü–°–°. –ü—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä.
‚Äì –û —á—ë–º –í—ã –¥—É–º–∞–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∏—Å–∞–ª–∏ –æ –∫—É–±–∏–∫–µ –Ý—É–±–∏–∫–∞?
–ß–∏—Ç–∞—é —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∏: ¬´–ó–∏–º–Ω–∏–º –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å–≤–µ—Ç—è—â–∏–º–∏—Å—è –æ–∫–Ω–∞–º–∏ –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–µ—Ä–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –ß–∏—Ç—ã –ø–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ –∫—É–±–∏–∫ –Ý—É–±–∏–∫–∞¬ª.
‚Äì –û –∫—É–±–∏–∫–µ –Ý—É–±–∏–∫–∞.
–Ý–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –≥–ª—É—Ö–æ–≥–æ —Å –Ω–µ–º—ã–º.
– А что Вы имели в виду, когда писали вот это?
Читаю: «Кот Матафон до того обленился, что его побила моль».
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è –æ–±–∫–æ–º–∞ –ö–ü–°–° –ú–∞—Ç–∞—Ñ–æ–Ω–æ–≤–∞ —Å–Ω—è–ª–∏ —Å –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–∞ –µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–æ –∏–∑ –ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω–∞ –ø—Ä–∏—Å–ª–∞–ª–∏ –ú–∞–ª—å–∫–æ–≤–∞.
–í–æ–ø—Ä–æ—Å –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è:
– О ком Вы думали, когда писали про кота Матафона?
– А Вы?
–ù–µ–º–∞—è —Å—Ü–µ–Ω–∞ –∏–∑ ¬´–Ý–µ–≤–∏–∑–æ—Ä–∞¬ª.
–°–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è
–í–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã. –û—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏. –î–≤–µ—Ä—å –≤ –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞. –í—Å—ë –≤–∏–∂—É –∏ —Å–ª—ã—à—É. –§–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ–±–ª—é–¥–µ–Ω–∞. –Ø –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ —è–≤–ª—è—é—Å—å —á–ª–µ–Ω–æ–º –°–æ—é–∑–∞ –ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –°–°–°–Ý, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —Å–∏–∂—É –≤ –ø—Ä–∏—ë–º–Ω–æ–π, —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é —Å –ù–∞—Ç–∞—à–µ–π. –ü–æ—Å–ª–µ –õ—é–¥–º–∏–ª—ã –°–µ–º—ë–Ω–æ–≤–æ–π –æ–Ω–∞ –±–µ—Å—Å–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—å –∏ –±—É—Ö–≥–∞–ª—Ç–µ—Ä –Ω–∞—à–µ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏. –ñ–¥—É –ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤–∞, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞ –º–æ—ë–º ¬´–∂–∏–≥—É–ª—ë–Ω–∫–µ¬ª –µ—Ö–∞—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –≤ –ê–∫—à—É.
–ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å –æ–¥–Ω—É —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω—É—é –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—é.
–£ –º–µ–Ω—è –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤ –ø–æ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ç—Ä–∞–≤. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏. –ù–æ –µ—â—ë –Ω–µ—Ç –æ–ø—ã—Ç–∞, –Ω–µ—Ç –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å –ø–∞—á–∫–∞–º–∏ –¥–µ–Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö –∑–Ω–∞–∫–æ–≤. –î–∞ –∏ –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –≤–∑—è—Ç—å—Å—è —ç—Ç–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–µ –ø—Ä–∏ –∑–∞—Ä–ø–ª–∞—Ç–µ –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–∞ –≤ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–æ —à–µ—Å—Ç—å —Ä—É–±–ª–µ–π? –í–µ–¥—å –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –∂–∏–ª –æ—Ç –ø–æ–ª—É—á–∫–∏ –¥–æ –∞–≤–∞–Ω—Å–∞, –≤ –ø—Ä–æ–º–µ–∂—É—Ç–∫–∞—Ö –ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—è –ø–æ —Å–æ—Å–µ–¥—è–º.
–ë–æ—Ä–∏—Å–∞ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –±–æ–ª—å—à–∏–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ —Å–º—É—â–∞—é—Ç. –û–Ω –¥–æ–ª–≥–æ –∫—Ä—è—Ö—Ç–∏—Ç, –º–Ω—ë—Ç—Å—è, –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–µ—Ç:
– Всё равно ты эти деньги спустишь, давай хоть одно доброе дело сделаем.
–í –ø—Ä–∏—ë–º–Ω–æ–π –∑–∞–ø–∞—Å–∞—é—Å—å –≥–µ—Ä–±–æ–≤—ã–º –±–ª–∞–Ω–∫–æ–º –°–æ—é–∑–∞ –ü–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –°–°–°–Ý. –î–æ–º–∞ –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∫–µ –ø–µ—á–∞—Ç–∞—é —Å–∞–º–æ–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ç–µ–∫—Å—Ç, —Å—É—Ç—å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∫ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ –∏ —Ç–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å, –º—ã —Å –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤—ã–º, —É–ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–µ–Ω—ã –ß–∏—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π –≤—Ä—É—á–∏—Ç—å –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –≤ —Å—É–º–º–µ –ø–æ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç —Ä—É–±–ª–µ–π –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—â–∏–º —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤—ã–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞–º, –ø–æ–ø–∞–≤—à–∏–º –≤ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ (–∞ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—â–∏–µ, –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –≤ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ–º –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏). –§–∞–º–∏–ª–∏–∏. –ê–¥—Ä–µ—Å–∞. –í–º–µ—Å—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ–π –ø–µ—á–∞—Ç–∏ ‚Äì –≥–¥–µ –µ—ë –≤–∑—è—Ç—å? ‚Äì –¥—ã—à—É –Ω–∞ —Å–≤–æ—é –∏ –æ—Ç—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞—é ¬´–∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤:
«МЕДУНЕЦ». Всё равно никто читать не станет. Главное – гербовый бланк и печать на виду. Словом, сплошной подлог.
–ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –≤ –ê–∫—à—É —É—Ö–æ–¥–∏–º —Å —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã. –ù–∞—Ö–æ–¥–∏–º –Ω—É–∂–Ω—ã–µ –∞–¥—Ä–µ—Å–∞. –ù–∞ –ª–∏—Ü–∞—Ö –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–∏–µ. –ü–æ—Ç–æ–º ‚Äì —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å. –ó–∞—Ä–ø–ª–∞—Ç–∞ –∑–∞ –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ –Ω–µ —à—É—Ç–∫–∞! –°—Ç–∞—Ä–∞–µ–º—Å—è –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ. –¢—Ä–µ–±—É—é –¥–ª—è –æ—Ç—á–µ—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ä–∞—Å–ø–∏—Å–∫–∏, –∞ –¥–ª—è –ø—É—â–µ–≥–æ –≤–µ—Å–∞ –≤—ã–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é —Ä–∞—Å—Ö–æ–¥–Ω—ã–µ –∫–∞—Å—Å–æ–≤—ã–µ –æ—Ä–¥–µ—Ä–∞. –°–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è –∑–∞–∫–æ–Ω—á–µ–Ω–∞. –Ý–∞—Å–ø–∏—Å–∫–∏ –∏ –æ—Ä–¥–µ—Ä–∞ —Ä–≤—É –≤ –º–µ–ª–∫–∏–µ –∫–ª–æ—á–∫–∏. –ë–æ—Ä–∏—Å –¥–æ–≤–æ–ª–µ–Ω. –û–Ω —É–ª—ã–±–∞–µ—Ç—Å—è. –ú—ã –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä—â–µ—Ü–∫–∏ –ø–µ—Ä–µ–º–∏–≥–∏–≤–∞–µ–º—Å—è.
–í–∫–ª—é—á–∞—é –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—é—é —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –ª–µ—Ç–∏—Ç. –ö–æ–ª—ë—Å–∞, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –Ω–µ –∫–∞—Å–∞—é—Ç—Å—è –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∞.
–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ —É—Ä–æ–∫, –ë–æ—Ä–∏—Å –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á!
–í—Å–µ–º—É –µ—Å—Ç—å –ø–∞—Ä–∞
–Ý–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è –≥–∞–∑–µ—Ç—ã ¬´–ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –Ý–∞–±–æ—á–∏–𬪠–ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫–æ–≤–∞–ª–∞ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∞–∂–¥–æ–π —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–¥—ã –≤—ã–µ–∑–¥–Ω—ã–µ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω—ã –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –í –±—Ä–∏–≥–∞–¥—É –æ–±—ã—á–Ω–æ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥–≤–∞ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∞, —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ –∏ —à–æ—Ñ—ë—Ä –Ω–∞ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–º ¬´—É–∞–∑–∏–∫–µ¬ª. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ c —Ä–∞–π–æ–Ω—â–∏–∫–∞–º–∏. –û–¥–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –±—Ä–∏–≥–∞–¥–∞ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –ø–æ—Å–µ–≤–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ –ê–∫—à–∏–Ω—Å–∫–æ–º —Ä–∞–π–æ–Ω–µ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Å–µ–≤–Ω–∞—è: –ø–∏—Å–∞–ª–∏ –æ—á–µ—Ä–∫–∏ –æ–± –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã—Ö –ª—é–¥—è—Ö, –∑–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∫–∏, –¥–µ–ª–∞–ª–∏ —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–∞–∂–∏, –¥–∞–≤–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏. –í –æ–¥–Ω—É –∏–∑ –ø–æ–µ–∑–¥–æ–∫ –ø–æ —Å–µ–ª–∞–º —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –£–ª—å–∑—É—Ç—É–µ–≤ –≤–æ–∑–ª–µ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Ñ–µ—Ä–º—ã —Å—Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≥—Ä—É–ø–ø—É –¥–æ—è—Ä–æ–∫.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –≤ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–∏ ¬´–°–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –Ω–æ–≤–∏¬ª –æ–Ω –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª –ø–ª—ë–Ω–∫—É –∏ –Ω–∞–ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–∞–º–∞ –ø–æ —Å–µ–±–µ –∑–∞—Ç–µ—è–ª–∞—Å—å –∏–≥—Ä–∞ ( –Ω–µ –±–µ–∑ –≤–æ–∑–ª–∏—è–Ω–∏—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ): –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å —Ç—É –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –µ–º—É –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, –Ω–∞ –µ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥, –±—ã–ª–∞ —Å–∞–º–∞—è-—Å–∞–º–∞—è… ( –Ω–µ –±—É–¥–µ–º –¥–∞–≤–∞—Ç—å –æ—Ü–µ–Ω–∫—É —ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–∏). –ñ–µ–Ω—â–∏–Ω –Ω–∞ —Ñ–æ—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±–æ–ª—å—à–µ –º—É–∂—á–∏–Ω. –ü–æ–∑–≤–∞–ª–∏ –∏–∑ —Ç–∏–ø–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –Ω–∞–±–æ—Ä—â–∏–∫–∞, –ø–µ—á–∞—Ç–Ω–∏–∫–∞, –µ—â—ë –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ.
–í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –≤—Å—è–∫ –≤—ã–±—Ä–∞–ª –ø–æ —Å–≤–æ–µ–º—É –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –æ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–µ, –ø–æ —Å–≤–æ–µ–º—É –≤–∫—É—Å—É, –ø–∞—Ä—ã —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å, –Ω–µ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–π –∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–µ–Ω–∏–π. –ë–µ–∑ –ø–∞—Ä—ã –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è…
–í—Å—è–∫–æ–º—É –∂–∏–≤–æ–º—É —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É –ø–æ–¥ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º –µ—Å—Ç—å –ø–∞—Ä–∞. –ë—É–¥—å —Ç–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –º–æ—Ç—ã–ª—ë–∫ –∏–ª–∏ –ª–∞—Å—Ç–æ—á–∫–∞. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –±–µ–∑ –ø–∞—Ä—ã –Ω–µ—Ç —Å–º—ã—Å–ª–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–∏—Ä. –ò –µ—Å–ª–∏ —Ç—ã –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π –ª–µ–Ω–∏, –ø–æ —Å–≤–æ–µ–º—É –Ω–µ–ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤—É –Ω–µ –Ω–∞—à—ë–ª —Å–µ–±–µ –ø–∞—Ä—É, –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã.
–ü–∞—Ä–∞ –µ—Å—Ç—å –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.
–¢—ã –ø–ª–æ—Ö–æ –∏—Å–∫–∞–ª.
–í—Ä–µ–º—è
Москва. 1980 год. 6 июня. День Поэзии. Вечером втроём – Людмила Ярославцева, Александр Шипицын и я – идём к памятнику Пушкину. Народу прилично. Люди по очереди поднимаются к подножию и читают стихи. Не больше двух стихотворений. Читают Пушкина или свои собственные. Некоторым не разрешают читать второе: свистом и гулом просят освободить место товарищу, который тоже интересуется.
–î–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –¥–æ –º–µ–Ω—è. –°–∏–ª—å–Ω–æ –≤–æ–ª–Ω—É—é—Å—å. –ß–∏—Ç–∞—é –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ. –ì–æ–ª–æ—Å —Å—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è:
–¢–∞–∫ –±—É–¥—å—Ç–µ –∂–µ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã, –∑–≤–µ—Ä–∏, –∏ –ø—Ç–∏—Ü—ã, –∏ –ª—é–¥–∏,
–°—Ç—Ä–µ–∫–æ–∑—ã –≤ —Ç—Ä–∞–≤–µ, –∑–æ–ª–æ—Ç—ã–µ –≤ –ø—Ä—É–¥–∞—Ö –∫–∞—Ä–∞—Å–∏!
–ù–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–≥–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è, –Ω–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–≥–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç
–ù–∏ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞, –Ω–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –µ–≥–æ –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏.
–ö–∞–∫ –ø—É—Å—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–∞–∫ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ –∏ –∑—è–±–∫–æ, –∏ —Å–∏—Ä–æ
–û—Ç–ª–∏—Ç—ã–º –≤ –º–µ—Ç–∞–ª–ª –æ—Ç—à—É–º–µ–≤—à–∏–º –≤–æ–∂–¥—è–º.
–ù–µ–¥–æ–±—Ä—ã–µ –ª—é–¥–∏, –Ω–µ—è—Å–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏, –Ý–æ—Å—Å–∏—è,
Проходят сегодня по Красным твоим площадям…
–î–æ—á–∏—Ç—ã–≤–∞—é –µ—â—ë –¥–≤–µ —Å—Ç—Ä–æ—Ñ—ã. –î–æ —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –¥–∞–Ω–æ –¥–æ–±—Ä–æ –µ—â—ë –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ. –ê –Ω–∞–¥–æ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –≤ —Ç–µ –≥–æ–¥—ã –≤—Å—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –∏ –µ–∑–¥–∏–ª–∞ –∑–∞ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏ –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—É. –ù–∞—á–∏–Ω–∞—é —á–∏—Ç–∞—Ç—å —Å–≤–æ—ë –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–Ω—è–º–∏:
–í–µ—Ä—Ç–∏—Ç –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –º—É–∂–∏–∫ –±–æ—Å–æ–π:
–ê—Ö, –∫–∞–∫ –ø–∞—Ö–Ω—É—Ç –ø–æ–µ–∑–¥–∞ –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –∫–æ–ª–±–∞—Å–æ–π…
Замечаю в толпе движение. Несколько человек в неприметных костюмах из разных мест начинают протискиваться к памятнику. Но те, кто стоит рядом всё понимают. Дочитать мне не дают – силой сдёргивают вниз, уводят куда-то в сквер. Увлекают за собой бегом. Перескакиваем чугунную ограду, лавируем между машинами. Оказываемся под сборными лесами, в которых стоит здание редакции газеты «Известия» – идёт ремонт. Два молодых человека. По виду – моих лет. Говорят, чтобы на метро доехал до Новослободской. Там пересел на автобус (забыл номер), ехал до Добролюбова 18. Это общежитие литинститута. Они скоро будут. Сами возвращаются к памятнику.
–ò—Ö —è –Ω–µ –¥–æ–∂–¥–∞–ª—Å—è. –ù–æ –ø–æ—Ç–æ–º –≤ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –æ–Ω–∏ —É—á–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏—Ö –∫—É—Ä—Å–∞—Ö. –ú–Ω–µ –¥–∞–∂–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –∏—Ö —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞. –ê —Å–∞–º –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏ –∫ –Ω–∏–º —è –ø–æ—Å—Ç–µ—Å–Ω—è–ª—Å—è.
–ì–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –±—ã–ª–æ –∑–∞—Å—Ç–æ–π–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è. –î–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –≤—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ –∑–∞—Å—Ç–æ–π–Ω–æ–µ.
–ê –µ—â—ë –æ–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–µ –∏ –≤–µ—Å—ë–ª–æ–µ. –î–æ–±—Ä–æ–µ –∏ –Ω–µ—Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–Ω–æ–µ. –ë—ã–ª–æ —É–º–Ω–æ–µ –∏ –ª—é–±–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ. –í—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ–µ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—è—â–µ–µ. –¢–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–µ –∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ. –ò –¥–ª—è —Ä–∏—Å–∫–∞ –∏ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–≤ –º–µ—Å—Ç–æ –±—ã–ª–æ. –ò —Ü–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ: —á–µ—Å—Ç—å —Å—Ç–æ–∏–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–∂–µ –∂–∏–∑–Ω–∏.
–ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥—É –Ω–∞ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π —è–∑—ã–∫.
–í—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ –±—Ä—É—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ. –í—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ –∫—Ä–µ–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–µ. –ò –≤—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ –∞–¥—Ä–µ–Ω–∞–ª–∏–Ω–æ–≤–æ–µ. –ê –≤–æ—Ç –≥–ª–∞–º—É—Ä–Ω—ã–º –æ–Ω–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫!
–ì—Ä—É—Å—Ç–Ω–æ–µ
–≠—Ç–æ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –°–æ–∫–æ–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ—Å—ë—Ç –ø–µ—á–∞–ª—å –∫–∞–∂–¥—ã–º —Å–≤–æ–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º. –Ø –ª—é–±–ª—é –µ–≥–æ, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–æ—á—Ç–µ–Ω–∏—è –≤–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å —Ö–æ–¥–∏—à—å —Å–∞–º –Ω–µ —Å–≤–æ–π.
–•–•–•
–ü–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω–∫–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å —Ö—Ä–∏–ø—è—â–µ–π,
Заигранной… должен быть сад,
–í –∞–∫–∞—Ü–∏—è—Ö —Ç–∞–∫ —à–µ–ª–µ—Å—Ç—è—â–∏–π,
–ö–∞–∫ –ª–µ—Ç –≤–æ—Å–µ–º–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥.
–î–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å –±–æ–ª—å—à–∏–µ —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏ —
–°—É–ª—Ç–∞–Ω—ã, —Ç—É–º–∞–Ω—ã, –¥—ã–º–∫–∏,
–°–æ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –∏–∑-–∑–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤
–î–æ–ª–∂–Ω—ã —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –≥—É–¥–∫–∏.
–ò —á—å—è-—Ç–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–Ω–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞
–î–æ–ª–∂–Ω–∞ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ,
–ö–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –≤ –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–∏ –º–∏–≥–∞,
–ß—Ç–æ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –∫–∞–Ω–µ—Ç –≤–æ –º–≥–ª–µ.
Канет… Конечно, канет. Наша планета, словно капсула, окружённая голубой и тонкой, с волосок, атмосферой, с сумасшедшей скоростью несётся в космической бездне. За тонкой обшивкой – вечная тьма и минус двести семьдесят три градуса по Цельсию. В этой капсуле и ты, читатель, и я, и ещё почти семь миллиардов живых душ. И среди них обязательно найдётся безумец, который распахнёт люк или нажмёт на красную кнопку.
¬´–Ø, –≤–∏–¥–∏–º–æ, —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π…¬ª
–°–ª–∞–≤—è–Ω—Å—Ç–≤–æ –∫–∞–∫ –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –±—ã—Ç–∏—è, –±—ã—Ç–∞ –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –ø–æ—ç—Ç–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –ï–≤—Å–µ–µ–≤–∏—á–∞ –í–∏—à–Ω—è–∫–æ–≤–∞
(–æ—Ç—Ä—ã–≤–æ–∫ –∏–∑ –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∏)
–ö–∞–∫ –º—ã –∫—Ä–µ—â–µ–Ω–∏–µ –Ý—É—Å–∏ –≤–∏–¥–µ–ª–∏
–ü—è—Ç—å –∏–ª–∏ —à–µ—Å—Ç—å –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –º—ã —Å –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–æ–º –ï–≤—Å–µ–µ–≤–∏—á–µ–º –í–∏—à–Ω—è–∫–æ–≤—ã–º, –ø–æ—ç—Ç–æ–º, –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫–æ–º, –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–æ–º, –ª–∞—É—Ä–µ–∞—Ç–æ–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–º–∏–∏ –∏–º–µ–Ω–∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –Ω–∞ –º–æ–∏ —Ç–∞—ë–∂–Ω—ã–µ –∑–∏–º–æ–≤—å—è. –ó–∞—Å–µ–¥–ª–∞–ª–∏ –ª–æ—à–∞–¥–µ–π, –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤–µ—Ä—Ö–∞–º–∏. –ù–∞ –≤—Ä–µ–º—è —Ç–∞—ë–∂–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—Ä–∞–ª –ø–æ–∂–∏–ª—É—é –∫–æ–±—ã–ª—É –ì–Ω–µ–¥—É—Ö—É. –ü–æ–ª–Ω–æ–µ –∏–º—è –µ—ë, –ø–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –æ–Ω–∞ –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∞ –≤ –ø–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–µ ‚Äì –Ý–æ–≥–Ω–µ–¥–∞, –∏–º—è –ø–æ–ª–æ–≤–µ—Ü–∫–æ–µ, –∫–∞–∫ —É —Å—É–ø—Ä—É–≥–∏ –∫–Ω—è–∑—è –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞, –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –Ý—É—Å–∏. –ê –ì–Ω–µ–¥—É—Ö–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫, –ø–æ-–Ω–∞—à–µ–Ω—Å–∫–∏, –ø–æ-–∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏. –ù–æ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª –µ—ë ¬´–•—É–¥–æ–±–∞¬ª —Å —É–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º —Å–ª–æ–≥–µ. –•–æ—Ç—è —Ö—É–¥–æ–π –∫–æ–±—ã–ª–∞ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–∞.
У Михаила за спиной дробовик, у меня – пятизарядная «фроловка». Стоял тихий прозрачный конец августа. На еланях – сине-сизые ягодники от спелой голубики, которая осыпается под копыта лошадей. Взлетают выводки рябчиков, провожаем их взглядами. Дважды поднялись молодые тетерева, Михаил пытался скрадывать, но удачи в тот день не было.
–í—ã–µ—Ö–∞–ª–∏ —Å –æ–±–µ–¥–∞ —Å —Ä–∞—Å—á—ë—Ç–æ–º –∫ –Ω–æ—á–∏ –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∑–∏–º–æ–≤—å—è. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –¥–∞–ª—å–Ω—è—è, –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å –∑–≤–µ—Ä–∏–Ω—ã–º–∏ —Ç—Ä–æ–ø–∞–º–∏, –≥–¥–µ –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –±–µ–∑ —Ç—Ä–æ–ø –ø–æ –µ–¥–≤–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ–º—É –∫–æ–Ω—Å–∫–æ–º—É —Å–ª–µ–¥—É. –Ø –º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ú–∏—Ö–∞–∏–ª—É –æ —Ç–µ—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –≥–¥–µ –≤ —Å–∏–ª—É –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞. –ö–æ—Ä–º–∏–ª–∞ —Ç–∞–π–≥–∞ ‚Äì –æ—Ö–æ—Ç–∞, –≥—Ä–∏–±, —è–≥–æ–¥–∞ –¥–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –æ–≥–æ—Ä–æ–¥. –ú–µ—Å—Ç–∞ —Ç–∞–º —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ: –≥–ª—É—Ö–∏–µ —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–∫–∏, –Ω–µ–ø—Ä–æ–ª–∞–∑–Ω—ã–µ —É—Ä–µ–º—å—è,¬Ý —Å–∫–∞–ª—ã, —Ä–æ—Å—Å—ã–ø–∏, –±–æ–ª–æ—Ç–∞ ‚Äì –∑–∞ —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –ª–∏—à—å –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –∑–∞–±—Ä–µ–¥—à–µ–≥–æ
охотника… Поэтому сам на солонцах сидел редко, чаще безбоязненно настраивал самострел. Михаилу очень хотелось посмотреть эти места.
–î–æ –∑–∏–º–æ–≤—å—è –±—ã–ª–æ –µ—â—ë –¥–∞–ª–µ–∫–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ–±–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, —Å –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å —Ç—É—á–∏, –ø–æ–¥–±–∏—Ç—ã–µ —Å–Ω–∏–∑—É —Ç—ë–º–Ω–æ-—Ñ–∏–æ–ª–µ—Ç–æ–≤–æ–π –≤–∞—Ç–æ–π. –í —Ç–∞–π–≥–µ —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–∏—Ö–æ –∏ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–µ–¥ –≤–æ–π–Ω–æ–π.
–ö–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏ –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–∞—è –∑–µ–º–ª—è–Ω–∫–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è –Ω–∞–±—Ä—ë–ª —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ. –ñ–∏–ª—ã–º –Ω–µ –ø–∞—Ö–ª–æ, —Ö–æ—Ç—è –∑–∞ –ø–µ—á—É—Ä–∫–æ–π –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –∑–∞–±–æ—Ç–ª–∏–≤–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥—Ä–æ–≤–∞. –ñ–∏–≤–∞ –ª–∏ –æ–Ω–∞? –í–µ–¥—å –ø—Ä–æ—à–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç. –ü–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—è –Ω–∞ –∏–∑–º–µ–Ω—è—é—â–µ–µ—Å—è –Ω–µ–±–æ, –º—ã –ø–æ—Å–æ–≤–µ—â–∞–ª–∏—Å—å –∏ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ —Å –∫–æ–∑—å–µ–π —Ç—Ä–æ–ø—ã. –ß–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ —É–¥–∞—á–Ω–æ –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –Ω—É–∂–Ω—ã–π –∫–ª—é—á —Å –æ—Å–∏–Ω–∞–º–∏ –≤ –ø–æ–ª–Ω—ã–π –æ–±—Ö–≤–∞—Ç, –≤—ã–≤–µ—Ä—à–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤—ã–º –±–æ—Ä—Ç–æ–º –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∑–∞—Ä–æ—Å—à–µ–π –±—É–¥—ã–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–ª—É–∑–µ–º–ª—è–Ω–∫–æ–π-–ø–æ–ª—É–∑–∏–º–æ–≤—å—ë–º. –ù–∞—á–∏–Ω–∞–ª –Ω–∞–∫—Ä–∞–ø—ã–≤–∞—Ç—å –¥–æ–∂–¥–∏–∫. –°—ë–¥–ª–∞ –∏ –ø–µ—Ä–µ–º—ë—Ç–Ω—ã–µ —Å—É–º—ã –∑–∞–Ω–µ—Å–ª–∏ –∏ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã.
–¢–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ç–æ–ø–∏–ª–∏ –ø–µ—á—É—Ä–∫—É, –∫–∞–∫ –∑–∞ –¥–≤–µ—Ä—å—é —É—Ö–Ω—É–ª–æ, –∑–≤—è–∫–Ω—É–ª–∏ —Å—Ç—ë–∫–ª–∞. –ì—Ä–æ–º —É–¥–∞—Ä–∏–ª –µ—â—ë –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –∏ —Å—Ç–∏—Ö. –¢—Ä–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ª–∏–≤–µ–Ω—å –æ–±—Ä—É—à–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç–∞–π–≥—É. –î–≤–µ—Ä—å —Å–∞–º–∞ –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å, –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ: –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–µ –∂–≥—É—Ç—ã –ª–∏–≤–Ω—è, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —á–∞—â–∞ –∏–≤–Ω—è–∫–∞, —à–µ–≤–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –∂–∏–≤–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–æ–π, –∏ –∑–∞ –Ω–∏–º–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ.
–ó–∞ –ø–æ—Ä–æ–≥–æ–º –∫–ª—É–±–∏–ª–∞—Å—å –º–≥–ª–∞, —Ö–æ—Ç—è –¥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –µ—â—ë –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –ù–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏–∑–∞, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–µ—Ä—Ö–∞, –Ω–µ –±—ã–ª–æ —è—Å–Ω—ã—Ö –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã—Ö —Ñ–æ—Ä–º, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –º–∏—Ä –µ—â—ë —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è. –ò –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–æ–≤ –µ—â—ë –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –∏ –ª—é–¥–µ–π. –í –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—É—é –¥–≤–µ—Ä—å —Å—Ç–∞—Ä–æ–π –∑–µ–º–ª—è–Ω–∫–∏ –º—ã –≤–∏–¥–µ–ª–∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω—ã–µ ‚Äì –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å —Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω—å—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –∫–ª—É–±—ã —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–æ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –∏ –∏–∑ –Ω–µ–≤–Ω—è—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏ –∏ —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —É–∂–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º—ã: –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –Ω–∞–≤–µ—Å, —Å—Ç–æ–ª… –ê —Ç–æ –≤ –º–µ–ª—å–∫–∞—é—â–∏—Ö —Ä–∞–∑—Ä—ã–≤–∞—Ö –≤–∏–¥–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –ª–æ—à–∞–¥–∏. –ë–µ–¥–Ω—ã–µ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ö–≤–æ—Å—Ç–∞–º–∏ –∫ –≤–µ—Ç—Ä—É, –æ–ø—É—Å—Ç–∏–≤ –≥–æ–ª–æ–≤—ã. –ù–æ —Ç—É—Ç –∂–µ –ª–æ—Ö–º–æ—Ç—å—è —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã –≤–ø–ª–µ—Ç–∞–ª–∏—Å—å –¥—Ä—É–≥ –≤ –¥—Ä—É–≥–∞, –∏ –∞–¥—Å–∫–∞—è –∫—Ä—É–≥–æ–≤–µ—Ä—Ç—å –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞—Å—å.
–° –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –º—ã —Å –º–æ–ª—á–∞–ª–∏–≤—ã–º –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–æ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –æ—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É –ø–µ—Ä–≤–æ–±—ã—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ö–∞–æ—Å–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å—ë —Å—Ç–∏—Ö–ª–æ, –∏ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è —Ä–æ–≤–Ω—ã–π —Ä—è—Å–Ω—ã–π –¥–æ–∂–¥—å. –ï—Ö–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å. –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –∑–∞–Ω—è–ª—Å—è –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏, –∞ —è, –Ω–∞–∫–∏–Ω—É–≤ –¥–æ–∂–¥–µ–≤–∏–∫, –Ω–∞—à—ë–ª –ø–æ–ª—è–Ω–∫—É —Å —Å–æ—á–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ –¥–æ —É—Ç—Ä–∞, –∏ –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–ª –ª–æ—à–∞–¥–µ–π.
Печка разгорелась, зашумел чайник. Переглянулись, и под одобрительный шум дождя достали солдатскую фляжку. И, уже не сговариваясь, как свидетели сотворения мира и как сопричастники этому таинству, стали говорить о времени. Говорили, что хорошо бы хоть на минуту оказаться там – в нашем начале, в самом начале русского летоисчисления и всё это
увидеть своими глазами. Какая погода была в тот день? Холодна ли была вода для крещения? Окунался ли сам Владимир – для примера – в Днепр? А потом подумали и решили, что тысяча лет для истории – сущий пустяк, всего-то сорок поколений, пять из которых мы знаем лично: наши дедушки-бабушки, наши родители, мы сами, наши дети и наши внуки. Вспомнили философа Фёдорова и его учение о моральном долге всех живущих перед всеми умершими, и решили, что это очень правильно – всех воскресить. И Циолковского вспомнили, который был согласен с Фёдоровым не только с моральной, но и с практической стороны: Космос – штуковина большая, заселять его надо, а народу мало, значит, надо воскресить всех умерших. И мы выпили за больших русских людей – Николая Фёдорова и Эдуарда Циолковского. И от этого всеобщего согласия и понимания стало тепло и уютно. И как-то даже места в землянке стало больше: сначала поместились века ближние, потом пошли века средние, а потом и вовсе – тысячелетия… И осталось у меня впечатление, что к ночи в землянке появился некто третий: бородатый мужик с греческим профилем, без возраста, сидел в углу, молчал и курил «Приму», а Михаил из фляжки подливал водку в его мятую алюминиевую кружку. И был этот мужик подозрительно похож на Хроноса.
–î–æ–∂–¥—å —à—ë–ª –¥–æ —É—Ç—Ä–∞.
–ò –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª–∏ –º—ã –Ω–∞ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä–∫–µ.
–ò –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∫—Ä–µ—â–µ–Ω–∏–µ –Ý—É—Å–∏.
–ò –Ý–æ–≥–Ω–µ–¥–∞ —â–∏–ø–∞–ª–∞ —Ç—Ä–∞–≤—É –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É.
–í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –í—å—é–Ω–æ–≤
—Ñ–æ—Ç–æ –≤–∑—è—Ç–æ –∏–∑ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤










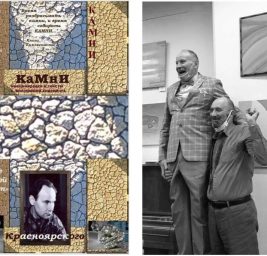
















1 –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π
–°—Ç–∞–Ω–∏—Å–ª–∞–≤ –§–µ–¥–æ—Ç–æ–≤
07.09.2022–ü—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª –Ω–µ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞—è—Å—å, –≤—Å—ë –≤—Ä–µ–º—è —á—Ç–µ–Ω–∏—è –æ—â—É—â–∞—è –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ç–æ–π —è–∑—ã–∫–∞ –∏ –≥–ª—É–±–∏–Ω–æ–π —Å–º—ã—Å–ª–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –±–ª–∏–∫–∞, —Å—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–æ–º –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤–∞ –í—å—é–Ω–æ–≤–∞. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ –ø–æ—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –¥–∞–∂–µ –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –º—É—Ä–∞–≤—å—è –ø—Ä–∏ –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞ –∏ —á—É—Ç–∫–æ—Å—Ç–∏ –¥—É—à–∏ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞! –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤ «–ö–ª–∞—É–∑—É—Ä–µ» –í—å—é–Ω–æ–≤–∞ — –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –¥–ª—è —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—è! –ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –Ω–∞ –Ý—É—Å–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–∞–º–æ–±—ã—Ç–Ω—ã–µ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ –¥–∞—é—Ç –∫–æ—Ä–∞–±–ª—é —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã —É—Ç–æ–Ω—É—Ç—å –≤ –º–æ—Ä–µ –ø–æ—à–ª–æ—Å—Ç–∏ –∏ –±–µ–∑–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∑–∞—Ç–æ–ø–∏–≤—à–µ–º –ø–æ–ª–∫–∏ –∫–Ω–∏–∂–Ω—ã—Ö –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–æ–≤! –°–ø–∞—Å–∏–±–æ —Ç–µ–±–µ, –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤!