Новое
- О сохранении человеческого в эпоху искусственного — метка подлинности
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Звёзды января
- Дина Измайлова. «Туки-тук». Рассказ
- Пастернак. Нэбожитель
- Первобытное искусство: от образа к знаку
- Елена Сомова. «О’кей — о’мэй», измельчитель неудач». Сатирический рассказ
Нина Щербак. «Оба/никто (в традициях мета-модерна)». Рассказ
28.03.2023
— А почему вы мне все время это все ваше рассказываете? – он привстал и посмотрел на нее уже сурово.
— Я хочу, чтобы вы, наконец, поняли, что не все так просто, как вам кажется. И еще один важный момент – я уже давно рассказываю это вовсе не вам.
— Это все, ваша искренность?
— Нет, то есть, да. Да. Это все моя искренность.
Она сидела на скамейке в Летнем саду, пытаясь вспомнить все то, что с ней было, и пытаясь вновь рассказать ему то, что, как ей казалось, он не понял.
Агриппина уезжала в Англию на долгий срок, уже в достаточно солидном возрасте. Она уезжала туда работать, и была сильно обеспокоена всем тем, что было вокруг. Юрочка тогда обиделся, что ее долго не было, а его родители (заведующая рыбным магазином и военный папа, бывший полковник) развели его с ней довольно быстро. Юрочка тогда во всем слушался родителей, не перечил им, поэтому историю про то, что его обманут, уедут заграницу, возымела эффект. А она… Она просто привыкла, что с Аликом можно было позволить себе все, он всегда был мужчиной, и всегда ее прощал. Разве могла она помыслить, что семья будет пытаться так живо вычеркнуть ее из своей жизни?
Про любовь здесь речь не шла, потому что Агриппина осознавала огромное количество сложностей, невозможностей вписаться в эту бытовую сферу жизни, столь отдаленно напоминающую ее собственный внутренний мир. Юрочка много читал, ходил в Эрмитаж, и, возможно, это было единственным, что еще как-то согревало несколько пошатнувшиеся надежды. Женили его буквально через месяц, что было немудрено с его апатичностью. Счастлив он быть не мог тогда по определению, но жизнь так сильно крутила его впоследствии, что сложно было представить, что чего-то не будет вылеплено. Двое сыновей стали замечательной надеждой на будущее, а карьера, хоть и постепенно, но все же пошла вверх. Это Агриппина тоже понимала, это все были тени того вдохновения, живости, которые она ему приписывала.
Англия была испытанием. Англия была тем, о чем мечтали все. Получить такую позиция в Лондоне, а потом в Йорке (как получила Агриппина), было равносильно тому, чтобы выиграть Нобелевскую Премию. Это было очень сложно, выиграть такое место. Но она выиграла эту премию, и должна была ехать, именно туда, именно сама, именно на зарплату, именно со всеми документами и статусами.
Город был странный, тихий. В Англии тогда все было тихо и спокойно. После длительных перипетий, напряжений русского быта, окунуться в эту спокойную атмосферу было испытанием и для молодого организма.
Все здесь было чуждо. Все было плохо. Сложно было привыкнуть к этой медленной жизни, к этой работе, апатичным коллегам, супермаркетам. Она еще не знала тогда, что есть поля и луга, библиотеки и кинозалы. Расставание с Юрочкой было столь страшным, что послужило причиной колоссального нервного шока. Она не могла признаться, что страдала, не могла показать, чего ей стоило, что взрослые люди приписывали ей порок и корысть, именно в момент, когда она пыталась разобраться в чувствах, и вместо того, чтобы продумать обстановку квартиры, пыталась понять, почему Юрочка не хочет ехать на дачу, а пишет только исключительно свои карточки, бог знает, с какими там примерами из каких языков.
 Англия была новшеством во всем. Она просыпалась утром, полная сил, и снова видела в окно эти дивные трубы, эти поля. Но ей стоило большого усилия начать эту жизнь заново. Родители Юрочки так и не узнали, чего ей стоило их участие. Потом, спустя десять лет, она будет в полном шоке от того, что оба они умрут в одночасье, один за другим. От этой страшной вести было потом даже неловко встречать Юрочку, который, конечно, вообще не был ни в чем виноват, просто очень медленно рос.
Англия была новшеством во всем. Она просыпалась утром, полная сил, и снова видела в окно эти дивные трубы, эти поля. Но ей стоило большого усилия начать эту жизнь заново. Родители Юрочки так и не узнали, чего ей стоило их участие. Потом, спустя десять лет, она будет в полном шоке от того, что оба они умрут в одночасье, один за другим. От этой страшной вести было потом даже неловко встречать Юрочку, который, конечно, вообще не был ни в чем виноват, просто очень медленно рос.
Англия…. Когда лучшая подруга говорила Агриппине, что она не знает жизни, или что она никогда не проводила долгое время с близкими людьми, она не возражала. Многие могли так подумать. Но Англию она выстрадала. Англию она полюбила, потому что приложила непомерные усилия к знакомству. Она работала там в Университете, она писала для лучшей газеты Лондона статьи, она была на балах, она работала в центральных банках. Она выступала перед эмиграцией, знакомилась с князьями, бывала во дворце, и ездила в бесконечные поездки по стране. Но это будет потом, это будет долгое время ее усилий, это будет сотня людей, которые станут близкими. Будет, будет, будет.
А пока что… Пока что она просто сидела в этом маленьком городе, ничего не понимая, не понимая, как же ее выбросили из той жизни, к которой она так стремилась, просто потому, что посчитали, что у нее не те намерения.
Джон подошел к ней, действительно, на автобусной остановке. Он подошел к ней как будто бы случайно, именно когда она осознавала, что чувствует себя ужасно. Он пригласил ее на ланч, и разговаривал так, как мужчины вообще никогда с ней не говорили. Вежливо, мило. Он был очень хорош собой, бывший военный, офицер британских ВВС. Спустя долгие годы, ее лучшая подруга скажет, «Я вообще не понимаю, почему ты разговариваешь всегда о своих знакомых женщинах. Если бы у меня были такие знакомые мужчины, я вообще бы не посмотрела ни на одну. Ты вообще видишь, какой он?»
Агриппина этого не видела. Она совсем этого не видела. Не видела, когда Джон пригласил ее в четырехэтажный дом своей матери, потомственной ирландки, не видел, когда познакомил со своей добрейшей сестрой, которая училась в католическом монастыре. Не видела, когда он повез ее в Лондон, повел на приемы офицеров ВВС. Не видела, когда поехала на закрытую английскую базу, где ему вручали диплом. Странная девическая глупость никак не позволяла ей увидеть его заботу, его отношение, его каждодневные подношения, встречи. Она не могла переступить через что-то важное в себе, потому что, видимо, внушила себе что-то неправильное о себе же самой.
В Англии она могла все. Она могла работать, могла писать, могла обсуждать. Не было той силы, которая могла критиковать или ставить под сомнение ее поведение. Джон говорил, что она как француженка. Всегда хорошо одета, всегда весела. Он гордился ею, потому что она была умнее, ярче, чем все, кто его когда-либо окружал.
Джон рассказывал ей о своей жене, о том, что она сотворила с его жизнью. История эта была очень печальна, и писать об этом совершенно не хотелось бы. Этот груз упал в некотором роде и на плечи Агриппины, его радость от всего того немеркантильного и живого, что пришло в жизнь заново и после.
Через год она вернулась в Петербург, а Джон сразу поехал за ней, вновь и вновь уговаривая вернуться. Он появлялся там, где были ее коллеги и друзья, со своей этой военной выправкой, красивой одеждой, умом, и самое главное – способностью держать себя в обществе.
Лучший друг Агриппины, рыжеволосый юнец, нежный и прекрасный, объяснял Агриппине, что Агриппина совсем не любит этого своего Джона, «это и так видно». Почему он объяснял Агриппине что-то про Джона, было не совсем понятно, но продолжала Агриппина слушать этого своего друга достаточно долго.
Почему Агриппина и ее друг поехали в Лондон было сложно сказать, Агриппина считала, что следует показать другу красоты, которые она прожила и выстрадала сама, дать воочию убедиться, насколько эта страна хороша. После той памятной поездки другу Агриппины стало почему-то плохо, и он часами теперь звонил Агриппине, говоря о том, насколько. В результате, осознавая свою вину, Агриппина все-таки пожалела своего друга и рассталась с Джоном.
— А дальше?
— Знаете, дальше нужно было обязательно этому самому другу отдавать деньги, каждый месяц. Денег нужно было отдавать очень много, иначе всем было грустно.
— Вы отдавали деньги?
— Да, в больших количествах. Я работала и отдавала эти деньги, иначе у всех было очень плохое настроение. Работала я где-то до 12 ночи, и это было условием того, что можно было как-то нормально существовать в этом новообразованном обществе.
— А потом?
— А потом, знаете, друг решил ездить в Лондон сам, и остальная часть жизни ушла на то, чтобы как-то поддерживать его поездки материально.
— А дальше?
— Дальше шли годы, и в один прекрасный момент, друг сказал, что теперь он хочет все начать заново. И начать заново он решил, познакомившись со своей новой подругой, которая, так сказать, наконец, положила конец всем тем сложностям, с которыми все сталкивались, пока друг Агриппины просил средства для выживания.
— А Вы?
— А я сидела на скамейке в этом же Летнем саду, пила шампанское, и не могла заглушить ту боль и унижение, которую испытывала от того, что после этих адских трудов, после всех поездок, после позора со стороны всего мира, появилась героиня, с которой запросто взяли и сделали все «по-божьему», то есть так, как следует, как надо.
Знаете, продолжала Агриппина. У меня было впечатление, что растоптать можно и нужно только самое хорошее. Когда намечалась какая-то искренность, она сразу была уничтожена. Я потом часто встречала повторения этой истории, многочисленные. Я снова и снова видела этих людей и ситуации, в которых старшие женщины, прожженные и бывалые, душили юность просто за то, что она таковою являлась. Как задушили и перечеркнули одним махом все то, что было в моей жизни.
— Но ваш друг имел право на что-то еще кроме вас?
— Имел. И я была очень рада, что он это все получил. Я не была ничего ему должна, его жизнь стала другой, он считал себя победителем, а потом, встретившись с ним случайно, я даже услышала, что он был сам о себе не такого высокого мнения:
— Я очень прагматичен, — сказал он.
— Прагматичен, это только в моем понимании – плохо, для него это все было – нормально, — продолжала Агриппина.
— Так что вы хотели сказать?
— Я хотела сказать, что я никому ничего не должна, и что мне очень жаль, что Джон каким-то образом ушел из моей жизни. Его выбили те, кто не понимал силу его характера, внутреннего благородства. Выбили, потому что не хотели принять этих его качеств.
— А Вы?
— Я? Я, знаете ли, когда-то опубликовала его рассказ, который он написал.
— Какой?
— Он назывался по-английски, «carried but not worn».
— Что это такое?
— Это о перчатках. Носить, но не надевать. Английские военные пилоты носят при себе белые перчатки. Так полагается, к форме. Но они их никогда не надевают.
— В каком смысле?
— Носят, но не надевают. Джон посвятил этот рассказ своей первой жене.
— Грустно, да?
— Мне тогда казалось, что это очень грустно, и поэтому я напечатала этот рассказ в самом престижном издании Петербурга.
— Вы дурочка, зачем Вам эти истории?
— Я не могу о них не думать. Мне кажется, что есть ситуации, в которых мы можем все изменить к лучшему.
— К чему?
— К лучшему. Помочь.
— Как это помочь?
Вы можете помочь только себе, слышите? Мы не помогаем другим людям. Только себе. Помните, ту фразу? Спасите свою душу, и спасете мир.
Нина Щербак
фото автора





















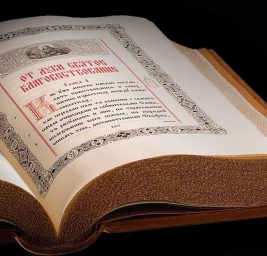









НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ