Человек в белом пальто и без
15.08.2024
/
Редакция

Человек, в младенчестве гулявший по Абрикосовым садам, и школьником сбегавший с учебы в кинотеатр «Волшебные грезы», чтобы увидеть романтичного Дугласа Фэрбенкса — Д’Артаньяна и инфернального Конрада Вейда — Люцифера в смокинге, ожидал от себя, дворянина, и тех, кого приближал, головокружительных проявлений – таланта, служения, благородства, сопротивления злу, словом, той силы духа, что делает судьбу человека неотвратимой и героической.
Однако при хороших стартовых условиях и последующем комфорте в советской иерархии, эпический честный роман на все времена им сочинен не был. Между неукоснительным для пафосного официоза знанием, по какой дороге все точно придут в коммунизм, и измучившей его мечтой творить, не кривя душой, он сделал выбор. Только даром он славу не взял. Талант златоуста, как пышущая молодость, надолго сделал его книги желанной добычей. Он умел в любом жанре обнажать человеческую душу.
Его жизненный курс был очень далек от обывательского маршрута – «завод-магазин-аптека». Принадлежал к писательской элите, жил широко и на свои, брался за любой литературный заказ и после бурных возлияний, в которых не щадил ни себя, ни официантов, спокойно вставал в семь утра, делал зарядку, ел овсянку и шел к машинке. Природная элегантность, с которой он носил красивые вещи, произносил вдохновенные монологи о деятелях культуры и истории, почерпнутой из купленных на роскошном книжном развале Китай-города романов «Редгонтлет» Вальтера Скотта, «Мельмот скиталец» Мэтьюрена, «Лицо во мраке» Уоллеса, разрозненных томов «Рокамболя» Понсон дю Террайля, а также общая значительность его брутального облика не рассеивались с годами. В звуках классической музыки, разливающейся в видимом радиусе от его дома на Красной Пахре, рождались «Берендеев лес», «Музыканты», «Царскосельское утро», «Встань и иди», «Перекур», «Заброшенная дорога». Если можно пальцем показать на образец писательской дисциплины, то имя Юрия Нагибина в этом коротком списке будет стоять первым.
«Старик работает, как Нагибин», — говорили о немногих коллегах-стахановцах, если и с иронией, то непринужденной. Всего плодовитый Нагибин написал более 400 произведений, выпустил 218 книг прозы и киносценариев. Причем, замысел обдумывал заранее. Соблюдая ровный ритм и сюжетный баланс в прозе, он с чувством, с толком расставлял фигуры. Визуально представлял все переходы к новым ипостасям характера, постепенно раскрывая сюжет (х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» по рассказу «Терпение», 1984). Если это остросюжетная киносага о гардемаринах, то кажущуюся размеренность он обрывал ударной волной экшена. Сюжет закручивал с подспудной долей эротики: рискуя жизнью, молодые герои спешат на помощь, распутывая одни интриги и придумывая встречные. Итак, все просчитав правильно, каждое утро четыре готовых страницы. Поэтому киноповести, несуществующий нынче жанр, ему давались так легко, что и сегодня драматургам можно у него поучиться. В то время как сам автор, по признанию в «Дневнике», считал работу в кино халтурой. За халтуру не награждали Ленинской и иными премиями. А картина «Председатель», в 1965-м признанная киношедевром и лучшей работой режиссера Алексея Салтыкова, с Михаилом Ульяновым в главной роли их получила. Тем более, что Нагибин писал портрет одержимого, ядреного Егора Трубникова с реального человека – белорусского партизана и председателя послевоенного колхоза, Героя Советского Союза Кирилла Островского. Как может у такого что-то не получиться, если он победил фашизм у себя и освободил от чумы полмира? Диапазон проявлений уникума в кино и литературе, борющегося в очень натуралистичных условиях, — от умения прикинуться дурачком до готовности задушить человека, стоящего поперек его, трубниковской дороги. Даже если это пишущий доносы партработник, впервые, между прочим, в советском искусстве поданный как неположительный персонаж. Автор новаторской повести, затем сценария о голодной, полуразрушенной, но восстанавливаемой бабьим царством деревне, не получил наград – ни в конце 1964-го, когда худсовет запретил расклеивать афиши по Москве, ни через год, когда тридцать миллионов пришли в кинотеатры, и заслуженная слава обрушилась на артистов — Ульянова, Мордюкову, Лапикова.
Раздвоенность, неудовлетворенность лишь усиливали большое нервное напряжение. Нагибин плевал на осуждающие взгляды, зная правила игры. Он и не думал писать, о чем не принято, однако, точно прицелившись, увидел голод 1946-1947 годов и отказался его лакировать. Мало того, он, фронтовик, понимал, что источившая души война закончилась, а грубость деревенского быта, вечная нехватка всего, людская усталость и ожесточение не позволяли многим дышать полной грудью и гордиться победой, личными радостями. Это было его первое крупное столкновение с цензурой, первый инфаркт и первый спуск с творческого пика, за которым последовала осмотрительность и сдержанность в письме.
Впрочем, и в смиренной стилистике «Берендеева леса» (1978) обитало счастье совершенной речи. Например, во встрече фронтовиков:
«Нина никогда не видела столь монументальной старости. Оба гренадерского роста, плечистые, чревастые, с обожженными солнцем медными лицами и певучим южным произношением. Мужчины обнялись и долго стояли молча, притиснув скулу к скуле, а Сергунова издала из своей могучей емкости нежданно тонкий писк, и голубые слинявшие глаза выслезились бисерком»
Или в описании любимых животных:
«… но достался ей не литой и пружинный королевский эрдель, не сухой красавец доберман, будто вырезанный из черной бумаги неотрывным движением ножниц, не шнуровой золотоглазый пудель, а рыжий дворник с расплющенным задом — щеночком его придавила снегоочистительная машина; он ходил с видимым усилием, по-балетному ставя задние тесно приплюснутые одна к другой лапы, а на бегу, отталкиваясь ими враз, развивал ракетную скорость»
Наблюдая человеческий почерк не вполне бескорыстно, в интересе и любви к женщинам Нагибин становился одновременно соглядатаем и провидцем. Догадывался и запоминал: «Когда человек, особенно женщина, вдруг прибегает к непривычной лексике, это почти всегда знак внутренних сдвигов, смещений. …. нет, у него никаких отклонений не будет, в пятьдесят четыре раствор, из которого ты отлит, схвачен намертво».
Автор в совершенстве владел и частенько пользовался приемом советской интеллигентской прозы, когда герои заново знакомились с самими собой и с теми, кого еще недавно они любили, и хорошо, как им казалось, знали. Внутренние размышления персонажей на фоне мистических событий, разворачивающиеся в кульминации все того же «Берендеева леса», похищают читателя у других занятий:
«Увлечение?.. Тогда все происходит иначе: корабли не сжигают, а тщательно берегут»
Мастер прозрачной прозы на протяжении многих лет пишет автобиографическую книгу о своем отце, которому советская система, унижая годами, сломала жизнь. В 1928-м, год его первого ареста, Юрий не мог знать, что настоящего отца Кирилла Нагибина расстреляли за сочувствие трудовому народу до его рождения. Женившись на матери будущего писателя, Марк Левенталь воспитывал мальчика в любви и родственной заботе. О благородстве и красоте отчима, о личной его боли и сыновней обиде за добрейшего Марка, после лагеря, скитавшегося по чужим углам, вдали от любимой Москвы, он написал повесть «Встань и иди» (1987). В десятилетнем возрасте впервые приехав к ссыльному в Иркутск, он, еще ребенком мрачно пережив свидание в Бутырской тюрьме и папу в клетке с толстыми прутьями, теперь увидел его сильно похудевшим и несчастным. Повзрослевший сын отметил про себя, что свершился переход «от младенческой всеядности к отбору, то есть к характеру».
Новосибирск, Саратов, Шатура, Рохма… В окружении недобрых взглядов, рабской зависти, мелкого воровства, вымещая на нем неведомые комплексы, прошли два, совсем не плодотворных десятилетия яркого и образованного человека… «Они ненавидели отца и за то, что он сидел в лагере, и за то, что он вышел оттуда, и за то, что он не умирает с голода, не ходит босым и голым, за то, что сын у него писатель и сын этот не бросит его в беде». Нагибин в своей исповеди придал слову «отец», не согнувшегося в издевательствах, такую весомость и значимость, что читатель по праву ставит художественный анализ и размышление о своих близких в один ряд с толстовским «Детство. Отрочество. Юность».
«Меня же он щадил, считая, что я молод, мне жить и жить и не к чему знать, как из человека вышибают душу», — ключевая фраза к пониманию мизантропической природы человека и писателя Юрия Нагибина.
Много болезненной откровенности содержится и в последнем его произведении «Дневник» (1984). В нем нет ничего второстепенного: каждый год заполнен работой, часто удушливой, но авансом оплаченной; деталями жизни семейной, соединившей любовь, прежних жен, обслуживание дома, который полная чаша, с желчными характеристиками людей первого ряда. Узнавшие себя обиделись, увидев в нагибинском импульсе желание оголиться самому да товарищей опозорить. Один Андрей Кончаловский, которого Нагибин обвинил в бытовой алчности, воздал должное самонаказанию: «Никто не знает, какую часть таланта он заплатил за свое благополучие». Возьму для примера замечание о людях самое нейтральное, если не знать, что автор говорит о ленинградцах конца войны: «Расслабленные и какие-то не от мира сего, кажется, что вся ткань их тела переродилась, стала податливой, прозрачной и квелой».
«Дневник» — это безжалостный разговор с самим собой, снявшим белое пальто. Документ огромной эпохи с признанием в собственной трусости на войне, в приспособленчестве и эгоизме, не мерянном сексуальном аппетите и давившем его тщеславии.

…С даты ухода Юрия Нагибина прошло тридцать лет. Мы пережили бурную эпоху, по интенсивности вместившую удвоенный срок. С небывалой по масштабам и малоудачной по итогам трансформацией страны и человека, с попытками одновременно встроиться в мировую цивилизацию и ловко перешагнуть через собрата. Убедились, что общепринятые законы экономического и общественного развития где-то сталкиваются с объективными реалиями у нас – громадной территорией, обильным природным богатством, нежеланием большинства решать нерешаемые задачи, по-разному понимаемой культурой поведения и быта. Между тем, эпический литературный герой так и не создан, но можно представить его, увидевшего эти годы, какими они были на самом деле.
Реальный прототип хорошо известен – глава стратегического прибыльного предприятия, открывающий и сегодня самые желанные двери. Его изощренный ум и отличное образование от папы-профессора оставляем за скобками – это базовый уровень. Он вышел сухим из воды отовсюду, где угрожали открыто, кидали в «пыточные», отбирали смеясь, меняли форму собственности вчера, увольняли командами с утра и все это черным пиаром полировали, чтобы червоточинка сомнений выползла по любому свидетелю, когда откроют, наконец, этот ящик Пандоры! Лихие невидимые акционеры, выставив на свет более речистого, с породистыми корнями полпреда, создали вокруг себя мертвую зону с правилами, не допускавшими неточного взгляда. Исключительный калибр личности просто обязан быть описан, иначе потеряется пласт истории, которую потом никто не вскроет, не будет знать, как к нему подступиться. И что же в центре этого подвига? Нет, не криминал и не продажность. Поражали любые цели беспрецедентная приспособляемость и невероятная проникающая способность. Динамичный роман о многослойном даре живучести и альтернативных морали предпочтениях плотным, ароматным языком мог написать только Юрий Нагибин. По праву знания дел в социальной иерархии и по долгу сопротивления мнимой широте мира, исполнив свою сокровенную мечту — оставить нам свободный, неподцензурный роман тончайшей словесной выделки. Если бы был жив.
Наталья Селиванова













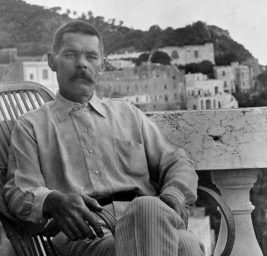



















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ