Записки профана (Завещание, если хотите)
28.07.2025
/
Редакция

Уважаемый, этот текст уже перед твоими глазами (случайно ли, по совету друга, или по какой иной рекламе) и, наверное, ты просмотришь, по крайней мере, несколько страниц, прежде чем отключишься от него. Или продолжишь чтение. Я хочу помочь тебе сделать выбор. Не скажу – правильный, но тот, который соответствует твоей личности, твоему мировосприятию, твоим пристрастиям. И для этого я, Григор Апоян, автор этого текста, сам обязан раскрыть тебе некоторые подробности его написания, так сказать первопричины.
Прежде всего, ты должен знать, что читаешь творение человека, который не имеет значимых познаний ни в одной сфере человеческой деятельности, который за свою жизнь не прочитал ни одной серьезной книги, пусть он и обладает научной степенью и многочисленными публикациями по самым разным отраслям, и даже издал пару книжек с претензией на фундаментальность. (Кстати, все мои труды имели немалый успех, но лично я не приложил к этому практически никаких особых усилий.) Естественный вопрос: как же я так истово писал и продолжаю писать при столь низкой самооценке? Ответ искренний: балуюсь. Хочешь на этот раз побаловаться вместе со мной? Вперед!
Итак, знаний маловато, важных связей и материальных средств вообще никаких; владение языка, правда, у меня, не стану скромничать, на достаточно высоком уровне (опять же – се не моя оценка), но этого явно недостаточно для привлечения и удержания внимания почтенной публики. А что, на самом деле, реально имеется? Три важных фактора успешно, как показывает практика, работают на меня: первый, самый главный вообще для достижения успеха в этом мире – наглость. Я имею смелость (для «культурности» текста используем эвфемизм) бесцеремонно совать свой нос во все дела, о которых лишь впервые услышал. Но такая «смелость» сама по себе скорее может стать причиной немалого числа болезненных шишек, и чтобы этого не случилось, у меня в рукаве припрятан особый козырь – это моя способность быстро вникать в самую суть любого разговора, любой темы, любого контента. «Зри в корень!» гласит народная мудрость. Природа даровала мне эту способность. Благодаря ей я сразу же произвожу впечатление весьма компетентного человека. Потом уже никому не приходит в голову покопаться в деталях и вывести меня, профана, на чистую воду. При наличии интернета сделать это (вывести меня на чистую воду) практически вообще невозможно. Особенно, если учесть, что публично я выступаю крайне редко, а в тиши кабинета за короткое время при достаточной гибкости ума (а это у меня тоже есть) в сети всегда можно найти нужный материал. Ты понял – интернет и есть мой третий аргумент, третий фактор. Важнейший фактор. Он доступен всем, но им тоже надо уметь пользоваться.
Ну, вот, сейчас ты уже точно знаешь, что здесь не найдешь ничего действительно стоящего, и тем не менее, не отбрасываешь текст в сторону, а продолжаешь почему-то читать бредни выжившего из ума старика. Почему же? Я объясню твою мотивацию. Искренность – это слово практически стало (или было всегда) абстракцией в нашей жизни. Большой сюрприз встретить человека, который что-то правдивое расскажет о себе, потому мы всегда с большим недоверием воспринимаем любой рассказ. А тут человек совершенно открыто говорит о вещах, которые он, по всем правилам, должен был тщательно скрывать – разве его не стоит послушать! Разве его слова о чем бы то ни было не заслуживают доверия! Если он не жалеет себя, кого он пожалеет, кого пощадит, выгородит? Это же очень интересно, послушать человека, который скажет то, что действительно думает, что, возможно и даже вероятно, соответствует действительности. (Вы не замечали, что всеми по делу осуждаемое хамство, на самом деле, обладает неким особым обаянием – это его предельная искренность.)
Тем не менее, я считаю своим долгом, если ты все же остался в моей аудитории, предупредить тебя также, что рассказ мой будет совершенно сумбурным, несистематизированным, я буду перескакивать с темы на тему, противоречить самому себе, очень возможно, часто повторяться и говорить банальности, как всегда и делаю, так что брось ты это бессмысленное занятие, это копание в моей (и собственной) душе – автор тебе честно советует (это не кокетство). Но сам он, естественно, продолжит свой одинокий путь, он все же хочет что-то сказать этому миру. Естественный вопрос – зачем? Ей-Богу, не знаю. Должно быть, этот путь не так уж одинок, ежели автор вопиет к людям, к миру. Истинное одиночество не когда мир отвергает тебя, а когда ты отвергаешь мир, а на это и мне не хватает духу, я всего лишь человек. Только самоубийцы могли бы похваляться таким одиночеством, но ведь у них уже не спросишь! В этом смысле, посмертные записки мало чего стоят.
Каждый раскрывается перед миром в меру своей боязни перед ним. Кто не боится – расскажет обо всем. Как Лимонов. И в этом сила его литературы. Он не боится рассказывать о самых интимных, самых постыдных подробностях своей жизни. На первый взгляд, он унижается перед читателем. Но только на первый. Без унижений нет достижений. Но не это главное. Унижение, публичное признание своих оплошностей, своих прегрешений – лучший способ самопознания. Соответственно – совершенствования. Соответственно – обретения свободы. Обнажение перед миром есть своеобразный способ покаяния, а покаяние без искупления не стоит и ломаного гроша. Истинно раскаявшийся человек жаждет воздаяния за свои грехи, адекватного наказания. Без него раскаяние – пустой звук, славословие. А степень раскаяния и жажда расплаты зависит не от тяжести содеянного, а от совестливости кающегося. Только ты сам можешь дать себе отпущение грехов – больше никто. Но сможешь? Сможешь???
Лимонов здесь, вероятно, первопроходец и, возможно, – уникум. Дураки будут насмехаться над «непутевым» (наивным, выжившим из ума) творцом, умные – призадумаются. Сила духа в большей степени проявляется не в противостоянии с противником, а в преодолении себя самого – своих страхов, своих комплексов, своей гордыни. Только так рождается любовь, любовь к жизни. Это особая, очень трудная любовь, в ней мало радости, но это компенсируется чувством удовлетворения. Люди ценят и тянутся к любви попроще, близкой к природе, к земле, к наслаждениям. Почему так любим Окуджава? Потому что все его творчество пронизано именно такой любовью. К друзьям, к родной улице, к женщинам, к стране – к человеку. Только такое творчество не просто живет, но и трогает.
В произведениях Лимонова нет этой живительной любви. Есть секс, есть жажда чего-то особенного (смутная, непонятная самому автору), есть ненависть и много чего еще. Но нет любви, той любви, нежности. Хотя он только о ней и говорит. Но только говорит. Не чувствует. Его любовь другого разряда. Которой он сам, кажется, не может дать определения. И это не удивительно. Вся жизнь сколь-нибудь нетривиального человека фактически проходит в непрерывных бесплодных поисках любви, своей любви. Порой даже кажется, что ты нашел ее, но в итоге всегда это оказывается мираж – уж на пороге смертного одра разочарование неизбежно – будь то любимая женщина, обожаемые дети, или увлекательная работа. Такова трагическая судьба человека – тривиального, или нетривиального – без разницы. (Заметим в скобках – редчайшие исключения все же бывают, человек до последнего дыхания остается верен своей любви. Грешно так думать, но порой мне кажется, что степень удовлетворения собой, точнее, приятия самого себя, находится в прямой зависимости от степени примитивизма.) Самой частой, но в равной степени бесплодной в итоге попыткой уйти от холодящей душу внутренней пустоты является уход в религию, замена реальной любви абстракцией – ее-то можно наделить в своем воображении любыми, самыми невероятными качествами и холить выдуманные кем-то «святые» образы.
Сама по себе религия не представлялась бы бессмыслицей, если бы клерикалы не пытались жестко привязать бога к человеку, к его образу, к его реальной жизни, но они не могут этого не делать, так как только таким образом они могут постоянно стращать человека божественной карой и цепко держать его в своих руках, далеко не всегда чистых руках. Первая и наиважнейшая задача любой религии – запугать (смертельно запугать) паству. Думающих свободных людей эта примитивная функция религии возмущает (меня, в том числе). Но по трезвому размышлению, понимаешь, что паству, так или инче, необходимо держать в повиновении, и, наверное, лучше делать это именем Бога, а не какого-нибудь проходимца (которых более, чем хватает). Иное дело, что и служители религии нередко оказываются такими же проходимцами (они вылеплены из того же материала – человеческого, порочного). Преимущество религии состоит в том, что ни один предстоятель (потенциальный диктатор) не может по своему разумению внести принципиальные изменения в установленные веками порядки. Но в этом также и тормозящий развитие консерватизм. Со временем религия неизбежно отстает от жизни, становится косной, обветшалой. В ней невозможно произвести какие-либо реформы, внести изменения, подстроиться под современность. И, чтобы сохранить авторитет, религия принуждена крепко держаться и даже ужесточать правила своего внутреннего распорядка, поддерживать такие нелепые традиции, как умерщвление плоти, сидение на столбе, самоистязание и т.д. Также ей приходится настаивать на истинности совершенно невероятных историй из так называемых «священных книг». Способствует ли это, на самом деле, повышению, или хотя бы сохранению авторитета церкви у думающего человека? Может ли, на самом деле такой человек найти успокоение в религии? Это вряд ли. Вряд ли. Бог, который вне тебя – не Бог!
Религия уверяет, что человек и является главным объектом внимания и заботы Господа Бога. Но ведь Господь, по определению, существовал всегда, а человек – относительно с недавних пор. Так кто (или что) было главным объектом внимания и заботы Господа до того, как появился человек? Динозавры?
Что же делать? Где искать себя? А ничего не делать! В армянском фольклоре есть выражение: «как было, так и будет» (буквальный перевод «как все пришло, так и пройдет»). В сущности, ничего не меняется в этом мире, только внешние декорации, а суть, суть человеческих отношений – она единая и неизменная, аминь! Шотландский философ Дэвид Юм еще в восемнадцатом веке писал: «Человечество до такой степени одинаково во все эпохи и во всех странах, что история не дает нам в этом отношении ничего нового или необычного».
Одно могу сказать: есть время размышлять о морали, провозглашать высокие, благородные цели и время следовать им. Это расходящееся время. Торжественно обещанный период справедливости постоянно оказывается в каком-то ждущем режиме. Уинстону Черчиллю приписывается примечательная фраза: «Когда нации сильны, они редко бывают справедливы; а когда они хотят быть справедливыми, у них уже нет той силы»; эта максима вполне адекватно может быть отнесена не только к целым народам, но и к отдельным личностям, отдельно взятому человеку, как таковому. А ты – человек. Так что, если ты хочешь жить достойно, скорее всего, тебе следует умереть. Всегда есть, куда деваться. Я имею в виду тот свет, конечно. А пока ты, тем не менее, живешь, должен стараться поменьше грешить. В Армении в ходу поговорка: «Счастливый человек – ни ума, ни греха!» То есть грех – исчадие ума. Мы расплачиваемся за умение мыслить и, соответственно, обставлять других (природу, животных, других людей) последующим раскаянием за совершенные в их отношении подлости (правда, пока далеко не все доросли до таких моральных высот).
Сама идея покаяния (и соответственно, воздаяния) – это довольно новая идея, она пришла к человеку далеко не на первых порах становления Homo sapiens. По сей день не часто встретишь человека, искренне раскаивающегося в своих прегрешениях. Будем честны: мы отнюдь не склонны признавать свои ошибки и нести ответственность за них. И религия, призванная, вроде, насаждать мораль в человеческом обществе, относительно недавно окончательно сформировала концепцию раскаяния – в древних верованиях она существовала в значительно более «облегченном» виде (там превалировала идея мести). Человеку, наверное, необходимо пройти еще долгий путь, пока мораль по-настоящему утвердится в его душе. И займет там хотя бы скромное место рядом с властвующими его жизненными потребностями – едой и сексом. В принципе у человека, в отличие от животных, наряду с упомянутыми двумя источниками наслаждения есть дополнительный очень важный ориентир в жизни – гордость! Но это вовсе не то чувство, которое призвано очистить его душу, приблизить к идеалу.
Всем живым существам, созданным Матерью-Природой, для продолжения своего существования должны быть обеспечены две фундаментальные потребности – еда и секс. Всем, кроме «венца природы» человека – ему для существования также жизненно необходимо чувство гордости, без него он просто теряет свою идентичность и так, или иначе сходит на нет. То, что еще называется чувством собственного достоинства.
Почему человек так истово поклоняется своему Богу, своей всегда несуразной религии? Потому что она дает ему надежду на бессмертие. Но почему он так яростно воюет именно за «свою» религию? Потому что именно в войне (любой войне) вырисовывается призрачный лик победы, а победа, тотальная победа есть единственный смысл жизни (за пределами еды и секса) одураченного человека. Пресловутая «гордость».
Хлебом, в конце концов, можно обеспечить всех; с сексом также нащупываются некоторые универсальные решения (пусть и паллиативные), а вот что касается гордости – тут никаких удовлетворяющих всех решений быть не может. Гордость одних всегда должна быть за счет других. Что значит гордиться собой, что может служить основанием для этого? Только и только унижение другого, потому нас всю жизнь сопровождает неизбывная жажда унизить другого человека – как хочешь это называй – кулачным боем, соревнованием, конкуренцией, дружескими объятиями….
То есть гордость всегда, по существу, добывается войной. И цель войны все более будет концентрироваться не на материальном, а на метафизическом. Во имя третьего, специфически человеческого источника наслаждения – гордости человек нередко готов пожертвовать даже самой своей жизнью. Возможно, именно это качество делает человека человеком, в смысле существом, стремящимся к чему-то сверх имеющегося.
Итак, человек метафизически хочет гордиться. Собой, своими достижениями, своим детьми, внуками, своим двором, городом, страной, народом. Кто ему в этом препятствует? Сосед. Сосед в широком понимании. Значит сосед должен быть уничтожен – в том, или ином смысле. Чтобы восторжествовала гордость. Гордость – до ужаса подлое слово, оно должно быть проклято и исключено из обихода Человека!
Но если исключить из обихода слово «гордость», то и жизнь потеряет всякий смысл, жизнь нации прежде всего. А потерявши смысл, все исчезает. Рано, или поздно.
Резюмируем: гордость, при всей ее важности для бытия человека, никак не может способствовать его нравственной чистоте. Но и исключить ее из нашей жизни никак невозможно. Тупик.
Но есть качество, которое действительно может очистить его душу – это способность бескорыстно отдавать.
Задумаемся – обладание чем-либо (талантом, богатством, какими-то ресурсами) в принципе дает лишь одну привилегию – возможность отдать это, поделиться. Большинство (подавляющее большинство) вовсе не склонны воспользоваться этой привилегией; они будут торговать своим богатством, выменивать его, стараясь объегорить контрагента, получить для себя максимальную материальную выгоду; их жизненная установка состоит не в том, чтобы отдать хотя бы часть своего (пусть его уже некуда девать), а наоборот – отнять чужое, обобрать, опустить брата своего. Но всегда найдутся единицы, которые действительно поделятся своим достоянием безо всяких условий, просто чтобы тот, другой встал в итоге рядом с ним. Просто, как достойный человек. Вот эти единицы и называются истинно людьми, они – маяк и ориентир для поколений. Мы все должны стараться следовать их примеру, если когда-нибудь надеемся по-настоящему стать людьми. Тогда наши достижения (в этом, новом смысле) будут для нас не предметом гордости (то есть гордыни) а предметом глубокого удовлетворения, истинной, незамутненной радости. Давно еще призывал всех нас к этому святой Франциск Ассизский. Он произнес всего лишь одно слово: «Отдавайте!» и стал символом другого восприятия мира, фактически положив начало современной европейской цивилизации.
Великий Бетховен сказал: «Я не знаю другого признака превосходства, кроме доброты». Это ведь истинный ориентир для настоящего человека!
Существует вполне обоснованная точка зрения, что началом человеческой цивилизации нужно считать то время, когда стали выживать члены общества со сломанной берцовой костью. Когда соплеменники не давали им погибнуть вследствие фатального по тем временам увечья. То есть, когда рядом с несчастными калеками оказались люди. Уже люди. Которые были способны отдавать, ничего не получая взамен. Пусть они и будут нам всем сегодня (и завтра) примером. Их точно было ничтожно мало в те забытые времена, очевидно, очень немного таких людей и сегодня, но вдохновляющая, в целом, история Человека дает нам основания все же с оптимизмом смотреть в будущее. Мы прошли путь от единичных, исключительно сердобольных акций по оказанию помощи попавшим в беду соплеменникам до институционально закрепленных учреждений и процедур, призванных обеспечить минимумом условий для достойной жизни каждого члена цивилизованного общества (в том числе, увечного, или недееспособного). Сейчас мы подошли к такому этапу, который диктует нам проделать, в некотором смысле, обратный путь – когда быть человеком обяжет нас не строгий закон о социальной защите, а опять же то самое чувство сострадания и солидарности, которым руководствовался упомянутый уже первобытный человек. Отказ от доминирования в любом варианте должен стать императивом нового человека. Я не знаю, как это может быть, но это должно быть. И в становлении Человека это будет примерно такая же веха, как сросшаяся берцовая кость.
Прекраснодушные слова, конечно, но если бы не было в нашей жизни наивных идеалистов (отметим особо – победных идеалистов), то, наверное, человек никогда не вышел бы из пещеры. Не смейтесь над Апояном!
Думайте лучше о том, как не зариться на чужое достояние, как переносить успех соседа, как радоваться чужим достижениям, которые, на самом деле, и ваши достижения, ибо продвигают они вперед всех нас. Широко известны слова Джона Донна о том, что смерть каждого человека – это невосполнимая утрата для каждого из нас; я бы осмелился к этому добавить, что и рождение каждого человечка – это определенное обогащение каждого из нас, а успех кого бы то ни было – это успех человечества, то есть опять же – каждого из нас. Разве не пользуемся мы постоянно всеми благами цивилизации, созданными когда-то давно (или буквально вчера) чудо-устройствами, пришедшими к нам из-за океана, или из соседней деревни – так почему же мы упорно норовим поставить подножку товарищу по работе, когда замечаем, что он добивается чуть больших успехов? Разве его успех не на общее благо? Далеки мы еще, очень далеки от истинной солидарности. С большим трудом человек выносит чужое благополучие, а чужое счастье порой способно превратить его едва ли не в зверя. Адекватное (а чаще гипертрофированное) впечатление на него производят только собственные достижения. Чужие – только раздражение. Даже те, которыми объективно нельзя не восхититься.
Как бы мы ни корили себя за какие-то прегрешения, или недостатки, как бы ни посыпали голову пеплом, на самом деле, более всего мы склонны переоценивать себя, свои способности и добродетели. Надо понимать, будь твой визави даже червяком, он восхищается собой, своей статью (ну, и всем остальным) точно так же, как ты – собой. И у него точно так же, как и у тебя, просто спокойная уверенность, что он идеален. Как бы он ни каялся перед миром. Лицемерие пронизывает всю нашу жизнь, травит ее.
В реальности, человек по-настоящему может быть счастлив лишь до тех пор, пока может не лицемерить. Это очень короткое время его жизни – раннее детство. Когда мы все весело смеемся над его несуразностями, милыми промахами, и он смеется вместе с нами. Потом, по примеру взрослых, он научается лицемерить – и какое у него уже может быть счастье, один суррогат! В этом мире каждый сам за себя – и человек, и нация, и государство. Пусть они вроде и борются лицемерно всю свою историю за то, чтобы опровергнуть этот постулат, продемонстрировать какое-то «единство».
Знаменитые «звезды», кажется обласканные большой любовью и уважением широкой публики и ближайшего своего окружения, чаще всего и сокрушаются, что они ужасно одиноки. Почему? Потому что, как и все остальные, они живут в нашем пошлом мире лицемерия. А тонкие их души ощущают фальшь особенно остро, особенно болезненно. Творческий человек не может не быть одинок. Он навсегда обречен говорить только с собой.
И ты с возрастом все острее ощущаешь свою оторванность от мира, свое неприкаянное одиночество, единичность. В конце концов, это и есть истинная гордость твоя, но гордость трагическая, зовущая в могилу.
Лично я – философ по своей природе. Философ не может быть обидчив, он спокойно принимает жизнь такой, какая она есть. Плевки и побои – в том числе. Сократ – наиболее известный пример.
Философ – человек без амбиций; точнее, его амбиции столь велики, что никакие ваши человеческие славословия (или хула) никак его не задевают. Он всегда смотрит вдаль. Его цель – заглянуть за горизонт. И только невозможность этого приводит его в отчаяние.
А вот дураки хотят оставаться дураками. Вместе со своими потомками. Им нравится. Собственный куриный ум приводит их в восторг, и они категорически не хотят ни у кого ничему учиться. Засим более всего они раздражаются и возмущаются вашими попытками вывести их из дремучести. Помоги им, Господь!
Между тем, главный ум человека – слушать умных людей. К сожалению, очень редкий ум. Печально. Просто мало кто действительно в состоянии признать, что кто-то другой умнее его – не информировннее, не начитаннее, а именно умнее. Хорошо известно, «ты – начальник, я – дурак», но ведь все может измениться, дело только случая (он в этом убежден), – и тогда дураком будешь ты. Ждем, когда выпадут нужные карты и пыжимся, пыжимся всю свою жизнь. И без устали лезем в начальники. Пусть корабль идет ко дну, но капитаном должен быть я! Это и есть, по-настоящему, человеческая трагедия. Вечная и неразрешимая.
Между тем, единственная ценность, которая есть в этом мире для человека – красота. И соответственно, способность воспринимать красоту. Красоту линий, объемов, перспектив, красоту цветов, запахов и звуков; красоту взглядов, прикосновений, красоту слов – громких восклицаний и едва различимого шепота. И самое главное, самое ценное и самое редкое – красоту самих человеческих отношений. В том числе, любых человеческих проявлений, активностей. Истинный эстет увидит красоту даже в акте дефекации.
Ах, далеко не каждому открываются тонкие грани истинной красоты, большинство ограничивается красотой – нет, не красотой – калорийностью подаваемой к столу пищи, а также доступностью плоти, плотских наслаждений. Иные не видят красоту, даже находясь среди цветов, вдыхая их дивный аромат. А для иных красота вообще в отрезании голов. Есть даже такие народы. Долог их путь к самим себе, к человеку.
Вероятно, кто-то сочтет последнее заявление некорректным, оскорбительным для целых народов. Но обычно оскорбляются лишь те и лишь в той степени, в какой ощущают справедливость обвинений. Упаси вас Бог!
В противовес любителям ночных остро отточенных топоров есть в этом мире и такие люди, которые не способны даже просто ударить человека, пусть и своего обидчика. Конечно, их очень мало, так же как мало было способных выхаживать несчастных калек в первобытном мире. И эти «слабаки» удостаиваются всяческих насмешек от «настоящих мужчин», а по случаю – и беспричинных пинков. Скорее всего, так же жестоко обращались с теми самыми первыми гуманистами, так же насмехались над ними и шпыняли, но, как мы уже знаем, в итоге верх одержали именно они, «слабаки», как это ни парадоксально и, может быть, даже противоестественно. Человеческое существо вообще – противоестественное создание. Его животная структура требует борьбы, доминирования, а он, как видим, идет к любви, умиротворению. Медленно, но идет.
Отношение к сексу (а именно здесь проявляется, в основном, инстинкт к доминированию, конкуренции) зависит от степени продвинутости общества. В одних странах и сегодня женщин держат едва ли не взаперти в темных чуланах, в других они свободны в той же степени, что и мужчины. Борьба за истинное равноправие женщин и есть фактически борьба за то самое будущее. Современному человеку очень трудно представить, каким оно будет, это будущее. Сохранится ли в нем семья в ее нынешнем виде, какие радости придут на смену нынешним брутальным удовольствиям, как будут проявляться любовь и дружба, кто и как будет растить уже, возможно, не совсем частных детей – очевидно, все эти вопросы (и многие другие) получат свое разрешение в нескором будущем.
Бальзак как-то заметил «О чём бы ни говорили люди, они всегда говорят о деньгах». Я думаю, чтобы быть совсем уж точным и искренним, слово «деньги» следует заменить нп слово «секс». Ибо все в этом мире замыкается на сексе, деньги – в том числе. В основе всего в этой жизни – секс, как бы мы ни прятались от этой истины. Наверное, в какой степени мы действительно сумеем очеловечить секс (вот интересно, что это может означать?), будет зависеть кем станет сам человек, его нравственный облик. Будет ли он когда-нибудь в состоянии решить проблему некрасивой женщины и несостоятельного (в любом смысле) мужчины – это ведь посложнее будет проблемы сломанной берцовой кости! Может унисекс – решение всех проблем? Мир, кажется, движется именно в этом направлении, как бы ни сопротивлялись «традиционалисты».
Человек добавил к природному сексу странное слово «любовь» и обрек себя, таким образом, на новые, «человеческие» страдания. Произошло это, когда самец тоже захотел ощутить себя родителем, отцом. И был вынужден объявить монополию на обладание «своей» самки. Это страшное ограничение для обоих полов, фактически причина значительного числа социальных конфликтов.
Хотя в основе любви лежит тот же голый секс, его проявления тут могут быть самыми благородными (кстати, они встречаются и в животном мире – как правило, у видов, склонных к моногамии). Сама любовь имеет лишь один синоним – уважение, все остальное – животный инстинкт, даже любовь к детям; когда они вырастают из нежного возраста, то есть времени инстинктивных родительских чувств, любовь к ним может даже полностью улетучиться, если к ней не добавится уважение, гордость за них. И механизм реализации любви тоже всего лишь один – самопожертвование, по крайней мере, готовность к нему. Все остальное суррогат, прикрытие природной похоти.
По сути дела, любовь – это добровольный отказ от свободы. Секс – принудительный отказ. Так и живем. До лучших времен.
Итог (не изложенного текста, но жизни): если я не Бог, а всего-навсего человек, смертный (ближе к слову «смерд»), то какая, к черту, разница, Наполеон я, Эйнштейн, или бомж из подворотни! Все одна труха, один исход, из праха в прах, и все равно все останется наполовину, а потом и сгинет вовсе, так чего же зря тянуть волынку, во имя чего – текущих кратковременных наслаждений и гораздо дольше и горше – воспоминаний о них? Единственно, что ты на самом деле можешь сделать самостоятельно – это поставить финальную жирную точку, или, что то же самое, подмигивающий восклицательный знак! Совершенно без пафоса, но с вопросом, обращенным в будущее. Сделай это!
Это горькое предсмертное открытие тотального неудачника. То бишь, человека, то бишь, меня,













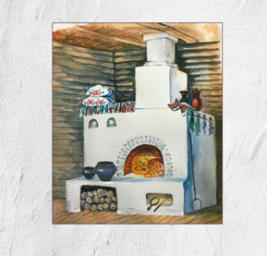
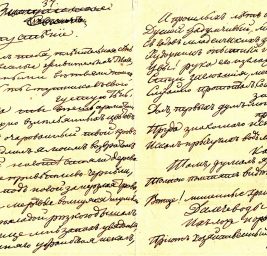










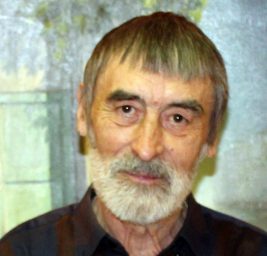





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ