Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- Александр Балтин. «Новогодняя ёлка, как ретроспекция жизни». Рассказ
- Елена Сомова. «Выравнивание вирусами». Философское эссе
- Путеводитель по краю листа
- Евгений Хохряков. «История с лопухами». Рассказ
- Елена Сомова. «Пришелец». Рассказ
Озеров. Последний луч трагической зари
25.11.2025
Место Озерова в истории русской литературы раз и навсегда определено чеканными строками Мандельштама:
Есть ценностей незыблемая скала
над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
на автора возвышенных стихов.
<…>
И для меня явленье Озерова –
последний луч трагической зари.
Русская литература в XVIII-ом, начале XIX-го века развивалась так быстро, проглатывая стили, жанры эпохи, что одна заря встретила другую: классическая трагедия с Озерова началась, на нём же и закончилась. А можно сказать, что классической трагедии у нас и вовсе не было, – Озеров мог стать основоположником жанра, но так и не стал, не успел стать: не случилось, не получилось. Большинство его пьес были драмами в стихах, не сумевшими достичь трагического накала. Только один раз…
Вяземский, когда говорил о геркулесовом подвиге Озерова, верно заметил богатырство, но не угадал с именем. Озеров, скорее, Святогор, попробовавший поднять суму (русскую трагедию, она же – тяга земная) и загнавший себя в землю сначала по колено, а потом и вовсе.
Подвиги меньшего, геркулесовского, масштаба его не привлекали.
Ещё Вяземский писал об Озерове:
Заслуги Озерова, преобразователя русской трагедии, которые можно, не определяя достоинства обоих писателей, сравнить с заслугами Карамзина, образователя прозаического языка…
Опять-таки, было бы что преобразовывать.
Озеров считался классицистом, свято блюл все формальные правила французского сценического ремесла – три единства и всё такое, – кажется, только для того, чтобы в корне поменять суть происходящего на сцене. Как бы издеваясь над традицией, он делал своих героев невозможно сентиментальными, нежно влюблёнными: смотрите, это кто-то вроде Эраста и Бедной Лизы заговорили о чувствах правильными александрийскими стихами. А нет, это Дмитрий Донской с нижегородской княжной объясняются перед самым мамаевым побоищем.
Озерову удалось, казалось бы, невозможное: полностью поменять характеры героев, оставив в неприкосновенности известный сюжет и торжественный тон речей. Не удивительно, что было много срывов, неестественность персонажей была очевидна ценителям. Но публике нравилось.
При этом сам Озеров не считал себя реформатором.
Всё, кроме некоторых хоровых партий, Озеров писал тем плавным александрийским стихом, который, кажется, был проклятием русской драматургии: как только она от него отказалась в пользу иных размеров, так дело пошло на лад, стали появляться шедевры.
Трудно представить себе, что этот сочинитель сентиментальных трагедий дослужился до чина генерал-майора, но в те благословенные времена никто не видел в этом противоречия.
Несмотря на высокий чин, карьеру Озерова нельзя назвать по-настоящему успешной: он, обидевшись на двусмысленные, но в общем-то неважные слова начальства, неожиданно уволился со службы. Его отставка была генеральной репетицией «провала» трагедии «Поликсена», после которой Озеров простился со сценой.
Похоже, что наделяя своих героев чувствительностью, Озеров начал с самого себя.
Сперанский считал, что лучшие стихи Озерова написаны по-французски. Ещё он называл Озерова трудолюбивой посредственностью. Вероятно, Сперанский чувствовал, что был бы для Озерова самым подходящим героем, – тем, который, попадая в самые что ни на есть трагические обстоятельства, до подлинной трагедии не дотягивает.
От античных драматургов дошло до нашего времени немного пьес, Озеров сам позаботился о своих читателях, написав всего пять трагедий – русское трагическое пятикнижие.
Когда Озерова хотели похвалить, то говорили, что он умеет исторгать у зрителя слёзы. Такое вот совершенно неверное понимание катарсиса.
История Озерова – это история превратностей театральной славы. Наименьший успех у зрителей имела его последняя трагедия «Поликсена» – безусловно, лучшая пьеса, которую он написал. И не просто лучшая, но это был какой-то решительный шаг вперёд, уход от влияния Расина к влиянию непосредственно античному, то есть к подлинной самобытности.
Пушкин, отказывая в народности «Дмитрию Донскому», справедливо замечал, что истинно народная пьеса может быть о чем угодно, да хоть сюжетно основана на итальянских новеллах, как некоторые пьесы Шекспира. Но в случае с «Поликсеной» Пушкин оказался глух.
Озерова называли «русский Расин». Так ли уж лестно, когда драматурга называют тенью тени настоящей, античной трагедии?
Как бы принимая эстафету у Софокла, чьей последней пьесой была «Эдип в Колоне», русская мифологическая трагедия в озеровском изводе началась с «Эдипа в Афинах».
В чём прелесть классических сюжетов – они всегда злободневны. Когда поставили пьесу Вольтера «Эдип», весь Париж тогда только и делал, что обсуждал кровосмесительную связь регента Филиппа Орлеанского с собственной дочерью. Они, конечно, пришли на премьеру. Насколько я помню, дочь тогда была беременна – уж не новой ли Антигоной?
Когда в Петербурге давали трагедию Озерова «Эдип в Афинах», то кто был настолько благочестив и патриотичен, чтобы, глядя на сцену, не допустить воспоминания об отцеубийстве в царском семействе.
В благодарность за пьесу Александр I преподнёс автору перстень.
Может быть, строки:
Увенчанным главам меж смертных нет судей:
Богам оставлено судить, карать царей, –
перевесили в глазах царя неприятные намёки. И, конечно, сам Александр сопоставлял себя не с Эдипом, а с Тезеем, царём сильным, справедливым и даже благословенным.
Хотя и некоторые мысли, высказанные Тезеем, должны были насторожить Александра:
Но я не для того поставлен здесь владыкой,
Чтоб жизнью жертвовать мне подданных своих,
Чтоб кровь их проливать к защите царств чужих.
Так ли уж нужны были русские войска на поле Аустерлица?
Конечно, «Эдип в Афинах» имел другие смыслы, нежели софокловский «Эдип в Колоне». Проклятие лабдакидов было пустым звуком для русской публики. Трагедия, которая у Софокла ещё сохраняла остатки связи с религией, окончательно секуляризировалась уже у Еврипида, так что от авторов нового времени нельзя ждать адекватного диалога с фатумом.
Все три софокловские пьесы фиванского цикла связаны фигурой Креона, – может быть, самого странного и неоднозначного персонажа во всей античной трагедии. Начинает Креон свой путь как подручный Эдипа. При этом Эдип сперва верит Креону, а потом начинает подозревать его во всех мыслимых и немыслимых коварствах. И Креон, изначально ни в чём не виноватый, ни в чём не крививший душой, начинает понемногу соответствовать мнениям царя. Раз всё равно такая репутация, то почему не воспользоваться. Как лукавый царедворец Креон действует в «Эдипе в Колоне». Потом Креон становится самым странным из тиранов, – тираном, который чрезмерно чтит правду закона, по букве и духу которого он казнит Антигону. А дальше… если есть в античной драматургии пример того, чтобы катарсис показали непосредственно на сцене, то это пример Креона, который в финале «Антигоны», глядя на всех погубленных, понимает, что никакие родовые проклятия не нужны: поиск правды, уверенность в своей правоте вернее всякого фатума губят человека.
Пережив величайшую трагедию своей жизни – смерти жены, сына – Креон перестаёт быть трагическим героем, то есть человеком, для которого всегда, в каждый момент времени очевидно, что правильно, что нет. Креон становится героем сомневающимся, героем, скорее, еврипидовским, чем софокловским, героем нового времени. Вот где, казалось бы, простор…
У Озерова всё не так: у него Креон буквально с первого шага рекомендуется как интриган и подлец, и по ходу пьесы всячески эти свои качества подчёркивает и культивирует. В финале пьесы Креон гибнет, сопутствуемый такими словами главного жреца:
Умри, враг общества и враг бессмертных дерзкий,
И от лица земли сокрой свой образ зверский!
У Софокла, согласно с мифологией и просто логикой сюжета, гибнет Эдип.
Озеров просто побоялся завершить пьесу гибелью положительного героя – вместо него приносят в жертву Креона. Философией классицизма предполагалось, что на сцене должно быть показано поражение порока и торжество добродетели. Классическая трагедия смелее и глубже понимала этические противоречия.
Эдип остаётся жив, но это не жизнь, это уже дожитие. Эдип не просто перестал быть трагическим героем – Эдип стал никем.
Сюжет античной трагедии был опошлен.
Чего я не могу понять, так это почему Озеров так нещадно уменьшил значение хора. Хор остался только как дань традиции, а не как главное бездействующее лицо трагедии, на чьём фоне заметнее и интереснее действие.
Хор говорит голосами стариков, женщин, пленников, прочих с точки зрения грека никчёмных существ, но всё дело в том, что в любой момент действия неожиданно сам для себя хор может заговорить голосом фатума.
Трагедия «Дмитрий Донской» воспринималась как самая народная пьеса на русской сцене. И действительно трудно переоценить значение Куликовской битвы для русских патриотов. Мы победили тех, под чьим игом изнемогали долгие годы.
Хотя:
Мамая победив, брегися, чтоб орды
Не съединились вновь для нашея беды;
<…>
И, отклонив от нас случайности войны,
Ты мир предпочитай победе бесполезной!
Насколько хорошо помнили зрители «Дмитрия Донского», что прямым следствием победы на Куликовском поле стало взятие Москвы и общее разорение русской земли ханом Тохтамышем? Так же, как и гибель Эдипа, истинная трагедия Руси и князя Дмитрия на сцену не попала.
Дмитрий Донской в пьесе получился на заглядение: человек тонкий, нервный, которого то и дело вразумляют остальные действующие лица:
Глас дружбы будет мой о должности твердить,
Стараться страсть твою несчастну истребить.
Стоит ли говорить, что формально, по аристотелевским меркам, пьеса, где всё закончилось победой русского оружия, примирением врагов, соединением разлучённых возлюбленных, так что свадьбу чуть на сцене не сыграли, – такая пьеса определяется как комедия.
Даром, что не смешная.
Стихи в пьесах Озерова были намного сильнее сюжета. И некоторые персонажи у него получались как живые, только разительно непохожими на свои мифологические или исторические образцы. Наверное, основная проблема Озерова в том, что он хотел быть именно трагическим поэтом. Возможно, что пьесы с современными персонажами удались бы ему лучше.
Начал ты вазу лепить, – зачем же сработалась кружка? –
писал Гораций в «Науке поэзии». Казалось, что Озеров, самой природой своего таланта предназначенный писать чувствительные драмы (срабатывать кружки), с невиданным упорством пытался лепить вазы, которые неизбежно приобретали родовые черты кружек.
Желчный в своей извечной неправоте Белинский так писал об Озерове: «Теперь никто не станет отрицать поэтического таланта Озерова, но вместе с тем и едва ли кто станет читать его, а тем более восхищаться им».
Пушкин с истинно протеевским двуличием то бранил Вяземского за чересчур комплиментарные отзывы об Озерове, то писал в «Евгении Онегине»:
Там Озеров невольны дани
народных слёз, рукоплесканий
с младой Истоминой делил.
Впрочем, иногда даже эти строки толкуют в упрёк Озерову: мол, если бы не мастерство Истоминой, то не было бы никаких аплодисментов.
Иногда кажется, что Пушкин с каким-то аккуратным и нещадным усердием вытаптывал в русской литературе всё, что не могло уложиться в рамки его канона: пушкинской школы, пушкинского языка. Тредиаковский, Ломоносов, Херасков – всё сбрасывалось с парохода современности. Даже Державину, якобы не знавшему русского языка за недосугом, иногда доставалось.
Спор карамзинистов с шишковистами о путях развития русского языка в нашем представлении окончательно решён Пушкиным в пользу Карамзина и Ко. А ведь какая-то правда была и на стороне Шишкова. Конечно, называть галоши «мокроступами» смешно, но смешно именно потому, что мы не привыкли, чем «мокроступы» хуже такого же русопятого слова «самолёт»? Да и мысли Шишкова о словесности одними «мокроступами», извините за каламбур, не исчерпывались, влияние церковнославянского было для русского языка куда более естественно, логично, родственно, чем влияние заезжего французского.
С лёгкой руки Пушкина мы много чего важного в русской литературе прохохотали.
Вот и Озеров показался Пушкину каким-то нелепым, ненужным, лишним. Из всего Озерова повторял он только одно полустишие: «я Бренского не вижу». Ждёт кого-то опаздывающего или приходит в общество, где нет кого-то нужного, и сразу: «я Бренского не вижу». Тоже слава…
Были те, кто пришёл в литературную борьбу потому, что считал это своим долгом, – таков адмирал Шишков; были те, кто явился на позиции ради забавы, кого веселило само участие в дружеской перестрелке, – таков Василий Львович Пушкин; а были те, кто оказался ни за что ни про что втянут в процесс. Таким хуже всех доставалось. Вот и Озерова не щадили. Для шишковистов он был чужим, а для карамзинистов так и не стал своим. Прилетало с двух сторон.
И Озерова нет.
Завистников невежд он учинился жертвой;
В уединении, стенящий, полумертвой,
Успехи он свои и лиру позабыл!
О зависть лютая, дщерь ада, крокодил… –
писал об Озерове Василий Пушкин.
«Колкий Шаховской» колол Озерова не литературными остротами, а ядовитыми административными шпильками, благо возможностей у чиновника дирекции императорских театров было предостаточно.
Но горе тому, кто с дарованием получил от природы и душу чувствительную, вверившую свои наслаждения и горести самовластию чуждого произвола! –
писал Вяземский.
Трагедия «Поликсена» стоит в творчестве Озерова особняком. Мне вообще кажется, что это первая действительно трагедия, написанная Озеровым, всё остальное было лишь подступами к высокому жанру. Поэт, начавший лепить вазу, был даже не удивлён, когда впервые действительно сработалась ваза.
Действие происходит у стен разрушенной Трои.
И башни рушенны Приамовой столицы
Являют мрачный вид народныя гробницы.
Греки, разделив добычу, желают отправиться на родину.
Но боги, пременив обычный чин природы,
Наслали мертвый сон на воздух и на воды.
Появляется тень Ахилла и требует человеческой жертвы. Пирр, сын Ахилла, решает, что это будет Поликсена, троянская царевна и бывшая невеста Ахилла. Агамемнон пытается за неё вступиться, но по войску уже пошли слухи о гневе богов, полки заметно волнуются. Убийство стало для греков привычным, да что там – единственным способом решения сложных вопросов.
Поликсену приговаривают к смерти потому, что цари боятся собственных народов: не убьёшь Поликсену, так они всех остальных пленниц перебьют, а не дойдёт ли потом дело до самих царей?
Глас народа – глас божий? Ну да, если иметь в виду тех богов, которые требуют человеческих жертв.
Такая вот демократия…
Но, гражданином быв, иль ты не человек?
Или желание угодным быть народу
Способно заглушить в душе твоей природу?
Агамемнон пытается остаться человеком. Эти строки предвосхищают пушкинские: «Оставь герою сердце! Что же / он будет без него? Тиран…»
Главным трагическим героем пьесы является Поликсена. Она не боится смерти, она не хочет оставить мать в одиночестве. Но когда понимает, что жизнь её может быть спасена только ценой новой войны, ценой гибели всех остальных пленных троянок, то всходит на алтарь и убивает себя.
Агамемнон даёт последнюю бессильную клятву и тем обрекает себя и своих детей на новые трагедии, – готовится «Орестея».
Не допущу, влачить Гекубы дочь ко гробу,
И пусть могущий Зевсъ залогом примет в том
Детей, которыми благословил мой дом.
И кто, как не Озеров, был призван эту русскую «Орестею» написать?
Озеров мог не знать того, что было очевидно каждому древнему греку: самоубийца не будет принят богами (даже поддонными богами) в качестве искупительной жертвы.
Так, Греки, обагрясь вновь кровию невинной,
Спешите покидать троянский брег кручинный!
Но чашу здесь на нас пролитых вами бед
Должны вы за собой влачить повсюду вслед.
Если в других пьесах герои Озерова прикидывались страдающими, то в «Поликсене» страдание заголосило с истинным размахом. Сентиментальности места уже не достало. Персонажи стали вечными, а не на злобу дня состряпанными.
Вместо «греков» можно поставить название любого другого народа.
Есть версия, что представления «Поликсены» были прекращены по личному распоряжению царя, усмотревшего в пьесе непозволительные намёки на матримониальные планы русского двора относительно свадьбы Наполеона и Великой Княжны Екатерины Павловны.
По другой, куда более интересной версии, Озеров, размышляя о судьбе Расина, с которым его так часто сравнивали, решил, что как расиновская «Федра» стала поводом для несправедливых гонений на автора, так и «Поликсена» должна стать трагедией и для самого автора.
Расин, обогативший «Федрою» своих современников, нашел в них пристрастных и несправедливых судей; Озеров испытал почти ту же участь, написав «Поликсену», совершеннейшее произведение своего дарования и, следственно, лучшую трагедию нашу, –
подтверждал такое мнение Вяземский.
Постановка и последующее снятие «Поликсены» со сцены стали дополнительным, шестым действием трагедии.
После «Поликсены» Озеров ничего больше не написал и вскоре умер. Русская классическая трагедия закончилась, едва начавшись.
Место Озерова в истории русской литературы не оспаривается никем, но, кажется, оно ему так безоговорочно предоставлено единственно для того, чтобы он уже не претендовал на место непосредственно в самой литературе. Так частная объективная оценка прикрывает собой и даже оправдывает общую несправедливость.
Если талант драматурга спорен, то как поэт Озеров хорош в пьесах, предшествующих «Поликсене», а в самой трагедии талант его проявляется в полную мощь, – это уже такая поэзия, которую нельзя забыть, вычеркнуть без ущерба для нашей словесности.
Конечно, то, что сделал с трагедией Пушкин в «Борисе Годунове» – это гениально, это высота, которую Озеров никогда бы не смог достичь.
Но разве не богаче бы стала русская литература, если бы пусть не наряду, пусть безнадёжно уступая в силе поэзии и достоверности драматургии, существовала бы другая трагедия, сделанная по иным образцам, скроенная по древним лекалам – тяжеловесная, античная, озеровская трагедия?
Хороший был бы девиз для русской литературы, да и для России вообще: «Больше трагедий, хороших и разных!»
Дмитрий Аникин
Tags: В.А. Озеров, история русской драмы, Мандельштам, Поликсена, Пушкин и Озеров, Расин и классицизм, русская классическая трагедия










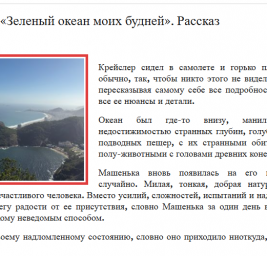












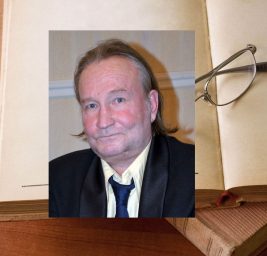






НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ