Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»
- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»
- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы
- «Как на турецкой перестрелке…»
- Николай Бут — «Мир на Земле»
Жанна Щукина. «Поэт без маски». Интервью с поэтом Дмитрием Рябоконем
22.08.2017
Когда читала предисловие ко второму стихотворному сборнику Дмитрия Рябоконя “Русская песня”, взгляд, а за ним и мысль, “зацепились” за следующую фразу: “По мнению критиков, Дмитрий Рябоконь — изощрённый стихотворец, тонкий лирик, скрывающийся под маской поэта-люмпена с окраин Екатеринбурга”.
Вступать в дискуссию с автором этих строк не вижу необходимости хотя бы уже потому, что, либо сказавший сие слишком поверхностно знаком с творчеством екатеринбургского поэта, либо достаточно вольно трактует лексему “люмпен”, вкладывая в само понятие маргинальности вообще и её воплощения в художественном тексте — в частности, предельно широкий смысл… Но с первой частью высказывания спорить не стану: Дмитрий Рябоконь, по моему глубокому убеждению, в отношении техники — поэт-виртуоз. И истоки этого лично я вижу в следующем: Дмитрий Рябоконь — прямой наследник акмеистической традиции в современной русской литературе.
Так, например, поэт Борис Херсонский настаивает, что русская поэзия, начавшаяся после смерти Анны Ахматовой, в большинстве своём — постакмеизм. Не претендуя на столь глобальные литературоведческие обобщения, стоит признать, что поэзия Рябоконя развивается именно в данном направлении.
В пользу этого говорит множество фактов, начиная с того, что сам литератор называет Осипа Мандельштама, одного из ярчайших представителей акмеизма, как о творчески его оформившем авторе, заканчивая выдержками из творческого кредо самого Дмитрия: “… не выношу в поэзии <…> размытость смыслов”.
Все мы помним, что акмеизм, генетически связанный с символизмом, идеологически и художественно противостоял ему.
Первой ласточкой эстетической реформы акмеизма принято считать статью Михаила Кузмина “О прекрасной ясности”. Будучи поэтом старшего поколения и не являясь акмеистом, Кузмин, по сути, сформировал программу акмеистов. Его “прекрасная ясность” (“кларизм”) стала реабилитацией эстетики разума и гармонии. Именно к этому призывает и чётко следует сам своему призыву поэт Рябоконь:
***
<…>
роскошная погода на дворе
гербарий соревнуется с асфальтом
букашек баритоны и контральто
учёных пробуждают в детворе…
Один из прародителей акмеизма, Николай Гумилев, был убеждён: “Действительность самоценна и не нуждается в метафизических оправданиях. Простой вещный мир значителен сам по себе, а не только тем, что выявляет Высшие сущности”.
Что говорит об этом Дмитрий Рябоконь: “Нет мелких и неважных тем. Весь мир для поэта — повод для стихов”.
Важно вот ещё что. В эстетике, а более, — в этике акмеизма чрезвычайно значимую роль играла категория памяти. В стихах постакмеиста Рябоконя данная категория воплощается наиболее документально точно (поскольку он — историк), захватывая периоды от “Энеиды” до большевистской Исети. Рябоконь — поэт скульптурно воспринимаемого слова; поэт, у которого каждое слово камень. Камень. Как название стартового сборника Мандельштама. Камень, всегда драгоценный.
UPDATE (!)
Когда данное эссе уже было создано, Дмитрий прислал мне свои стихи, написанные недавно, начиная с 2014 года.
В них я обнаружила принципиально иного лирического героя. И невольно задумалась: а, быть может, не столь ошибочно мнение критиков, считающих, что тонкий лирик и изощрённый стихотворец скрывается “под маской поэта-люмпена с окраин Екатеринбурга”?..
Но памятуя о том, что с позиции Дмитрия, поэзия = его жизнь, а его лирический герой = он сам, следует признать: меняется сам Рябоконь. И как поэт, и как человек:
***
А мне нравится жить, как свиньи, в грязи,
А мне нравится лаптем щи хлебать, —
Ты мне пальчиком чистеньким не грози,
Мне на это, в общем-то, наплевать.
—
Где-то там далеко есть Жан-Жак Руссо,
Где-то там чудесный Бруклинский Мост,
И такой замечательный Пикассо…
Но каждый второй у нас — Алконост.
17.07. 2014 г.
— В предисловии к Вашему сборнику “Русская песня” прочла следующее: “По мнению критиков, Дмитрий Рябоконь изощрённый стихотворец и тонкий лирик, скрывающийся маской поэта-люмпена с окраин Екатеринбурга”. Как относитесь к этому высказыванию?
— Знаете, я просто пишу о том, как я живу. Конечно же стихотворения предполагают какую-то гиперболизацию описываемых событий. Каждый видит в моих стихах то, что он хочет видеть. Все зависит от степени испорченности читателя. Или, наоборот, от степени его неиспорченности. Другими словами, от меры читательского вкуса. Дурного или хорошего.
— Из Вашей автобиографии следует, что приоритетом и ориентиром в творчестве для Вас является разговорная речь. Размытость же смыслов, намеренное умничанье Вы категорически не приемлете. Цитирую дословно: “Главное, чтобы стихотворение “схватывалось” с первого раза”. При этом у Вас много стихотворений, предполагающих высокий уровень языковой компетенции читателя. Стоит ли это трактовать так, что Вы уверены в культурной осведомлённости читателя; в том, что он обязательно поймёт Вас? И каков он, Ваш читатель, как думаете?
— Приоритет для меня — это чистая русская речь без громоздких лексических конструкций. Что же касается разговорной речи, то она, как раз, и хранит чистоту нашего языка в гораздо большей степени, чем т.н. литературная. То есть, нормальный, не перегруженный всевозможными суконными, пафосными, научными и т.п. фразами язык и диктует стихотворение. Поэтому, чем чище и четче ты говоришь, тем лучше тебя поймут люди. Будь проще — и к тебе потянутся люди. Пословица такая есть. А что касается исторических, культурных и прочих аллюзий, то ведь и о сложных вещах можно сказать просто. В таком случае простота не будет хуже воровства.
Опять же, все зависит от вкуса читателя.
Я думаю, что мой читатель — это читатель, литературный вкус которого воспитан на тех же поэтах, которые мне близки. И даже на тех прозаиках, которые мне близки, нравятся мне. Например, на Мандельштаме, Бродском, Галиче, Бунине, Куприне, Довлатове… Думаю, при близости литературных пристрастий и степень взаимопонимания будет максимальной.
— Ещё одна цитата из Вашей автобиографии: “Для меня нет мелких и неважных тем”. А есть ли особенно значимые?
— Центральная тема для меня — это одиночество человека. Во всех своих проявлениях.
— Ваш лирический герой и Вы. Какова степень схожести между вами: полное тождество, частичное? Или, быть может, для Вас стихотворение — всегда игра? Вхождение в образ и исполнение определенной роли?
— Мой лирический герой — это и есть я. Всегда! Даже если я пишу о ком-то, или о чем-то другом, это все равно я. В той или иной степени близости. Масок нет!!!
— Некоторые исследователи находят переклички между поэзией Сергея Есенина и Вашей лирикой. По Вашему собственному мнению, кто Вас литературно “сформировал и оформил”? Чей литературный и, главным образом, поэтический авторитет для Вас и сегодня незыблем?
— Меня как поэта оформили, прежде всего, Мандельштам, Бродский и Галич. А сейчас я больше всего люблю поэзию Георгия Иванова, Кирилла Померанцева (ученика Георгия Иванова) и Юрия Одарченко. Что же касается Есенина, то мне претит его лирический надрыв; его, мне совершенно не близкое, поэтическое “нытье”.
— Есть ли в Вашей жизни место “презренной прозе” или занимаетесь исключительно поэзией?
— Что касается «презренной прозы», то мне ее писать просто неинтересно. Потому что это для меня рутина, болото. Хотя я могу и прозу писать. В прошлом году, например, опубликовал парочку своих рассказов 90-х годов в журнале «Новая Реальность». А стихи — это всегда праздник. Совершенно не понимаю тех поэтов, которые испытывают мучения, когда пишут стихи. Раз мучишься — не сочиняй! А так, напишешь пару-тройку стихотворений в месяц, и ходишь, балдеешь. Тем более, я всегда в стихах могу выразить все, что хочу.
— Цитата: “Моим литературным наставником и человеком, кардинально изменившим мои литературные вкусы, стал Евгений Ройзман. Его мнение для меня очень много значит“. Как Вы попали в группу “Интернационал” и как именно изменились Ваши литературные предпочтения после вхождения в нее?
— С поэтической группой «Интернационал» в ноябре 1986 года меня познакомил мой сосед Федор Еремеев. Сейчас у Федора свое издательство, в котором, кстати, в 2014 году и вышла моя вторая книжка «Русская Песня» (автор предисловия и составитель — прекрасный поэт, мой друг, Олег Дозморов). А первую мою книжку, «Стихи», в 1999 году издал Евгений Ройзман. В 1985 году я закончил истфак УрГУ, а Федору еще три года надо было учиться на биофаке. Федор всегда интересовался литературой. На биофаке, на его курсе, училась Юлия Крутеева, будущая жена Евгения Ройзмана. Сам же Евгений учился на истфаке, как и я. Но позже. А еще в нашу группу входил великолепный поэт Салават Фазлитдинов. Он тоже учился на одном курсе с Крутеевой и Еремеевым. В 1988 году к нам присоединился замечательный поэт Михаил Выходец, филолог. То есть, нас пятеро было. Многие считают, что и поэт Роман Тягунов входил в «Интернационал». Но это не так. Роман Тягунов просто был близок к нам. Примыкал к нам. Часто посещал нас и выступал с нами на одних и тех же площадках. Просуществовал «Интернационал” с 1986 по 1990 год. В это время «Интернационал» гремел во всем Свердловске. Не было в городе популярнее поэтов. Так вот, раньше моими приоритетами были Фет, Брюсов и Блок. А Ройзман дал мне почитать Мандельштама (в т.ч. и запрещенного, неизданного), Бродского и Галича. Вот и переворот! Для всей нашей поэтической группы эти три поэта были приоритетными. И с поэзией Александра Еременко я в «Интернационале» познакомился. Тоже переворот произошел, в некоторой степени. А потом Еременко часто стал приезжать в Свердловск. Выступал здесь (Еременко — однокурсник по Литинституту нашего поэта и прозаика Евгения Касимова). Что же касается моих литературных вкусов сейчас, то это — Георгий Иванов и Юрий Одарченко, прежде всего. Плюс немного: Александр Тиняков, обэриуты, Генрих Сапгир и поэты Лианозовской школы. А из ныне живущих и активно пишущих поэтов мне нравятся стихи питерского поэта Михаила Окуня (сейчас он живет в Германии), Татьяны Щербины и екатеринбургского поэта Виктора Смирнова. И Евгения Рейна. Но Рейн — это поколение Бродского… Еще стихи Игоря Иртеньева и Тимура Кибирова мне импонируют. Можно добавить пару-тройку имен… Из более молодых стихотворцев могу выделить екатеринбургских поэтов Юрия Авреха и Андрея Торопова. Но Торопов очень неровен.
— Повторюсь, Вас часто называют изощрённым стихотворцем, подразумевая под этим техническое мастерство. В связи с этим вопрос: есть ли (и если да, то много ли) в арсенале созданного Вами таких произведений, которые написаны не по призыву вдохновения, а как самоупражнение в техническом мастерстве; стихотворений, созданных пусть искусно, но искусственно?
— А зачем писать «искусственные» стихи?! Это то же самое, что и искусственные цветы. А искусственные цветы бывают и могильными. Мастерство, навыки, литературные приемы нарабатываются со временем. И позже все наработанное приходит в стихи самым естественным путем. Как само собой разумеющееся.
— Существуют ли темы, на которые Вам писать сложнее, в которых труднее выразить себя? А, возможно, есть и такие, которые являются внутренним личностным табу?
— Считаю, что писать можно обо всем. И, думаю, что могу писать обо всем. Для меня нет запретных тем, кроме смакования жестокости и убийства. И хулы на Бога.
— В автобиографии Вы говорите, что убеждены: существует два типа поэтов. Для первых жизнь (точнее, работа) и поэзия неразделимы, тождественны, для других (и к этому типу Вы отнесли себя) работа и поэзия чётко дифференцированы, отделены и отдельны. Вы не воспринимаете поэзию как вид профессиональной деятельности и (при удачном стечении обстоятельств) как способ заработать? Тогда что для Вас поэзия? Хобби? Способ и возможность самовыражения? Или нечто иное, Высшее, не поддающееся определению?
— Все очень просто. Поэзия для меня — самое главное в жизни. Нет поэзии — нет меня. Это моя главная работа. Ни в коем случае не хобби. Хобби — это марки собирать и т.п. Просто надо как-то деньги зарабатывать, чтобы ноги не протянуть, на какой-нибудь другой работе. Хотя она и мешает, и отвлекает, и бесит. Отнимает время от основного занятия — поэзии. Но приходится мириться. А в идеале, конечно же, если бы было на что жить, я бы никогда не работал. Ни на государство, ни “на дядю”, ни на себя даже. Мне много денег не надо. Только для удовлетворения самых насущных потребностей.
— У Вашего лирического героя, а, поскольку мы выяснили, что он тождественен Вам, то, значит и у Вас, как мне кажется, несколько нетрадиционное отношение к смерти. Нет в этом отношении ужаса конца, за которым пустота, Ничто. Это потому, что страшное, будучи высмеянным, уже не может быть страшным? Помните, у Бахтина в “Творчестве Рабле и народной культуре Средневековья и Ренессанса”: со страшным играют, над ним смеются. У Вас близкое к этому отношение?
— Что касается смерти, то у меня к ней, прежде всего, христианское отношение. То есть, за жизнью — жизнь. Потому что душа бессмертна. А потом уже все остальное. И, конечно же, умирать мало кому хочется. В том числе и мне.
— Меняется ли как-то Ваш лирический герой, а, исходя из Ваших слов, Вы сами с течением времени? Подозреваю, что безусловно. Но куда, как, в какую сторону меняется? Как это отражается на выборе тем?
— Мой лирический герой, конечно же, меняется. И почти все его изменения диктует накопившаяся усталость от жизни. Что же касается того, в какую сторону он меняется, то это зависит, прежде всего, от конкретной жизненной ситуации. От тех жизненных обстоятельств, в которых герой в данный момент находится. Настроение и эмоции, которые испытывает мой лирический герой в данный момент, определяют и жанры, и темы, и лексику и все остальное.
— Чем занимаетесь сейчас?
— Пока я в отпуске. Скоро опять придется пахать. 1-го сентября выхожу на работу. Есть время на то, чтобы и стихи спокойно написать, и книжки хорошие почитать, и музыку хорошую послушать. Что же касается новой книжки стихов, то, дай Бог, издать ее, хотя бы лет через десять. Очень уж это хлопотный процесс. И дело тут не только в материальной части. Хорошие стихи должны за это время накопиться. И еще я готовлюсь к съемкам документального фильма о Борисе Рыжем. Его будет снимать московский режиссер, который уже снял фильмы про Бродского и Сашу Соколова. Если, конечно, у этого режиссера не поменяются планы.
Беседовала Жанна Щукина
—
























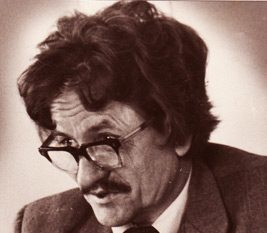







НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ