
Древний, как Греция, философ Аристотель считал лучшим, оптимальным, правильным серединный путь – путь воздержания от крайностей. Нет оснований спорить с величием античного мудреца, и хотя бы потому стоит сторониться резкости в критике. Кроме достоинств и недостатков написанного есть таковые и у пишущего, как причины созданного. И потому, громя и круша словесно, стоит всегда помнить (не)оправданность своих молний и грома, своих попыток Зевса. Человек, воспитанный не только культурным фоном места, окружением, своим списком предпочтений, редко может быть объективней, всесторонней того, чем он окружён, того, чем он преисполнен. В конце концов, любой человек – это способ быть. Писатель – в том числе. Не только способ писать, но и быть. У автора, как и у слова, есть свой контекст. Тем интересней воспринимать писателя не как автора безупречности (это крайне редкое свойство), а как способ вырваться из безмолвия, из тишины или гомона города, как способ речи. Сохранения её.
Известно, что самопровозглашённый гений – Игорь Северянин – оказавшись после гражданской войны в эмиграции в Прибалтике, заплывал на лодочке на озере в камыши и читал им свои стихи, продолжавшиеся в нём. Местные мужики, очевидно, были меньшими любителями поэзии, чем растения, и понимали их хуже. В общем, «не оставлял стараний маэстро, не убирал ладоней со лба».
Очевидно, что травля писателей была во все письменные времена. И перед тем, как Павел Васильев был убит, Осип Мандельщтам умер в пересыльном лагере, Варлам Шаламов после сроков в лагерях в тяжёлом состоянии скончался в психиатрической клинике в преклонном возрасте, перед подобными трагедиями личности прежде были слова и злословие. И молчание с замалчиванием – тоже действенный инструмент. И это ведь помня, что «поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». Бывали в истории личности, в том числе писатели-пропагандисты, оказывавшие огромное влияние на целые страны, и им не могли не оказывать чести в виде казни после Нюрнбергского трибунала, к примеру. Но, к счастью, люди «из когорты стихотворцев, из нашего бессмертного полка» не всегда и даже не слишком часто опускаются до пропаганды лживого, табуированного христианской культурой. Писать о них, порою так неумело отстаивающих себя в стихах, не преступно, ибо даже переступание правил русского языка, привычности речи, по сравнению с настоящими чудовищными вещами, к которым можно склонить словом, это «наши глупости и мелкие злодейства», которые «так обаятельны для тех, кто понимает»… («На фоне Пушкина снимается семейство…»)
–ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –¥–∞–∂–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π, —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π –ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞–µ—Ç, –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–µ –∏–∑ –∫–Ω–∏–≥, –∞ –∏–∑ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –°–æ–º–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –∏ –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –ú–∞–∫—Å–∏–º–∏–ª–∏–∞–Ω –í–æ–ª–æ—à–∏–Ω, –Ω–æ –µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –±—ã –±–µ–∑ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º –ø–æ—Å–ª–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏—è –≤ —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏—è—Ö, –±–µ–∑ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —É–¥–∞—á–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –±—Ä–∞–∫–∞, –±–µ–∑ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤ –≤ —Ç–µ—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –≥–¥–µ –æ–Ω –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è, —Å —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤–µ–¥—å — —Ç–æ–∂–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ. –ú–æ–∂–µ—Ç –∏–º –±—ã—Ç—å.
Максим Горький, возможно, поступи он в Казанский университет, стал бы профессором, учёным. Но к разочарованию юноши, мечты о высшем образовании пришлось оставить. Он же не оставил ни книг, ни писательства, ни тех своих «университетов», о которых потом напишет в известной трилогии. Так обстоятельства хотят стереть, стушевать, усреднить человека, но случается человек. Случается Горький, например. «Но» как смысл противостояния. Стояния и выстаивания вообще.
–ò –≤ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏–µ, –æ–¥–Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –ø—Ä–∏—Ç—á–∞. –£—á–∏—Ç–µ–ª—å —Å–æ–±—Ä–∞–ª —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–≤, –∫–∞–ø–Ω—É–ª –Ω–∞ –±–µ–ª—ã–π –ª–∏—Å—Ç —á–µ—Ä–Ω–∏–ª –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤–∏–¥–∏—Ç.
— –ß–µ—Ä–Ω–∏–ª–∞.
— –ö–ª—è–∫—Å—É.
— –ü—è—Ç–Ω–æ.
–£—á–∏—Ç–µ–ª—å –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∏ –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞–ª. –ó–∞–ø–ª–∞–∫–∞–ª, –∏–±–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –±–µ–ª–æ–≥–æ –ª–∏—Å—Ç–∞.
–¢–∞–∫ –∏ –Ω–∞–º, –ø–∏—à—É—â–∏–º –æ –ø–∏—à—É—â–∏—Ö, —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ –∏–≥—Ä–∞—é—â–∏—Ö –≤ –ø—è—Ç–Ω–∞—à–∫–∏, –Ω–∞–≤–µ—à–∏–≤–∞—é—â–∏—Ö —è—Ä–ª—ã–∫–∏, –∑–∞–ª—è–ø—ã–≤–∞—é—â–∏—Ö –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, —Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –æ –º–Ω–æ–≥–æ–º. –í —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, —á—Ç–æ –ª–∏—Å—Ç –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –≤–∞—à–µ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –µ—â—ë –±–µ–ª –∏ —á–∏—Å—Ç.










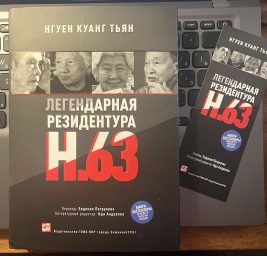





















–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô