Вильгельм Зоргенфрей. Собеседник
11.09.2025
– Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
—
– Я сегодня, гражданин,
Плохо спал.
Душу я на керосин
Обменял.
Если кто сегодня и помнит стихи Зоргенфрея, то только благодаря Георгию Иванову, приведшему в «Петербургских зимах» несколько отрывков. Вот этот и ещё стихи, посвященные знаменитой торговке Розе, одной из достопримечательностей издательства «Всемирная литература»:
На что нам былая свобода,
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь
Тут всё: и Зоргенфрей «пронзительно унылый» – определение Гумилёва, и Зоргенфрей-сатирик, в меру смешной и безукоризненно точный. Роза действительно сидела «насупротив» кассы, чтобы никто из её должников, получив гонорар, не проскользнул беспошлинно.
Когда тридцать лет назад я впервые прочёл «Петербургские зимы», мне захотелось узнать, что же это за поэт такой – Зоргенфрей? Тогда мне не удалось найти его стихи. Потом, прочитав его единственный сборник, я был поражён: как мало и как замечательно то, что он успел написать. По когтю узнают льва, а по этим считанным, скупым строчкам можно распознать настоящего поэта.
Про Сигизмунда Кржижановского говорили: «прозёванный гений». Сколько их, о ком справедливо сказать так же?
Георгий Иванов как никто другой умел схватывать то, что звучало в воздухе эпохи. Недаром на первых страницах «Петербургских зим» разбросано столько строк именно Зоргенфрея – так задаётся тон лучших воспоминаний о Серебряном веке.
Может быть, случайно, может быть, нет, но Зоргенфрею удалось стать голосом времени – недолгого периода, сконцентрированного вокруг 21-го года, вокруг того страшного лета, когда погибли Блок и Гумилёв…
Кажется, никто, кроме Георгия Иванова, этого голоса не расслышал.
Если и вспоминают Зоргенфрея, то не как поэта, а как второстепенного персонажа Серебряного века, блоковского собутыльника, того, кому посвящены «Шаги командора».
Зоргенфрей был, по словам Блока, одним из четырёх его действительных друзей.
После публикации «Двенадцати» остался единственным.
Разговоры о ничтожестве этих, «которых по великому снисхождению своему…. он называл друзьями», давно стали общим местом воспоминаний о Блоке. Владимир Пяст, Александр Гиппиус (вместо которого иногда упоминался Георгий Чулков), Евгений Иванов и Зоргенфрей. Некоторые из них были людьми во всяком случае оригинальными: Пяст – русская реинкарнация Эдгара По, Чулков – самобытный мыслитель, создатель мистического анархизма, и поэт Зоргенфрей. Никому из них не удалось преодолеть раз и навсегда заданную схему: гений и его нелепая свита.
Когда началась Первая мировая, Зоргенфрею удалось спасти Блока, пристроив его в инженерные войска, подальше от передовой. Это был единственный случай, когда Зоргенфрей позволил себе трактовать Блока несколько свысока и даже употребить слово «уклоняться», – хорошо ещё, что не «увиливать». Дурные слова не помешали Зоргенфрею совершить благое дело.
Нет недуга менее подходящего поэту, чем чёрная меланхолия. Поэту лучше быть самому по себе солнечным, весёлым и радостно-трепетным. Надо же что-то противопоставить свинцовому гнёту поэзии, надо хотя бы для того, чтоб осталось время записать несколько строк.
Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать хотеть излечиться, –
писал Зоргенфрею Блок, чья на редкость здоровая натура смогла выдержать двадцать с лишним лет нечеловеческой, почти ангелической поэзии.
Всех поэтов Серебряного века критики и теоретики привыкли беззастенчиво группировать: эти – символисты, эти – футуристы и так далее. Но мэтры школ, расхватывавшие всех, кто только появлялся на поэтической арене, Зоргенфреем не заинтересовались: никто не попытался его прибрать к рукам, – не того, казалось, масштаба фигура.
А сам он что? По дружбе с Блоком может быть отнесён к символистам.
И в самом деле, символизму он наименее чужд. Много писал о смерти, хотя даже кладбищенские стихи были написаны трезвым, ясным, классическим языком. Смерть в его стихах не была символистской «Смертью» с если не написанной, то с подразумеваемой большой буквы.
Зоргенфрей мог бы оказаться среди акмеистов, но не оказался.
Ты смотришь на бессмысленные вещи:
На ржавый снег, на сосны, на меня.
Чем не акмеизм с его болезненной конкретностью?
Позднейшие стихи Зоргенфрея, как и стихи Блока, уже ни к каким течениям было нельзя отнести.
Зоргенфрей написал две посмертных статьи о Блоке, назывались они без излишней оригинальности: «Блок» и «Александр Александрович Блок». В них было немного биографических данных или анализа поэзии, статьи были проникнуты неким мистическим ужасом перед явлением гения. В статьях была правда, какой бы превыспренней она бы ни казалась.
Жутко, наверное, было бродить с Блоком по грязным кабакам петербургских предместий. Ночь-заполночь, деньги кончились, пора домой, к скудному и сладостному мещанскому существованию, а никуда не денешься, не отстанешь, значит, совсем уже в чайные для извозчиков… Только алкоголь кое-как позволял ужиться, усидеться за одним столом с тем, кто одним своим существованием, даже молчаливым, делал таким страшным и отчётливым мир вокруг.
В этом мире, страшном, по его словам, и прекрасном, принял он, покорный необходимости, судьбу человеческую; жил и умер как человек. Но печать величия нездешнего и нечеловеческого присуща была каждому слову ушедшего, каждому звуку его голоса, каждому его взору.
Мать Блока считала, что никто лучше Зоргенфрея не написал о Сашеньке.
Зоргенфрей отмечал одновременно иконописность и античность блоковского облика.
Страшно видеть Божие присутствие на земле, страшно ощущать действительность Провидения. У Блока хватило сил выдерживать свою гениальность в течение нескольких десятилетий, но её радиоактивное излучение губило бывших рядом куда вернее и быстрее, чем самого носителя. Другой блоковский приятель – Пяст – и вовсе был постоянным клиентом сумасшедшего дома.
Общая мрачная напевность стихов роднит стихи Зоргенфрея с блоковскими. «Это стон у них песней зовётся», – писал Некрасов, и многие в Серебряном веке наследовали ему, может быть, и не признавая близкого родства с музой мести и печали.
Книга Зоргенфрея называлась «Страстная суббота». А что такое страстная суббота в христианской традиции? День самый мрачный, день смерти и тления.
Скудно, скорбно дни истрачены,
Даль пределы обрела,
Сочтены и обозначены
Мысли, речи и дела.
А одновременно это день, самый близкий к Пасхе. Ещё чуть-чуть – и мёртвые воскреснут!
Уходя, ты крест поцеловала…
Миг свиданья беден был и краток,
Но на влажном зеркале металла
Детских губ остался отпечаток.
В послереволюционной лирике мрачность Зоргенфрея обрела исторические черты. Он увидел результат русской революции, или шире – результат истории:
Там, к самой паперти оттёрт
Волной космического духа,
Простонародный русский чёрт
Скулит, почесывая ухо.
Как Иаков боролся в ночи с Б-гом, так поэт Зоргенфрей боролся с Блоком, пытаясь отстоять свою самобытность, но под конец Зоргенфрей безраздельно поддался блоковскому влиянию:
Вот и всё. Конец венчает дело.
А казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица.
Это стихотворение о похоронах разве не прямое продолжение блоковского:
Божья матерь Утоли моя печали
Перед гробом шла, светла, тиха…
Но и разница велика. Был страшный мир – стал антимир, в котором даже смерть ничего не значит, не даёт никакой надежды на воскресение… Блоку ещё казалось, что смерть что-то решает, Зоргенфрей был избавлен и от этой иллюзии. Становится ли от этого смерть менее страшной?
На Святой поведала супруга
С чувством скорби и без лишних слов,
Что в итоге тяжкого недуга
Умер муж, Иван Фомич Петров.
<…>
Лития особая, другая,
И особый, либеральный поп.
Зоргенфрей был остроумным сатириком, а в некоторых вещах ему удавалось сочетать сатиру со своей обычной мрачной лирикой, и тогда получались стихи, от которых дух захватывает.
Зоргенфрей по-блоковски считал Россию женой. Видимо, для пробуждения такого чувства необходимо быть немцем. Брак этот предполагает верность хотя бы с германской стороны…
Не прерывая кровной связи с кладбищенской темой, Зоргенфрей писал эпитафии некоторым своим ещё живым знакомцам. Вот что он написал Пастернаку:
В осколки рта, звенит об зымзу, споря
Со смертью, дождик, крещет гроб вода.
Что, не совсем понятно? Вам – полгоря,
А каково корректору? Беда!
Или эпитафия Ахматовой:
Стынут уста в немой улыбке.
Сон или явь? Христос, помоги!
На ногу правую, по ошибке,
Надели туфлю с левой ноги!
Когда Блок опубликовал поэму «Двенадцать», многие накинулись на него: одно гумилёвское «Блок, написав поэму, вторично распял Христа и расстрелял государя Императора» чего стоит. Русская публика дружно фыркнула и не менее дружно зааплодировала, прочитав «Двенадцать». За скандалом не разглядели поэзию.
Зоргенфрей смог затеять настоящий, стихотворный диалог с Блоком.
Вспыхнул сноп ацетилена.
Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.
Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.
Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.
Надо льдом костры горят,
Караул идёт в наряд.
На короткое время, на несколько стихотворений Зоргенфрей смог говорить с Блоком на равных. Отдавшись безраздельно, подчинившись влиянию Блока, Зоргенфрей поднялся на прежде недостижимые высоты… Он был захвачен блоковским гением и вознесён в безвоздушные сферы.
Может быть, Зоргенфрей написал то, что не мог, но должен был написать Блок. Тень поэта сама – поэт.
Ляжешь ты на Волковом кладбище,
Где Петров не догадался лечь.
Прах твой к месту вечного покоя
На руках поклонники снесут,
Скажут речь о недостатках строя
И тебя их жертвой назовут.
Эти стихи были написаны в 1913 году. Знал бы Зоргенфрей, чем обернётся его горькая пророческая ирония… Вспоминал ли он эти строки на похоронах Блока?
Вряд ли. До того момента, когда прах Блока был перенесён на Волковское кладбище, Зоргенфрей не дожил. Но «бывают странными пророками поэты иногда».
Зоргенфрей работал инженером да изредка публиковал переводы из немецкой литературы. В последние годы своей жизни Зоргенфрей если и писал стихи, то не печатал. Архив его был уничтожен после ареста, так что если стихи и были, то их уже не прочитать. Не думаю, что мы много потеряли: в России, потерявшей Блока, Зоргенфрею было нечего и незачем писать.
Казни Андре Шенье, Рылеева и даже Гумилёва добавили им посмертной славы. Зоргенфрея убили тогда, когда редкий счастливец из русской интеллигенции умирал от сердечно-сосудистых недугов. Да и весь народ был поставлен к стенке, какая уж тут личная слава, необщее выражение судьбы?
Но там, где прочие уходят в небытие, поэт уходит в бессмертие. Того, что успел сделать Зоргенфрей, вполне хватает для бессмертия.
Дмитрий Аникин
Tags: акмеизм и символизм, Вильгельм Зоргенфрей, Волковское кладбище, Дмитрий Аникин, история русской литературы, литературные друзья, мрачная лирика, Петербургские зимы, поэзия о смерти, поэт-спутник Блока, поэтическое бессмертие, пророчество в стихах, русская революция, сатирическая поэзия, Серебряный век, судьба поэта, утрата архива












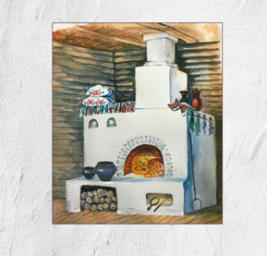
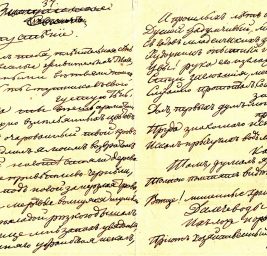


















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ