Соломон Воложин. «Хорошо о Серебренникове»
26.12.2017
/
–Ý–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—è
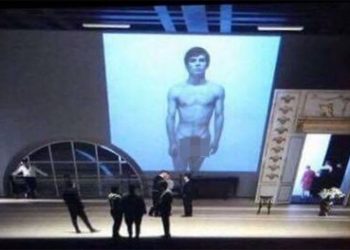
–ó–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å –æ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º, —è –ø—Ä–∏—Ö–æ–∂—É –∫ –≤—ã–≤–æ–¥—É, —á—Ç–æ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –Ω–∞ –Ω–µ—ë –ø–æ–≤–ª–∏—è–ª —É—á–∏—Ç–µ–ª—å —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –í–∞–¥–∏–º –§—ë–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á –¶—ã–±—É–ª—è–∫. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Å —Ç–∞–π–Ω–æ–π. –° —Ç–∞–π–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞. –ò –º—ã—Å–ª—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∏–ª—å–Ω–∞, —á—Ç–æ —É–º–µ–µ—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Ç–∞–π–Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –≠—Ç–æ –ø–æ—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ! –û–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞—è. –ù–µ –∑–∞–≤–∏—Å—è—â–∞—è –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—Ç–µ–Ω–∏–π¬Ý –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—è –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –∫–æ–≥–æ –±—ã —Ç–æ –Ω–∏ –±—ã–ª–æ.
–°—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å —ç—Ç–∏–º –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞ –∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —á–µ–º-—Ç–æ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–Ω—ã–º. –ù–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º —Å–∫–≤–æ–∑—å –≤–µ–∫–∞ –∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥—ã. –í—Å–µ, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —á—Ç–æ –õ–µ–æ–Ω–∞—Ä–¥–æ –¥–∞ –í–∏–Ω—á–∏ –≥–µ–Ω–∏–π. –ê –ø–æ—á–µ–º—É? –ß—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–Ω–æ –±—ã–ª–æ.
Естественно, что, кончив учиться в техническом вузе и начав самообразование эстетическое – чтоб понять это «почему Леонардо…» – я обрадовался, наткнувшись (не так уж и скоро, через 6 лет) на научность и в искусствоведении.
–ê –º–∞—Ç–µ–º–∞—Ç–∏—á–∫–∞ –≤ —à–∫–æ–ª–µ, –ò–Ω–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞, –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Ç–∞–∫ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–≤–ª–∏—è–ª–∞. –û–Ω–∞, —á—Ç–æ–± –Ω–∞—Å –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞—Ç—å, –Ω–∞—Å–∞–¥–∏–ª–∞ –¥—É—Ö —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –∫–ª–∞—Å—Å–µ. –ö—Ç–æ —Ä–µ—à–∏—Ç –¥–æ–º–∞ —Ç–∞–∫—É—é-—Ç–æ –∑–∞–¥–∞—á—É, —Ç–æ–º—É –ø—è—Ç—ë—Ä–∫—É –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª. –ö—Ç–æ –Ω–∞ —É—Ä–æ–∫–µ –ø–µ—Ä–≤—ã–º —Ä–µ—à–∏—Ç —Ç–∞–∫—É—é-—Ç–æ –∑–∞–¥–∞—á—É ‚Äì –æ–ø—è—Ç—å –ø—è—Ç—ë—Ä–∫–∞ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª. –Ø —á–∞—Å—Ç–æ –±—ã–ª —Å—Ä–µ–¥–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö. –ù–æ –∫ –ø–µ—Ä–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤—É –Ω–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏–ª—Å—è. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —É—á—ë–±–∞ –ø–æ —Ç–∞–∫–∏–º –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–∞–º –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º –≤ –∫–ª–∞—Å—Å–µ. –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–º –±—ã–ª–∏ —É—Å–ø–µ—Ö–∏¬Ý –Ω–∞ —É—Ä–æ–∫–∞—Ö —Ñ–∏–∑–∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã. –ê —Ç–∞–º —è –±—ã–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –≤–æ–æ–±—â–µ ‚Äì –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º.
Я это к тому, что в искусствознании я наткнулся на теорию художественности, практически не используемую никем! (А мне она казалась самой правильной.) Естественно, что, когда я дорос (сперва стихийно, а потом осознанно) до её применения, то я с большой частотой стал обнаруживать себя (да простится мне) первооткрывателем. А поскольку научное сообщество (цитирование в диссертациях не в счёт) меня не приняло (как и в классе я тут последний человек), то я и не очень-то горжусь, если напишу такое, до чего никто – в моём кругозоре – не додумался.
Плохо (кроме того, что это хорошо – свободен), что я оказался нерецензируемый. Меня стало заносить в сомнительные для меня самого догадки.
–û–ø–∏—à—É –æ–¥–Ω—É (–æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º).
–Ý–µ–ª–∏–≥–∏—è, –≤ –≤–∏–¥–µ —à–∞–º–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ –¥–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞. –ê —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–æ –∏–∑ —Ç—Ä—É–ø–æ–µ–¥–æ–≤. –¢—Ä—É–ø–æ–µ–¥—ã –∂–µ –æ—á–µ–Ω—å –¥–∞–≤–Ω–æ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–æ–ª–∏—Å—å. –û–¥–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Ç—Ä—É–ø–æ–µ–¥–∞–º–∏, –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ê –µ—â—ë –¥–æ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–∞ –≤—Å–µ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª—è–ª–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Ä—É–¥–∏—è –¥–ª—è —Å–æ—Å–∫—Ä–µ–±–∞–Ω–∏—è –º—è—Å–∞ —Å –∫–æ—Å—Ç–µ–π –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ, —É–±–∏—Ç–æ–≥–æ —Ö–∏—â–Ω–∏–∫–æ–º –∏ –Ω–µ–¥–æ–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ. –¢–∞–∫ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ä—É–¥–∏–π –≤—Å–µ–ª–∏–ª–æ ‚Äì –ø–æ-—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å, —Ö–æ—Ç—å —ç—Ç–æ –∏ –±—ã–ª–æ —É—Å–ª–æ–≤–Ω—ã–º —Ä–µ—Ñ–ª–µ–∫—Å–æ–º ‚Äì —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ —Å–µ–±–µ. –û–Ω–∞ –≤ —Ç–æ–º –±—ã–ª–∞, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ —è—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ—Å—Ç—Ä—É—é –∫—Ä–æ–º–∫—É —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –£–¥–∞—Å—Ç—Å—è –∏ –≤—Å—ë. –ü—É—Å—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ –≤ –±—Ä–∞–∫ —É–π–¥—ë—Ç. –ù–æ –∏—Ç–æ–≥ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –û—Ö–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∂–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –º–µ—Ç–∞—Ç—å –æ—Å—Ç—Ä—ã–µ –æ—Ä—É–¥–∏—è –≤ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã—Ö. –ò –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å. –ù–æ, –µ—Å–ª–∏ —Å–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –±—Ä–æ—Å–∫–æ–º, —Å–∫–∞–∂–µ–º, –ø–ª—é–Ω—É–ª –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–∏—ë –∏ –ø–æ–ø–∞–ª, —Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–æ—Å—å. –ê –ø—Ä–æ–º–∞—Ö–∏ –ø–ª–æ—Ö–æ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à—ë–ª —Ä–∏—Ç—É–∞–ª. –®–∞–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ —Å—É—Ç–∏. –í—ã—Ä–∞–∂–∞–≤—à–∏–π –≤—Å–µ—Å–∏–ª–∏–µ. –ò —ç—Ç–æ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –ª—é–¥–∏. –£ –Ω–∏—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã, —Ä–µ—á–∏.
–õ—é–¥–∏ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º, –ø–æ—è–≤–∏–≤—à–∏—Å—å –∏ —Å—Ç–∞–≤ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –ø–µ—Ä–µ–Ω—è–ª–∏ —É –Ω–µ–∞–Ω–¥–µ—Ä—Ç–∞–ª—å—Ü–µ–≤ —à–∞–º–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ (–∏–ª–∏ —Å–∞–º–æ–∑–∞—Ä–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–Ω–æ –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏–∑-–∑–∞ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á—å–∏—Ö –∂–µ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π). –ò —Ä–∞—Å—Å–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –ª—é–¥–∏ –ø–æ –≤—Å–µ–π –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç–µ. –ê —Ç—É—Ç —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤ –ë–∏–±–ª–∏–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–æ –í—Å–µ–º–∏—Ä–Ω—ã–º –ø–æ—Ç–æ–ø–æ–º. –ò–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ –∫–ª–∏–º–∞—Ç–∞, —Ç–∞—è–Ω–∏–µ –ª—å–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –±—ã–ª–∏ –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—ã –ï–≤—Ä–æ–ø–∞, –ê–∑–∏—è –∏ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–∞—è –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∞, –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å—à–æ–µ –ø–æ–≤—ã—à–µ–Ω–∏–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è –º–æ—Ä—è, –∑–∞—Ç–æ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã—Ö —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–π, –º–∞—Å—Å–∞ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã—Ö –∏ –ª—é–¥–µ–π. –≠—Ç–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–∏. –û–Ω–∞ –∏–∑ —à–∞–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π, –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π, —Å—Ç–∞–ª–∞ —É—Ç–µ—à–µ–Ω–∏–µ–º —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–π. –ë–æ–≥–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º–∏ –∏ –∑–ª—ã–º–∏. –ò —á–µ–º —é–∂–Ω–µ–µ, —Ç–µ–º –±–æ–ª—å—à–∏–µ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –æ—Ç –ø–æ—Ç–æ–ø–∞. –ê —á–µ–º —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, —Ç–µ–º –º–µ–Ω—å—à–µ. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ —É —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤ –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ —à–∞–º–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–æ—Å—å –¥–æ —Å–∏—Ö –¥–Ω–µ–π. –ê –≤ –î—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –ì—Ä–µ—Ü–∏–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–µ –º–µ–∂–¥—É —É–∂–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏ –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é.
Древнегреческие боги – воплощение вседозволенности (эхо шаманской победительности). А сами греки в тайне им завидовали. И хоть достичь богоравности было нельзя, но тайно стремиться к этой недостижимости – можно. – Идеал – я это так называю – ницшеанского типа.
Тут требуется новое отступление от темы, к которой, собственно, я ещё не приступал. (А она – о балете Серебренникова «Нуреев» (2017). Пока всё подступы…)
Ницше жил в XIX веке, но типы идеалов повторяются в веках, потому и вседозволенность с недостижимостью можно назвать ницшеанством и встретить, когда угодно. Но – обязательно, когда терпит крах коллективистского типа идеал. В той же Древней Греции поначалу были и страшные боги:
«О них напоминают некоторые фантастические образы греческой мифологии: змееногие гиганты, горгоны с волосами в виде клубка змей, сфинксы с женской головой на львином туловище, грифоны-полульвы-полуптицы и многие другие. Но все эти чудища были изгнаны из светлого и гармоничного мира олимпийцев, как об этом рассказывает в своей «Теогонии» Гесиод и некоторые другие поэты, и либо сброшены в пропасти мрачного Тартара, либо выселены куда-нибудь на самые дальние окраины земли, где с ними еще могли сражаться случайно забредшие туда герои» (Андреев. Цена свободы и гармонии).
–°—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –ø–æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ —Å –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∏–∑–º–æ–º, –∏ –≤ —Å–∏–ª—É –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª–∏–∑–º —Å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–º–∏ –±–æ–≥–∞–º–∏.
–ü–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ–º–æ—Å—Ç—å –∏–¥–µ–∞–ª–æ–≤ –º–æ–∂–Ω–æ —É–ª–æ–≤–∏—Ç—å –∏ –ø—Ä–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–º —Å–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä–µ—à–Ω–µ–π —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª–∏–∑–º–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –≥–¥–µ –¥–æ —Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Ç—É–≥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –∫–æ–º–º—É–Ω–∏–∑–º. –¢–æ –∂–µ ‚Äì —Å –∫—Ä–∞—Ö–æ–º –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∏–∑–º–∞ –≤ 90-–µ –≥–æ–¥—ã (–∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª–∏–∑–º) —Å —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–µ–π (–∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π). –ü–æ –∫—Ä—É–≥—É –≤—Å—ë –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è. –ò –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ —Ç–∞–∫–æ–π –∫—Ä—É–≥, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è —Å–æ–±–æ—é —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏—é –Ω–∞ —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏—é –Ω–∞ –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—É—é —Ä–∞–∑—Ä—É—Ö—É 90-—Ö –∏ –≤—Å–µ–¥–æ–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å.
Так вот круг не только повторяемость обеспечивает, но и какое-то, мистическое, если хотите, присутствие во всём противоположного. В силе – слабость…
Одним из проявлением силы у греков была красота. Все боги, пишет Андреев, молодые и красивые. О знаменитом сражении историк Геродот «счел нужным упомянуть о неком спартанце по имени Калликрат, который был признан прекраснейшим из всех эллинов, участвовавших в сражении, хотя и не успел никак проявить себя в бою, так как был сражен персидской стрелой еще до его начала». Гомосексуализм у них был оттуда же, из красоты. Нам это трудно чувством понять. Но нам, после двух тысяч лет господства христианства, и само ницшеанство в диковинку, в общем.
А слабость – это какая-то непостижимость красоты. Её во всей полноте всё-таки недостижимость. Или гонимость.
–ë—É–¥—É—á–∏ –≤ –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º—É –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º—É, –¥–∞ –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å—Ç—Ä–æ—é (—á—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –º–µ–∂–¥—É –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª–∏–∑–º–æ–º –∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–æ–º), –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –º–∏–º–æ —Å—É–¥—å–±—ã –ù—É—Ä–∏–µ–≤–∞, –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–≥–æ –∞—Ä—Ç–∏—Å—Ç–∞ –±–∞–ª–µ—Ç–∞, –∏ —Å –Ω–µ—Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏–µ–π, –∏ —Å–±–µ–∂–∞–≤—à–µ–≥–æ –∏–∑ —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–°–°–Ý –Ω–∞ –∏–Ω–¥–∏–≤–∏–¥—É–∞–ª–∏—Å—Ç—Å–∫–∏–π –ó–∞–ø–∞–¥. ‚Äì –í–æ—Ç –æ–Ω –∏ —Å—Ä–µ–∂–∏—Å—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –±–∞–ª–µ—Ç ¬´–ù—É—Ä–µ–µ–≤¬ª, –≥–¥–µ –∫—É–ª—å–º–∏–Ω–∞—Ü–∏–µ–π —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å—Ü–µ–Ω–∞ —Ñ–æ—Ç–æ—Å–µ—Å—Å–∏–∏ (–æ–Ω–∞ –∏ –≤ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏–º–µ–ª–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –±—ã—Ç—å) –≥–æ–ª–æ–≥–æ –ù—É—Ä–∏–µ–≤–∞ (–≤ –±–∞–ª–µ—Ç–µ, –ø–∏—à—É—Ç, —Å –±–∞–Ω–¥–∞–∂–æ–º –Ω–∞ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –Ω–∞ —ç–∫—Ä–∞–Ω–µ –∫–æ–º–ø—å—é—Ç–µ—Ä–∞ —ç—Ç–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ) —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ—É –ê–≤–µ–¥–æ–Ω—É.

В самом деле, красивая фигура видится. Только – в угоду отсталому, по мнению авторов, обществу – причинного места как раз залу и не видно. И тут – драматизм: надо считаться с отсталым обществом. Но – видно фотографу. А на какой-то миг – и залу всё-таки.

–ê —á—Ç–æ–± –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø–æ—à–ª–æ—Å—Ç—å –¥–∞–∂–µ –∏ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π —Ç–æ–ª–ø—ã, –≤–≤–µ–¥–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ—Ä–≤–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ —Å—Ç—É–¥–∏—é –ø–∞–ø–∞—Ä–∞—Ü—Ü–∏, –æ—Ç –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö (–¥–∞ –∏ –æ—Ç –∑—Ä–∏—Ç–µ–ª–µ–π –≤ –∑–∞–ª–µ) –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Å—Ç—É–ª–æ–º.

–ù—É –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ –ø–æ –º–µ—Ä–µ –∏–∑–æ–±—Ä–µ—Ç–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ö–æ—Ä–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∞. –ü–∞–ø–∞—Ä–∞—Ü—Ü–∏ –≥–µ—Ä–æ—è –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –∏–∑–ª–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é—Ç, —Å–∞–∂–∞—é—Ç –Ω–∞ —Å—Ç—É–ª, –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—é—Ç –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å—Ç—É–ª–æ–º, –ø–æ—Ç–æ–º –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ —Ñ–æ—Ç–æ—Å—Ç—É–¥–∏–∏ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç —Ö–∞–ª–∞—Ç, –∏ –≥–µ—Ä–æ–π, –∏–º –º–∞–Ω–∏–ø—É–ª–∏—Ä—É—è, –≤—Å—ë –∏–Ω—Ç—Ä–∏–≥—É–µ—Ç –∏ –∏–Ω—Ç—Ä–∏–≥—É–µ—Ç –æ–¥–Ω–æ –∏ —Ç–æ –∂–µ: —É–≤–∏–¥–∏—Ç –∫—Ç–æ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç.
Может, и затянуто. И потому – пошло, хоть и о борьбе с пошлостью. И Серебренников, как режиссёр, в ответе за такую накладку.
–ù–æ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –≥–µ—Ä–æ—è —Ç–æ–∂–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ.

Так вот, что если Серебренников балетом хотел сказать, что красота – превыше всего. Морали тоже. Ведь в художественных произведениях идею целого можно увидеть в малых кусочках. Как вкус моря можно понять по капле.
Это – вспомните начало статьи – признак научности в искусствоведении, встреченный мною при самообразовании. Если много элементов говорят примерно об одном и том же – так это и есть идея целого. Чем больше таких элементов, тем гениальней творец.
В сцене в фотоателье элемент, вроде, один и тот же – красота фигуры танцора.
Или ещё вседозволенность? Она как-то недостижима всё-таки. Мешают ей. Да и красота… Кто её знает, может, у данного артиста не предел её. А хочется – предел. А он неизвестен.
–û—Å—Ç–∞–≤–∏–º –ø–æ–∫–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–∞ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤ –±–∞–ª–µ—Ç–∞ (–º–Ω–æ–≥–æ –∏–ª–∏ –º–∞–ª–æ –≤ –±–∞–ª–µ—Ç–µ —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–æ–≤,¬Ý –≥–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏—Ö –æ —Ü–µ–ª–æ–º).
Закон-то искусствоведческий, когда-то первым мною обнаруженный, оказался неверным. (В науке всегда так. Любой закон оказывается со временем неверным. Единственно, что хорошо: новый или старый оказываются частностью один другого.) «Что хотел сказать автор», оказывается, включает в себя формулу: «Что хотел «сказать» автор». В кавычках «сказать» означает говорение подсознательного идеала. Сказал без кавычек – это более широкое: говорение или сознательного, или подсознательного идеалов. Они – разные!
–ú–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–∞ –ó–∞–ø–∞–¥–µ, –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏–º–µ–µ—Ç —Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏–¥–µ–∞–ª –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ—Å—Ç–∏ (–ú–µ—â–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –±—É–∫–≤—ã), –≤ –ø–∏–∫—É –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∏–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∫–∞–∫ –∏–º–µ–Ω—É—é—Ç –ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—ã –º–µ–Ω—Ç–∞–ª–∏—Ç–µ—Ç —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π, —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π. –ê –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –æ –Ω–µ—É–ª–æ–≤–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –ê–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –∏ –≤—Å–µ–¥–æ–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—Ç—å —É –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤–∞ –∂–µ –ø–æ–¥—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏–¥–µ–∞–ª –Ω–∏—Ü—à–µ–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞, –º–µ—Ç–∞—Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –Ω–µ–∫–æ–π, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–π —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–º—É —Ç–æ–º—É —Å–≤–µ—Ç—É.
–≠—Ç–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–Ω–∫–∞—è –º–∞—Ç–µ—Ä–∏—è, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ —É—á—ë–Ω—ã–µ, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—è –Ω–∏—Ü—à–µ–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ, –ø–ª—ã–≤—É—Ç. –¢–∞–∫ –®–∞–ª—ã–≥–∏–Ω–∞ –≤ –¥–∏—Å—Å–µ—Ä—Ç–∞—Ü–∏–∏ –æ –ß–µ—Ö–æ–≤–µ –Ω–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∞ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –µ–≥–æ –Ω–∏—Ü—à–µ–∞–Ω—Ü–µ–º –≤–ø—Ä—è–º—É—é. –ê –º–∞—Å—Å—ã –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç –ß–µ—Ö–æ–≤–∞ –≥—É–º–∞–Ω–∏—Å—Ç–æ–º.
–ß—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –∏ –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø–ª—ã–≤—ë—Ç? –û–Ω —á—Ç–æ: –ø–æ–¥–¥–∞–≤–∞—è—Å—å –Ω–∞–ª–∏—á–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–∑—Ä–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—É–±–ª–∏–∫–µ, –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ–± –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –≥–µ—Ä–æ—è –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ, —á–µ–º –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ? –ò–ª–∏ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∏–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å—ë –∂–µ –µ–≥–æ –ø–æ–¥—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–ª–µ–Ω—è–µ—Ç?
Если второе – он создал нечто художественное, выражающее ницшеанство как идеал. Если первое – у него получилась мещанская достижительность выраженной.
–ù—É, –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –ø–æ–¥—É–º–∞–µ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫.
Это я не для того, чтоб выделиться, написал, как когда-то в школе с математикой, а так, эвристической ценности ради. Вдруг верно…
Что могут быть верными противоположные оценки, я, конечно, отвергаю. Истина – одна.
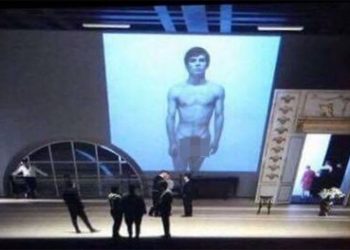



























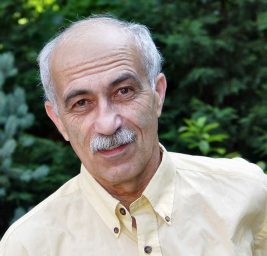






–ù–ê–ü–ò–°–ê–¢–¨ –ö–û–ú–ú–ï–ù–¢–ê–Ý–ò–ô