Новое
- «Если бы мы остались язычниками». Полифоническая реконструкция альтернативной России
- В поисках «истинного желания». О поэме в прозе Юрия Козлова «Мраморное одеяло»
- Андрей Сигле: «Кино – как течение жизни: если его не снимать, то его как бы и нет»
- Любовь, Париж и психоанализ: как филолог превращает душевные стенания в философские рассказы
- «Как на турецкой перестрелке…»
- Николай Бут — «Мир на Земле»
Соломон Воложин. «Откровение от Михаила»
30.05.2018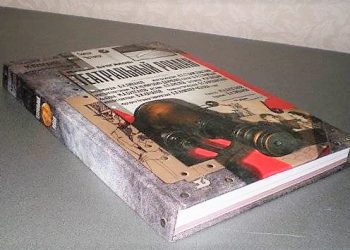
Я начну с цитирования того, что постепенно навязалось моему вниманию во второй главе:
«Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он её выпил, закусил куском колбасы».
«…выпили».
«…начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки».
«…выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич»».
«…поедая студень, приготовленный Дусей».
«Была ещё какая-то разведённая жена и один человек с гитарой в футляре».
«…и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно – выражение испуга, почему-то не покидавшего её весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке».
«…беспокоя няньку… в то же время выпивал».
«…испытывая мучения от его фамильярности».
«…поддержала его вторая разведённая жена».
«Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях».
«…взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука».
«(тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд)».
«- Ты п-пойми, пойми, пойми! – запел приятным тенором гитарист.
— И вот тебе мой сказ, — кричал пожилой, — ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!
Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:
— Т-ты пойми, пойми…
Как кот, я выкрадывался из квартиры…».
Глава была о том, как Максудов читал свой роман (непроходной для цензуры, как выяснится в следующей главе).
Человек искусства и мещане… Искусство и цензура… Мещан цензура устраивает.
Причём автор, Булгаков (это «Театральный роман»), судя по глазастости его Максудова, вовсе не зацикливается на романтическом презрении к мещанам.
Это я продемонстрировал, как я, увы, разучился читать книгу и получать удовольствие от чтения. Потому что наполовину нацелен (как Максудов – по сторонам) на улавливание, в чём скрытый (обязательно скрытый) художественный смысл всей вещи.
***
Какой-то комизм во всём чувствуется. И во второй главе. И в третьей… Она называется «Моё самоубийство». Вы ж понимаете – моё… К Максудову в комнату постучали – и у него сорвался палец с собачки пистолета. А пришедший (копия Мефистофеля), редактор Рудольфи, не только сорвал Максудову самоубийство при заблаговременно перегоревшей электрической лампочке, но и…
«Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов – вынул из портфеля тут же электрическую лампочку».
Тэк-с. Непечатаемый в СССР Булгаков издевается над кем (чем), осмеивая своего Максудова?
Я думаю, что осмеивает Булгаков саму цензуру.
Меерсон пишет:
«…для субъектной организации важна поэтика умолчания как сигнала больных мест или идиосинкратического видения того или иного героя или рассказчика, а именно того, кто умалчивает в данный момент» (Персонализм как поэтика. С.-Пб., 2009. С. 35).
Так раз всё же роман Максудова оказался опубликованным, а как – перед нами умолчание, то воля умолчать – всё-таки булгаковская ж. Значит, цензуру Булгаков и осмеивает. Ему особое удовольствие – суметь сказать то, что остальные не осмеливаются. Комизм для него, как шарик и напёрстки для напёрсточника.
***
Впрочем, не исключено, что меня не туда тянет. Я ж книгу читаю впервые. Я это к тому, что меня настораживает, вот, вторая часть 5-й главы. Если во 2-й пищевые подколки шли в адрес непотребных знакомых, слушателей чтения романа Максудова, то теперь автор что-то самого Максудова, попавшего в общество писателей таки, подставляет:
«Я оглянулся – новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; даже в чёрной икре сверкали искры…».
«Добротнейшей материи в сшитой первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал…».
«Бельё крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки…».
«…вспухнувшая лакированная кулебяка».
«Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету…».
«…горничная обносила осетриной».
Или это провокация, обманчивое впечатление? Ибо какие-то низменные безобразия всё рассказывает вернувшийся из Парижа писатель Бондаревский.
Так и оказалось.
Опять Максудов бежал от и этих мещан.
«Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен».
***
Хм. А потом у этого Максудова всё само собой наладилось. И он написал из того романа пьесу, а его нашёл театр. – Сказка. Волшебство. И на полном серьёзе. На этот раз с помощью «субъектной организации» было предоставлено читателю поверить, что человек нашёл своё призвание, а театр – своего драматурга. И не пахнет никаким негативизмом к порядкам и нравам в СССР. – Полная противоположность шести с половиной главам о литературе в той же стране.
Или это такой же ложный ход, как и выше разобранный?
«И я шёл по беззвучному сукну и пришёл в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный…».
«Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка…».
«И я сел в приятнейшее кожаное кресло».
«И я пошёл гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие, и ещё радовала таинственная полутьма и тишина».
«Тут я оказался в шатре. Зелёный шёлк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь».
Мне вспомнилось, как нам, едва ли не первым пассажирам парохода «Адмирал Нахимов», показывали корабль и завели в какую-то совсем шикарную каюту, всю выдержанную в зелёных тонах. Я такой роскоши к тому времени в жизни не видывал. Так я только и могу сказать, что диван там был бархатный. А всю остальную фактуру я б не назвал, будь я уже и пожившим человеком, а не студентом, как тогда. – То есть то, что я, вот, цитирую, имеет, подозреваю, эстетическую ценность – экстраординарное, иначе невыразимое, ибо обычные люди не могут так передавать обстановку, что её ещё чуть-чуть – и прямо увидишь, поосязаешь описанное.
…по беззвучному сукну… Эти з – с… Звонкие звуки иссякают в глухой.
… яркая радостная картинка… ркр – крк… Красочность.
… таинственная полутьма и тишина… тст – ттш… Тсс.
… горел хрустальный фонарь… р – р – р… Сверкание.
Как иначе ни скажешь – всё будет хуже. И изысканность нагнетается этими повторяющимися «и» в начале предложений.
Но.
Не есть ли и это – ловушка, как прежние две?
Тут сложно.
И обнажается сложность в самом первом у человечества произведении искусства. В ожерелье из ракушек (ему 130 тысяч лет). Эту экстраординарность совместно сделали, чтоб не сойти с ума от противоречивости, бесшёрстные внушаемые самки, когда очередной из них шерстистый состадник-вожак-внушатель не сумел внушить отдать детёныша не съедение стаду. И поступать самке против стада нельзя, и поступать против дитяти – тоже. – Тогда – в третье. В экстраординарное. В ступор вводящее самого внушателя. И тогда и МЫ, бесшёрстные, люди, не такие, как ОНИ, шерстистые, нелюди! И – спасена человеческая жизнь! – Первый нюанс стал изменяться в историческом времени. Например, в 30-е годы в СССР: при всём единстве народа, строящего социализм в капиталистическом окружении подсознательного презрения достойны мещане, соглашающиеся, что цензура – норма, что обеспечит победу социализма над капитализмом при скором военном столкновении. А пример вечного, неизменяемого торжества жизни – это фонтанирование воображения при изображении мелких и крупных роскошеств. Первое – художественность. Второе – эстетичность.
Так не начал ли издеваться Булгаков и над деятелями театра, погружёнными всего лишь в эстетичность и творящими тоже только её?
«Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решился, но всё же это страшновато… Но, умирая. Я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович».
И я только усилием воли воздерживаюсь цитировать волшебное, увиденное Максудовым.
Но попал герой не в театр, а в змеюшник. Так представляется в конце главы 9-й.
И всё как-то становится на место.
Весёлая книга.
Сквозь невидимые миру слёзы…
Я почти на половине книги.
***
А можно всё до сих пор цитируемое понимать не эстетически, а художественно, то есть как выражение идеала по противоположности. Тут уже имеем дело не с искусством слова, а – как это называет Вейдле – с искусством вымысла. В частности, вымышлена такая обстановка, которая выражает «фэ». Соответственно видим тенденцию к овеществлению слова. Смотрите, какой выбор слов:
«рюмку водки», «сардинку», «куском колбасы», «портвейна», — это с самого начала. А вот дальше: «хрусталь», «чёрной икре», «материи», «костюм», «бельё», «кулебяка», «осетриной». А вот ещё далее: «сукну», «кресло», «шёлк»…
Причём всё хорошие вещи… И Булгаков субъектной организацией отношения к этому хорошему (даже подзаголовком «Записки покойника»), своим одухотворённым Максудовым сводит всю эту прелесть на нет. Зачем? Затем, чтоб закричать, что социализм извращается, что готовится перерождение в капитализм. Автор с ненавистью как бы предвидит будущую через полвека перестройку и крах так называемого социализма.
Искусство вымысла тут состоит в уникальности столкновения материального с духовным, которое иначе и не выразишь. (Водка тут заменима на, например, коньяк, вообще искусство слова тут не имеет такого большого значения. Иначе-невыразимость обеспечивается искусством вымысла.)
Если думать. Что настоящий социализм – это когда с каждым днём увеличивается самодеятельность за счёт государства, то ясно и отвращение Булгакова к цензуре описываемого им времени. И, пожалуй, такой уникальный авторский идеал с большой долей вероятности можно счесть подсознательным. Ибо государство всё делало, чтоб подобные мысли не возникали у людей или оставались неосознаваемыми.
Не в том ли разгадка того, что Сталин Булгакова не загубил, а способствовал его принятию в театр (что и дало материал для «Театрального романа»)? Чуял глубинную Булгакова правоту. Есть даже такие историки, что в политической деятельности Сталина усматривают попытки отстранить партию от прямой власти, и сделать её как бы духовным орденом
***
Собственно, что мне прибавит чтение остального романа? Разве надо выпивать всё море, чтоб понять его вкус? Или, как написал тот же Вейдле в «Эмбриологии поэзии»:
«Не столь обширны… единицы… в которых может обозначаться «фокус» или высказаться «основное содержание» вымысла».
Но я ж могу воспользоваться чтением до конца ради проверки моей догадки о художественном смысле всего романа… Если продолжение мою версию обрушит, поищем другую, которая всё-всё-всё объяснит.
***
Я думал, что писать буду, прочитав до конца. Но конец 11-й главы меня ошеломил. Она про театральную контору, где Филя распоряжается, кому дать билет, кому нет. – Это такой фейерверк любви к жизни! И такой праздник искусства слова… А – суета всего лишь. И Максудова она приводит к такой фразе:
«О. чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!».
Вот теперь я точно на середине романа. А по сюжету – пьеса напечатана на машинке.
Я не могу представить себе такое траурное умонастроение. Всё – хорошо… Пьеса принята театром… Нет и намёка, что тут её игрою извратят…
Может, надо думать, что Максудов в своей рукописи (которую в «изданном» виде мы читаем) вписал это прощание непосредственно перед самоубийством? Вписал – как художник – в самое жизнерадостное место… И тогда то, что я прочту впереди всё объяснит?..
***
Я опять не выдерживаю. Из-за вот чего (в главе 13-й):
«Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому браться за перо».
Я совершенно согласен. Так я в растерянности. Максудов описал как последнюю дрянь содиректора театра Ивана Васильевича. Понятно, в частности, отчего Максудов покончит с собой. Ну? А имя Булгакова не позволяет думать, что он плохой роман написал… И в чём тогда мне почуять его, Булгакова, любовь к этому чучелу, содиректору?
Вот Гоголь Хлестакова любил, так КАК он выдавал, помнится, как Хлестакова несло!.. – Рот открыть от ошеломления.
Цитата про любовь к героям – это внутренний монолог, пробующего переделать пьесу Максудова, ненавидящего мать главного героя, в которую превращена его сестра по воле содиректора. А всё время имеешь в виду, что Булгаков имел в виду собственные его «Дни Турбиных», превращённые в пьесу из «Белой гвардии» с сестрой Еленой, где мать похоронена во втором абзаце. Так, помня, какое средоточие семейственности и уюта была именно сестра… Может, мне удастся почувствовать авторскую любовь к маразматику Ивану Васильевичу?
«И Иван Васильевич, всё больше входя во вкус, стал подробно рассказывать… Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених…».
Вот это канцелярское «надлежало», это «входя во вкус», будучи точнейшими признаками самодура, может, и есть проявление любви Булгакова? Чем это хуже гоголевских «тридцать пять тысяч одних курьеров!»?
Или у Булгакова – искусство вымысла, безразличного к искусству слова. И достаточно идиотизма замены сестры матерью и, соответственно, удаления жениха дочери, чтоб мне восторгаться степенью придуманного идиотизма? Ибо это ведь по отношению к художественному произведению… В котором есть структурное единство… То есть после окончания уже не выбросить ни одного эпизода… И с чьей стороны идиотизм? – Со стороны знаменитого режиссёра!.. – В смелости Булгакову не откажешь…
Столько яду, может, потому, что Независимый Театр оказался аналогом тоталитаристской стране, гробящей собою социализм?
***
Идиотизм гомерический (да простится мне такое словоупотребление). Этот театр – учреждение ультразмеюшное. Сестру в мать потому надо было переделать, чтоб играла преклонных лет заслуженная какая-то актриса…
Вот где искусство вымысла! Всё, конечно, утрировано относительно реальности. Все прототипы, наверно, потому, думаю, и не обиделись на Булгакова.
(Я всё-таки не удержался не писать, пока не дочитаю до конца. Но уж больно ошеломил Булгаков.)
Как можно было такое придумать?! А ведь дан образ перерождения социализма. Ну в самом деле. Если главное – не искусство, а личные интересы престарелых основателей театра, то чем это не образ перерождающегося строя: главное не общественные ценности, а личное благополучие номенклатуры. Отсюда эта непомерная роскошь в театре. Эта чуть не случившаяся изысканная обжираловка при обсуждении пьесы со старейшинами.
«-…Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу?…. пирожное?»
Одно плохо. Я боюсь, что надо было скрывать в душе слишком много ярости на окружающую действительность, чтоб так остро вымышлять. И тогда – прощай подсознательный идеал настоящего социализма. (Что не натяжка с моей стороны примыслить социализм Булгакову, бывшему в белой армии, я уверен. Достаточно вспомнить пару строк из «Белой гвардии», как вербовался в защитники Киева от Петлюры Турбин:
«– Гм… – полковник глянул в окно, – знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях возможно… Тэк-с… – он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос: – Только… как бы это выразиться… Тут, видите ли, доктор, один вопрос… Социальные теории и… гм… вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди?».
Турбин отвечает, что не социалист. Но приходит в голову, что Булгаков-то — Как все интеллигентные люди – как раз и есть социалист в последней глубине души. И тогда я – со своим пунктиком насчёт подсознательного – всё-таки спасён.)
Но рано мне радоваться спасению. Булгаков настолько непредсказуем… В конце первой части пьесу, неизменённую, каким-то чудом в театре взялись-таки репетировать. – И как, скажите, теперь всё вывернется к плохому, чтоб Максудову с собой покончить? (А про прототип пьесы Булгакова известно, что она имела колоссальный успех.)
Так. Прочёл 15-ю главу (первую второй части). Про перерыв репетиции. Суета, как когда-то про печатание пьесы на машинке между миллионом других дел. – Деловой восторг же опять! Как про фугу кто-то сказал: все пассажиры живут своей жизнью, а все мчатся в автобусе по общему назначению. Где предчувствие самоубийства? Неужели Булгаков скис? Как часто неудачный конец смазывает всё хорошее, что было.
А осталась последняя глава.
С ума сойти! Он просто сведёт с ума своего Максудова?
Ну правильно. Всё ДОЛЖНО кончиться плохо. И всё. Случайным образом даже и лучше. Ибо это не случай – всё возрастающая неприязнь содиректора – а скрытая закономерность.
Содиректору нужно, чтоб персонаж не застрелился, а закололся. Тоталитаризм? – Да! Окостенение идеи. Как с диктатурой пролетариата. Идея тут – система Станиславского. А её автор – прототип содиректора. И – он… гробит игру! Как Сталин гробил социализм.
И – любимый приём Булгакова – гастрономический (раз персонаж любит, пусть съездит «на велосипеде для своей любимой девушки, — распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепёшку [курсив мой]»)…
Центропуп.
Больше о себе лично заботится, чем о деле, которое им затеоретизировано.
Содиректор губил творение Максудова.
Может. Яснее будет, если процитировать Вейдле об извращающем исполнительстве. Только сначала – стихи, о произнесении которых пойдёт речь:
Каменный гость |
Каменный гость |
Моцарт и Сальери |
Дон ГуанЯ не должен ревновать.Он вами выбран был.Дона АннаНет, мать мояВелела мне дать руку Дон Альвару,Мы были бедны, Дон Альвар богат.Дон ГуанСчастливец! он сокровища пустыеПринес к ногам богини, вот за чтоВкусил он райское блаженство! |
Дон ГуанДождемся ночи здесь. Ах, наконецДостигли мы ворот Мадрита! скоро |
СальериЭти слезыВпервые лью: и больно и приятно,Как будто тяжкий совершил я долг,Как будто нож целебный мне отсекСтрадавший член! |





























1 комментарий
Александр Васильевич Зиновьев
23.08.2018Я (ночь переходящая в раннее утро, естественно ничего кроме зелёного чая не выпил, поэтому в растерянности по ТАКОЙ огромной по сему дню эпитафии. Но интерес зародился, поэтому… придётся заныривать.